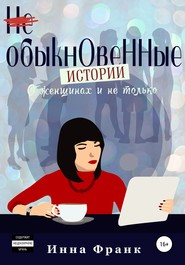 Полная версия
Полная версия(Не) обыкновенные истории, О женщинах и не только
Нам было по 20 лет в начале девяностых, и жизнь нам казалась прекрасной, несмотря на ежедневные перестрелки и разборки на улицах наших небольших городов. Мужчины нашей мечты все были сплошь в бордовых пиджаках, с бычьими шеями, на которых красовались золотые цепи.
Знаете шутку тех времен: как по тому, где ставится ударение в слове «цепочка», понять, какого веса это ювелирное изделие? Если вам говорят, что это «цепочка» – ударение на «о», то имеют в виду рядовую цепь весом от 1 до 10 граммов. А вот «цепочка» с ударением на «е» – это символ девяностых весом от 25 до 600 граммов золота 585 пробы. Такие примитивные изделия – символ зарождающегося капитализма.
Но если отвлечься от романтической составляющей тех времен, все остальное было из рук вон плохо. В институтах мы получали высшее образование, которое нам было уже не нужно, так как развалилась система распределения и развалились сами предприятия, на которых мы должны были работать. Получив свои дипломы, каждый из нас лихорадочно думал: куда идти работать.
Всем стало понятно, что надо куда-то двигать, чтобы как-то где-то работать и, желательно, развиваться. Это стало отправной точкой всех мытарств моего поколения – великая миграция. Наши небольшие города, при Леониде Ильиче бывшие тихими и безопасными, стали настолько криминальными, что мысль о переезде была одной из самых насущных. Все искали какие-то лучшие места…. Стали сниматься с якорей и куда-то переезжать. Началась великая миграция великой страны.
Инженеры больших городов союзных республик переезжали в небольшие поселки в центральной России и шли работать на рынок. Директора крупных оборонных предприятий шли в сторожа. Учительницы уходили на панель. Партийные лидеры – в бизнес. Если посмотреть, сколько моих одноклассников уехало с малой родины, то это не менее половины. И у всех такая история. Где бы мы ни жили, в Сибири, в Дагестане, в Молдавии – многие поменяли место жительства.
Мы переехали в места с другими традициями, и нам всем пришлось трудно… Мы годами наращивали друзей, с трудом находили дело по душе, а замуж выходили или женились вообще с большим трудом – ведь все вокруг было другим. Нам понадобились годы, чтобы обрести устойчивость и уверенность на новых местах. И годы эти были такие лихие, полные отвратительных междоусобных войн, грандиозных экономических кризисов, криминального разгула, что иногда я думаю – а как вообще мы выжили?
И вот, наконец, двухтысячные. Наконец, посадили в тюрьмы рэкетиров и назвали их, как положено, бандитами. Наконец, все снова вспомнили, что в стране есть государственные органы, такие как милиция, прокуратура и муниципалитет. Как-то все подтянулись и успокоились. Наши расшатанные нервы потихоньку начали приходить в норму.
Нам уже за 30. Молодость прошла. А дел невпроворот –мы еще только образовали семьи, еще только начали осознавать, какую карьеру хотим строить…. Поэтому в двухтысячные нам пришлось трудиться еще сильнее, но уже более результативно. И многие из нас в этом преуспели – и карьеры задались, и дети подрастают.
Теперь нам по 40, а за плечами у нас такие жизненные перипетии, что ни дай бог никому. Мы – поколение обманутых людей. Нас растили для развитого счастливого социализма, а когда мы выросли, как нежные цветы – нас бросили в зарождающийся бандитский капитализм. Мы выживали, как могли, а когда наступила благоприятная стабильность, нам на пятки начали наступать молодые, выросшие смелыми, наглыми, без царя в голове. И опять нам нет покоя, потому что надо отстаивать свое место под солнцем, а мы очень не хотим его потерять – оно тяжело нам далось.
Думаете, после всего этого у нас здоровая психика? Нет, конечно, нет.
Думаете, кто в 2011 году во время египетской революции, когда на площади Тахрир бушевал вооруженный народ, а в закрытый Каирский исторический музей с заднего входа стучали разгневанные российские туристы и требовали предоставить им оплаченную экскурсию, думаете, кто они были? Это были мои сверстники, люди, которые не боятся катаклизмов.
Кто совершенно безбашенно лезет в океан с гарпуном для того, чтобы поохотиться на мурену, а еще лучше – на акулу в тот момент, когда пляжи закрыты в связи с появлением акул, а окружающие иностранцы в ужасе прижимаются к лежакам? Это мои однокашники…
Кто преодолевает границу с Белоруссией для того, чтобы перехитрить Российское правительство, запретившее своим гражданам лететь в Египет в связи с терактами в самолетах, и все-таки улететь на Белорусском самолете в этот самый Египет? Это те, с кем я сидела у костра в пионерлагере и пела советские песни.
Бесстрашные люди, которые могут рассказать вам не одну страшную сказку на ночь, причем из своей жизни или из жизни соседа.
И теперь мое поколение столкнулось с еще одной проблемой – надвигающейся старостью. И никуда от этой проблемы не денешься. Гарпуном не проткнешь и не объедешь на машине.
Психологи скажут: это не проблема, вы просто должны принять эти возрастные изменения и смириться с ними. Но, дорогие психологи, не надо говорить это людям, которые всю свою юность и молодость боролись за выживание и толком не насладились тем, чем положено наслаждаться в молодости.
Не будем мы смиряться и принимать эти возрастные изменения!
Мы останемся молодыми еще лет на 10. Как раз на те годы, которые у нас отняла наша горькая история. Мы ходим в спортзал, мы все бросили курить, хотя в те годы это было модно. Мы почти не пьем! Если мы имеем отдых, то он активный – экскурсии, походы, экстрим. Мы стараемся не толстеть – лишний вес старит! Мы следим за всеми трендами! Мы чатимся в соцсетях и вывешиваем селфи в инстаграммах. Наконец, мы заводим молодых любовников!
И черт его знает, куда еще заведет нарушенная психика все мое поколение 40-летних!
Ветер
перемен
(Wind of changes)
«Плюрализм мнений» и «гласность», которые ввел в обиход многоуважаемый Горби в середине 80-х, сделали свое дело, и огромная махина социалистической державы вступила в процесс интеграции в мировое сообщество.
Начался химический процесс диффузии. Молекулы одного вещества проникали в промежутки между молекулами другого вещества.
Этот процесс был на пике в самом начале 90-х годов, когда СССР уже исчез, а СНГ только появился на свет.
В нашем случае молекулы эти были – люди, одежда, песни, языки…
Грянула мода на дружбу между странами. Особенно стремились сдружиться Россия и США. Помните российскую группу «Парк Горького» или Gorky Park, которые в 90-91годах распевали хит «Moscow calling…»?
В ответ им из-за бугра отзывались Scorpions: Follow the Moscva, Down to Gorky Park listening to the wind of change…
Да, это был мощный ветер перемен. Период великого оптимизма, надежды и мечтаний. Nautilus Pompilius пел: Goodbye, America… А мы все, наоборот, надеялись, что Hello, America.
На этом ярком срезе новейшей истории нашей страны со мной случилась интересная история.
Мне было 18 лет, я заканчивала первый курс худграфа Махачкалы, когда к моему однокурснику приехала в гости самая настоящая американка.
Пожилая дама, миссис Томпсон из штата Вашингтон.
А приехала она по программе обмена в рамках новой дружбы между старыми врагами. Уж не знаю, ездил ли кто из наших к ним, в Америку, а вот к нам ездили и жили в обычных российских семьях в наших обыкновенных квартирах. Ели, пили, ночевали вместе с хозяевами, жили, можно сказать, рядовой российской жизнью.
Миссис Томпсон попала в интернациональную дагестанскую семью, где папа был лакец, а мама армянка. Имея в паспорте свои национальные настоящие имена, все члены семьи имели русские аналоги, которые всем были удобны. Папа был Миша (Магомед), мама Аня (Ануш), мой однокурсник был Саша (Искандер), а его младшая сестра Марина (Маринэ).
Ни один из них не владел даже азами английского языка. Это не послужило помехой для того, чтобы к ним в семью поселили американскую даму.
Тут Саша вовремя вспомнил обо мне как о человеке, постоянно изучающем английский язык, и однажды вечером нагрянул ко мне домой с мольбой срочно последовать за ним и помочь с американкой, так как к этому времени весь их талант к жестикуляции и богатой мимике уже исчерпал себя.
Я с самоуверенностью юношеского максимализма ответила «Не вопрос» и проехала к месту дислокации гостьи, то есть к Саше домой.
Американка была очень милой дамой, до сих пор вспоминаю ее с теплотой, так как именно благодаря ей я навсегда избавилась от страха говорить на неизвестном мне языке и наработала отличную языковую практику, которая мне потом не раз пригождалась…
За неимением лучшего мой английский был признан годным, и я прожила в доме у Саши 3 счастливых дня! За эти дни американской гостье были продемонстрированы все традиции Северного Кавказа. Ее свозили в горы, покормили шашлыком из отличного молодого барашка, искупали в Каспийском море, а тетя Аня пару разу лично для нее варила борщ.
Миссис Томпсон со своей стороны удивила нас первым фотоаппаратом «Полароид» и снимками, сделанными с его помощью. У меня до сих пор в коллекции есть несколько снимков с замечательной американкой.
Ей все было интересно, но, учитывая мой небогатый словарный запас, думаю, в основном она черпала свои впечатления от визуализации.
В один из дней она стала свидетелем бурной сцены встречи дальних родственников тети Ануш. Мы гуляли по набережной Махачкалы, демонстрируя иностранной гостье розовые клумбы и морской прибой, когда к нам подошла небольшая стайка разновозрастных женщин и накинулась с радостью на тетю Ануш. «Ануш, ты ли это, дорогая? Как давно мы тебя не видели! Ай-яй! Разве не помнишь, я дяди Рубика дочка, мы с тобой на свадьбе Захара виделись…»
Тетя Ануш почувствовала небольшое стеснение от этой шумной ситуации, ведь почетный гость нуждался в важной солидной прогулке, а не в сутолоке подзабытых родных… Она смущенно сказала что-то в ответ и указала на нашу миссис Томпсон: «К нам гости приехали из Америки… Вот, гуляем…»
Родственники оторопели, ведь тогда увидеть человека из США было все равно что сейчас увидеть инопланетянина… Пестрые добродушные женщины тоже в ответ смутились, заулыбались и поспешно покинули место встречи… Думаю, с этого дня, престиж и репутация семейства Джалиловых выросли в разы – американцы в гостях! Не шутка!
Миссис Томпсон относилась к сдержанному типу иностранцев, поэтому такое бурное проявление кавказской добросердечности ее искренне поразило. Судя по ее поджатым губам, у них в штате Вашингтон не было принято так бросаться в объятия малознакомым родственникам с какой-то свадьбы. Тем не менее, ей это было удивительно и приятно, о чем нам сказала ее последующая доброжелательная улыбка и очередной снимок «Полароида».
Далее миссис Томпсон побывала на обычной российской даче, где большой стол на веранде был заставлен едой от одного конца до другого. Ее удивленный взгляд из-под очков ошарашенно метался от шашлыка к сулугуни, от кинзы до блюда с овощами, от аджики до бутылки с прохладной водкой.
Народ за столом выпивал и хорошо ел, переводчик тоже. Миссис Томпсон пригубила маленькую рюмочку, и мы разговорились.
Она много чего поведала о своей заморской жизни и показала фотографию внучки, которую с улыбкой называла little devil. Девчушка на фото была мулаткой, а невестка миссис Томпсон – чернокожей женщиной.
Мы, конечно, деликатно промолчали, но для нас это было так же удивительно, как для миссис Томпсон встреча шумных родственников на бульваре.
Во всей этой истории еще мне запомнилась младшая сестра моего однокурсника Марина. Тогда ей было лет 13-14, живой любопытный подросток.
Если для нас, взрослых, вся эта история с миссис Томпсон была чем-то из ряда выходящим, то для Марины – это был большой взрыв!
Юное создание было шокировано этой новой реальностью, новым неизвестным языком, иным образом жизни, противоположным темпераментом и вообще доселе неизведанным миром.
Мои переводческие способности это дитя оценила на 10 баллов из 5 и смотрела на меня с огромным восхищением. Ведь я была для нее – заместитель бога на земле, связующее звено между старым и новым мирами.
Я была совершенно не удивлена, когда через 3 года Марина поступила на «иняз»!
Американка миссис Томпсон уехала от нас в хорошем настроении с огромным пакетом кавказских сувениров. Ей были подарены настоящие табасаранские джурабы, кубачинский кинжал, унцукульская курительная трубка и бутылка кизлярского коньяка. В ответ она подарила полюбившийся нам всем «Полароид» и нагрудный значок с американским флагом.
После расставания семья Джалиловых даже получила от нее пару писем, с которыми Саша опять примчался ко мне вечером на своей тонированной девятке. Мы мучительно переводили ее пожилой почерк и разглядывали фотографии любимого сына Дэвида с чернокожей женой Гвендой и little devil Элис…
Я что-то писала в ответ, но переписка не заладилась… Жизнь взяла свое и отдалила нас…
А потом последовали новые удивительные годы, и Саша с друзьями в 96 году сам поехал в США в составе российских болельщиков на олимпиаду в Атланту, где выступали дагестанские борцы.
И тоже привез много интересных впечатлений от Америки, футболки с американским флагом и бейсболки.
Диффузия активно продолжалась, молекулы перемешивались. И ничто не могло угомонить ветер перемен!
Зарбазан – наш талисман
Когда-то я училась на худграфе педагогического института города Махачкалы. Это было в девяностые, смутные и веселые годы.
С годами смута и негатив стерлись из памяти, а вот веселье и юношеские приключения до сих пор бередят душу. Проведенные на худграфе 5 лет я официально считаю лучшими годами своей жизни.
Художественно-графический факультет был отдельно стоящим зданием и никак не соотносился с другими факультетами пединститута. У нас была, как говорится, своя епархия. Рукастые и творчески одаренные студенты худграфа за многие годы его существования превратили обычное бетонное здание в произведение искусства. Внешне скромное, внутри помещение было сплошь украшено барельефами, живописными полотнами, художественной резьбой по дереву и ручной росписью по ткани и керамике. Всяк сюда входящий в первый раз открывал рот от изумления – очевидно, это был другой мир, мир небожителей, тех, кто умеет в руках держать кисть, карандаш, стамеску и вышивальную иглу…
Еще особый колорит худграфу придавал местный пес, обитавший на вахте, звали его Зарбазан. Был он беспородной, коротконогой дворнягой грязно-коричневого цвета. Обладал довольно скандальным характером, и мы частенько слышали в своих аудиториях его возмущенную собачью ругань. При таком явном нарушении порядка и правил эксплуатации учебных заведений Зарбазан почему-то пользовался защитой всего начальства факультета. Декан и остальные серьезные дяди умильно улыбались, когда слышали простонародный лай нашего охранника, и качали головой: «Опять кто-то чужой зашел». Да, Зарбазан знал весь коллектив худграфа, а это 5 курсов, стафф и преподаватели. Около 200 человек. Никогда не вязался к абитуриентам в экзаменационную пору, зато, начиная с 1 сентября, ревностно контролировал каждого входящего. Каким-то образом запоминал новоприбывших первокурсников и не имел к ним в дальнейшим никаких претензий.
Студенты его любили молодой жестокой любовью. И частенько Зарбазан был окрашен в какие-нибудь невообразимые цвета. За 5 лет учебы я периодически наблюдала у него смену имиджа. Он легко к этому относился. Зеленая спина или красные щеки его не пугали. Со временем окрас стирался, и он становился, как и прежде, грязно-коричневым неопрятным псом. А так – иногда ходил, как увлекшийся творчеством художник.
Наш пес не ограничивался контролем над факультетом. В его ареал также входил довольно приличный отрезок нашей улицы – 26-ти Бакинских комиссаров. Он беспрепятственно выходил на улицу и совершал обход территории, конечно, с целью в очередной раз ее пометить. Были случаи, когда мы, студенты, встречали его на улице в километре, а то и больше от худграфа. Мы радостно восклицали, как будто увидели своего давнего знакомого: «Зарбазан, привет!» Он нас узнавал, улыбался молчаливой собачьей улыбкой, махал хвостом и продолжал прерванный путь. А мы еще долго оглядывались – он так деловито куда-то спешил.
Несколько аудиторий худграфа окнами выходили на улицу 26-ти Бакинских комиссаров. В те времена это была одна из основных городских магистралей, а также этаким Бродвеем, где все выгуливали новые машины и новые наряды. Окна в аудиториях были огромные, почти в пол, и Зарбазан любил сидеть вот у такого окошка и поглядывать на улицу. Естественно, что его не оставляли равнодушным ни кошки, ни собаки, блуждающие по улице 26-ти Бакинских комиссаров. Завидев на своей территории посторонний животный объект, он надрывался диким простецким собачьим лаем и носился по аудитории в приступах справедливого гнева.
А ведь в этот момент у нас были лекции. Настоящие, со студентами и преподавателями. Те преподаватели, что давно у нас работали, относились к нему снисходительно, открывали входную дверь и выгоняли собаку прочь. Молодые впечатлительные преподаватели впадали в шок от возмущения и шли жаловаться к декану. А тот расплывался милейшей улыбкой из-под усов и с теплотой в голосе говорил: «Ну что Вы. Это наш почетный студент Магомедов Зарбазан Магомедович. Наш, так сказать, талисман. Уж не обидьте собачку». Позиции Зарбазана были крепки, молодые преподаватели ретировались. Им приходилось мириться с хозяйским нравом местного аборигена.
Только один преподаватель проявлял себя по отношению к Зарбазану как истинный интеллигент. Это был Марковский, преподававший нам историю искусств. Человек средних лет, с мягкими руками, мягкими манерами и очень мягким голосом. Частенько его предмет был у нас первым по расписанию. Мы, нахальные студенты, пользуясь его всепоглощающей мягкостью, стали поголовно опаздывать на первую пару. Не спеша просыпались, спокойно завтракали и приплетались на занятия с 20-30-минутным опозданием… Марковский кивком головы принимал наши ленивые извинения и ничего нам не говорил.
Не в пример нам Зарбазан любил утренние пары Марковского, потому что они проходили в его любимой пятой аудитории с огромными окнами и хорошим обзором улицы. Он занимал свою привычную позицию и наблюдал за внешним миром. Марковский рассказывал нам про барокко и рококо, когда в аудитории раздался душераздирающий лай Зарбазана. Преподаватель приподнял очки и взглянул на собаку. Зарбазан метался вдоль подоконника, взрывая наш мозг истошными воплями. Ситуация была комичной, и мы замерли в предвкушении развязки. Марковский аккуратно снял очки, положил на стол, подошел к собаке и осторожно взял ее на руки, примерно под передними лапами. Зарбазан опешил от такой вольности, но промолчал, видимо, ошарашенный. Марковский осторожно и бережно на вытянутых руках вынес пса в коридор и захлопнул перед его носом дверь. Тщательно встряхнул руки, надел очки и продолжил лекцию.
Мы похихикали. Через 5-10 минут в дверь просочился очередной опоздавший студент, а с ним и Зарбазан. Опять через какое-то время он громко залаял. Марковский опять снял очки, засучил рукава и вынес собаку на руках, деликатно и бережно. Покачав головой, закрыл плотно за ним дверь. История повторилась еще через 10 минут, потом еще и еще. И всякий раз Марковский невозмутимо, без проявления какого-либо гнева или злости аккуратно депортировал нарушителя в коридор. И всякий раз Зарбазан с удовольствием оказывался у него в руках и не возмущался выдворению. Может, ему нравилась нежность Марковского? Ведь он привык к грубому контакту с ногами и к крикам типа «Пошел вон». А тут вежливость и учтивость…
Не знаю, сколько прожил на вахте худграфа это пес. О его существовании знал предположительно даже ректор и почему-то тоже не имел возражений на этот счет. Иногда к нам на факультет приводили иностранные делегации во главе с ректором. Действительно, как еще произвести впечатление на иностранцев, как ни худграфом с его расписными стенами и скульптурами во дворе? И пока гордый ректор и услужливый декан размахивали руками, показывая те или иные украшательства, а иностранцы ротозейничали ошалело по сторонам, к ним в толпу врывался Зарбазан с неистовым лаем – ведь иностранцы не входили в его ближний круг. Сначала гости в ужасе шарахались, потом их и Зарбазана успокаивали и опять презентовали пса как талисман факультета. Такая «мимимишная» история тут же начинала нравиться иностранцам и впоследствии приносила какие-то бонусы факультету. Иностранцы были, конечно, просвещенные, из Европы или США. Короче, да здравствует Green Peace! Зарбазан стал не только талисманом уже теперь пединститута, но и символом доброго отношения к животным в постсоветском Дагестане. Бурные и продолжительные аплодисменты. Он стал бы звездой «Инстаграма», если бы время перекрутили вперед.
До сих пор вспоминаю то ли собаку, то ли свою жизнь на худграфе. Эх, молодость!
Зарисовки южной жизни
Каждое лето я, как перелетная птица, лечу на юг. К родственникам. В небольшой российский городок, где основная часть построек – частные дома. Хорошие кирпичные дома, утопающие в зелени.
И вот я, окруженная небольшим коллективом собственных детей, сижу в течение месяца на местном огороде, вдыхаю горячий кислород и наслаждаюсь дарами местной флоры.
А вокруг нас клубится пестрая интересная жизнь наших родственников, коих не менее 20, а может, и 30 человек. Они к нам относятся слегка настороженно, считая нас странноватыми москвичами. Ведь вся Россия знает, что москвичи недружелюбны, сторонятся всех и вся и вообще с прибабахом. Мы приезжаем сюда не менее 5 лет, за эти годы мы слегка разубедили нашу родню по поводу прибабахов, но небольшая настороженность осталась. Если б не она – на нашем огороде тусило бы ежедневно не менее 10-15 человек, а так тусят 5-6 вместе с нами. Находясь в этом шумном пестром обществе, я наслаждаюсь возникающими картинками южно-российской жизни. Потому что это совсем другое, чем в Москве.
Люди здесь открытые и эмоциональные. Жизнь здешних семей напоминает мне бразильский или мексиканский сериал. Любое мало-мальски значимое событие здесь передается из уст в уста несколько дней, без стеснения обсуждается и комментируется. Даются советы, пожелания, рекомендации, а иногда и нагоняи. Все знают, что ел брат или тетка на ужин, какая колбаса была нарезана на завтрак у бабушки, почему Тема не пошел в детский сад и зачем Люся с утра бегала к гинекологу.
А еще у людей тут есть кумовья! Это прекрасные люди, в Москве таких нет. Кумовья – это чьи-то крестные отцы и матери. Здесь, на юге России, это не пустой звук. Вот, например, у моих детей тоже есть крестные, но где они, что они и как они – не знают ни мои дети, ни даже я. А вот там кумовья – важные люди. Это – родственники не по крови. Но реально члены семьи.
Спрашиваю у родственника: «Виталь, где мне у Вас документы отксерить можно?» Ответ: «Да у Оксанки можно в офисе, она кума моя». Окей. «Виталь, а мне надо потом эти отксеренные документы в Москву отправить. Подскажи, как». Ответ: «Без проблем. Лешке дадим – он отвезет в курьерскую службу. Он жены кум». «Виталь, а Наташка за кого замуж выходит?» «А ты помнишь тетю Нину, она была второй женой нашего деда Вити. Так у нее племянник есть, то есть племянник ее первого мужа. Петька, хороший парень, вот думаю кумом его сделать. Ленка моя же беременная… Вспомнила?»
Ничего я не вспомнила, но круговорот их жизни захватывает.
Итак, все вокруг получаются или братья-сестры или кумовья. Куда не глянь – везде своя рука. Кумовство! А ведь как это приятно – везде тебе улыбнутся и помогут.
Я хоть и седьмая вода на киселе, но тоже вкушаю прелести кумовства. Моя дальняя родня и их кумовья кружатся вокруг нас с готовностью помочь и развеселить!
Иногда они спрашивают меня о моей жизни в Москве, а мне на фоне их веселой непосредственной душевности даже не хочется рассказывать о суровых буднях столичной жизни – вся эта борьба с обществом и с самим собой кажется такой ненастоящей по сравнению с простой доброй жизнью простых добрых людей здесь.
И мне уже охота присоединиться к этому мирку человеческих взаимоотношений и тоже вставить свой комментарий по поводу подозрительной дружбы Ленкиного кума с незамужней теткой Виталика. Также хочется принять участие в обсуждении фасона свадебного платья Наташи, нашей троюродной сестры по линии дяди Володи, которая вскоре выйдет замуж за племянника тети Нины. В общем, вроде, все сложно, а на самом деле все очень просто – здесь все друг друга любят, здесь все неравнодушны.
А когда утром я просыпаюсь под кукареканье соседского петуха и иду пить свой кофе на крыльцо, то я думаю, как хорошо, что у нас большая страна и в этой стране есть такие разные города и такие разные люди!
Жена, приходи ко мне на свидание



