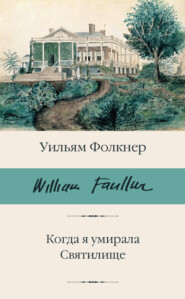скачать книгу бесплатно
– Ничего. Здоров я.
– Ничего? – говорил папа. – Да ты сейчас стоя спишь.
– Нет. Здоров я.
– Я хочу, чтобы он сегодня посидел дома, – говорила мать.
А папа:
– Он мне нужен. Спасибо, если все-то управимся.
– Придется вам с Кешем и Дарлом налечь, – говорила мама. – Я хочу, чтобы он посидел дома.
А он отказывался: «Я здоров», – и шел с нами. Но он не был здоров. Это все видели. Он худел, и я замечал, что он засыпает с мотыгой; видел, как мотыга движется все тише и тише, поднимается все ниже и ниже, а потом совсем замрет, и он, опершись на нее, тоже застынет в жарком мареве.
Мама хотела позвать доктора, но папа не хотел понапрасну тратить деньги, а Джул в самом деле был на вид здоров – если не считать худобы и того, что засыпал на каждом шагу. Ел он хорошо – только мог заснуть над тарелкой, не донеся хлеб до рта, и дожевывал во сне. Божился, что здоров.
Доить за него мама пристроила Дюи Дэлл, – как-то платила ей, – и домашнюю работу, которую он делал до ужина, тоже переложила на Дюи Дэлл и Вардамана. А когда не было папы, делала сама. Она готовила ему особую еду и прятала для него. Так я узнал, что Адди Бандрен может таиться, а ведь она нас всегда учила: обман – это такая штука, что там, где он завелся, ничто уже не покажется чересчур плохим или чересчур важным – даже бедность. Случалось, когда я приходил спать, она сидела в темноте возле спавшего Джула. Я знал, что она проклинает себя за обман и проклинает Джула за такую любовь к нему, из-за которой должна заниматься обманом.
Однажды ночью она заболела, и, когда я пошел в сарай, чтобы запрячь мулов и ехать к Таллу, я не мог найти фонарь. Я вспомнил, что прошлым вечером видел его на гвозде, а теперь он куда-то делся. Я запряг в темноте, – была полночь, – поехал и на рассвете вернулся с миссис Талл. Фонарь – на месте, висит на гвозде, где я давеча искал его. А потом, как-то утром, перед восходом солнца Дюи Дэлл доила коров, и в хлев вошел Джул, – вошел через дыру в задней стенке, с фонарем в руке.
Я сказал Кешу, и мы с Кешем посмотрели друг на друга.
– Гон у него, – сказал Кеш.
– Ладно. А зачем фонарь-то? Да еще каждую ночь. Как тут не отощать? Ты ему что-нибудь скажешь?
– Без толку, – ответил Кеш.
– А от шлянья его тоже не будет толку.
– Знаю. Но он должен сам это понять. Дай срок, сам сообразит, что никуда оно не денется, что завтра будет не меньше, чем сегодня, – и он опамятуется. Я бы никому не говорил.
– Ага. И я Дюи Дэлл сказал, чтобы не говорила. Маме хотя бы.
– Да. Не надо маме.
Тогда все это мне стало казаться потешным: и что он такой смущенный и старательный, что ходит как лунатик и отощал до невозможности, и что считает себя таким хитрецом. Мне любопытно было, кто девушка. Я перебирал всех, кого знал, но так и не смог догадаться.
– Никакая не девушка, – сказал Кеш. – Там замужняя женщина. Больно лиха да вынослива для девушки. Это мне и не нравится.
– Почему? – спросил я. – Для него безопасней, чем девушка. Рассудительней.
Он поглядел на меня; глаза его нащупывали, и слова нащупывали то, что он хотел выразить:
– Не всегда безопасная вещь в нашей жизни – это…
– Хочешь сказать, безопасное – не всегда самое лучшее?
– Вот, лучшее, – сказал он и опять стал подбирать слова. – Это не самое лучшее, не самое хорошее для него… Молодой парень. Противно видеть… когда вязнут в чьей-то чужой трясине… – Он вот что пытался сказать. Если есть что-то новое, крепкое, ясное, там должно быть что-то получше, чем просто безопасность: безопасные дела – это такие дела, которыми люди занимались так давно, что они поистерлись и растеряли то, что позволяет человеку сказать: до меня такого никогда не делали и никогда не сделают.
Мы никому не рассказывали, даже после того, как он стал появляться на поле рядом с нами, не зайдя домой, и брался за работу с таким видом, будто всю ночь пролежал у себя в постели. За завтраком он говорил маме, что не хочет есть или что уже поел хлеба, пока запрягал. Но мы-то с Кешем знали, что в такие ночи он вообще не бывал дома и на поле к нам выходил прямо из лесу. И все-таки мы не рассказывали. Лето шло к концу; ночи станут холодными, и, если не он, так она скажет: шабаш.
Настала осень, долгие ночи, но все продолжалось, с той только разницей, что по утрам он лежал в постели и поднимал его папа – такого же обалделого, как в самом начале, и был он теперь дурнее, чем летом, когда шлялся до утра.
– Ну и выносливая, – сказал я Кешу. – Я ей удивлялся, а теперь прямо уважаю.
– Это не женщина.
– Все-то ты знаешь, – сказал я. А он наблюдал за моим лицом. – Кто же тогда?
– А вот это я и собираюсь узнать.
– Можешь таскаться за ним всю ночь по лесу, если хочешь. Я не хочу.
– Я за ним не таскаюсь. – Он сказал.
– А как это называется?
– Я за ним не таскаюсь. Я по-другому хочу.
И вот через несколько дней я услышал, как Джул встал с постели и вылез в окно, а потом услышал, как Кеш встал и вылез за ним. Утром я пошел в сарай, а Кеш уже там, мулы накормлены, и он помогает Дюи Дэлл доить. И когда я увидел его, я понял, что он все узнал. Я заметил, что он иногда странно поглядывает на Джула, как будто, узнавши, куда ходит Джул и чем занимается, он только тут и задумался всерьез. А посматривал он без тревоги; такой взгляд я замечал у него, когда он делал за Джула какую-то работу по дому, про которую папа думал, что ее делает Джул, а мама думала, что делает Дюи Дэлл. И я ни о чем не спросил его – надеялся, что, переваривши это, он сам мне скажет. А он так и не сказал.
Однажды утром – в ноябре, через пять месяцев после того, как это началось, – Джула в постели не оказалось, и в поле он к нам не пришел. Вот тут только мама и начала понимать, что происходит. Она послала Вардамана искать Джула, а немного погодя пришла к нам сама. Как будто, пока обман шел тихо-мирно, мы все позволяли себя обманывать, соучаствовали по неведению, а может, по трусости, потому что все люди трусы и всякое коварство им больше по сердцу – ведь видимость у него нежная. А теперь мы все – будто телепатически согласившись признаться в своем страхе – сбросили с себя лукавство, словно одеяло на кровати, и сели голенькие, глядя друг на друга и говоря: «Вот она, правда. Он не пришел домой. С ним что-то случилось. И мы это допустили».
А потом увидели его. Он появился у канавы и повернул к нам, напрямик, через поле, – верхом. Грива и хвост у коня развевались, словно в движении они разметывали пятнистый узор шкуры; казалось, он едет на большой вертушке, с какими бегают дети, – без седла, с веревочной уздечкой и непокрытой головой. Конь происходил от тех техасских лошадок, которых завез сюда двадцать пять лет назад Флем Снопс и распродал по два доллара за голову – поймать свою сумел только Лон Квик, но подарить потом никому уже не сумел, так что кровь ее сохранилась.
Джул подскакал к нам и остановился, сжав пятками ребра коня, а конь плясал и вертелся так, как будто форма гривы, хвоста и пятен на шкуре не имела никакого отношения к мясному и костяному содержимому; Джул сидел и смотрел на нас.
– Где ты взял лошадь? – спросил папа.
– Купил. У мистера Квика.
– Купил? На что? Под мое слово купил?
– На свои деньги, – сказал Джул. – Я их заработал. Можешь не волноваться.
– Джул, – сказала мама, – Джул.
– Все правильно, – сказал Кеш. – Деньги он заработал. Расчистил шестнадцать гектаров новой земли у Квика – те, что он разметил прошлой весной. Один работал, по ночам, с фонарем. Я его видел. Так что конь никому, кроме Джула, ничего не стоил. По-моему, нам не из-за чего волноваться.
– Джул, – сказала мама. – Джул… – Потом она сказала: – Сейчас же иди домой и ложись спать.
– Нет, – сказал Джул. – Некогда. Мне еще нужно седло и уздечку. Мистер Квик сказал…
– Джул, – сказала мама, глядя на него. – Я дам… я дам… дам… – И заплакала. Заплакала горько, не пряча лица – стояла в линялом халате и глядела на него, а он глядел на нее с коня, и лицо у него постепенно сделалось холодным и больным, он отвел взгляд, а к маме подошел Кеш и тронул ее за руку.
– Иди домой, – сказал Кеш. – Тебе нельзя тут, земля сырая. Ну, иди.
Тогда она закрыла лицо руками, постояла немного и пошла, спотыкаясь о борозды. Она не оглядывалась. У канавы остановилась и позвала Вардамана. Он стоял возле коня, смотрел на него и приплясывал.
– Джул, дай прокатиться, – сказал он. – Джул, дай прокатиться.
Джул туго натягивал повод; он посмотрел на Вардамана и опять отвел взгляд. Папа наблюдал за ним, жамкая жвачку.
– Значит, ты купил лошадь, – сказал он. – Тайком от меня купил лошадь. Со мной не посоветовался; ты знаешь, как нам туго приходится, и купил лошадь мне на шею. Свалил работу на родных и за их счет купил лошадь.
Джул посмотрел на папу, и глаза у него были еще светлее, чем всегда.
– Твоего он горсти не съест. Горсти. Я его убью вперед. И не думай даже. Не думай.
– Джул, дай прокатиться, – сказал Вардаман. – Джул, дай прокатиться. – Голос, словно кузнечик в траве, маленький. – Джул, дай прокатиться.
В ту ночь я застал маму у его кровати. Она плакала в темноте, плакала горько, может быть, потому, что приходилось плакать тихо; может быть, потому, что плакала, как обманывала – проклиная себя за это, проклиная его за то, что приходится плакать. И тогда я понял то, что понял. Понял это так же ясно, как потом другое – про Дюи Дэлл.
Талл
В конце концов они заставили Анса сказать, чего он хочет, и он с дочкой и мальчиком вылез из повозки. Уж мы к мосту подошли, а он все оглядывался, словно думал, что стоит ему вылезти из повозки, и все это рассеется, и он опять очутится у себя на поле, а она будет лежать и ждать смерти у себя на кровати, и все придется начинать сызнова.
– Отдал бы ты им мула, – говорит он, а мост дрожит и шатается под нами, он уходит в быструю воду так, словно выйти должен на другой стороне земли, а другой конец – будто и не от этого моста, и те, кто выберется из воды на другом берегу, вылезут из глуби земной. Но мост был цел – чувствовалось по тому, что наш конец шатался, а другой – будто бы нет: будто тот берег и деревья на нем медленно качались, как маятник больших часов. А бревна били и скребли по затопленной части, вставали торчком, совсем выскакивали из воды, ныряли в гладкую, пенную, стерегущую круговерть и уносились к броду.
– А какой от него толк? – Я спросил. – Если твои мулы брода не найдут и не перетащат повозку, что толку в третьем муле или в десяти мулах?
– Я у тебя не прошу, – он говорит, – я всегда сам обойдусь. Я не прошу тебя рисковать мулом. Покойница ведь не твоя; я тебя не упрекаю.
– Им вернуться надо и до завтра потерпеть. – Я говорю.
Вода была холодная. Она была густая, как снежная слякоть. Только как будто живая. Ты и понимал вроде, что это просто вода, та же самая, что многие годы текла под мостом, но когда она выплевывала бревна, ты не удивлялся – они как будто были частью воды, ее стерегущей угрозы.
Удивился я только тогда, когда мы переправились, вышли из воды и встали на твердую землю. Мы словно и не ожидали, что мост достанет до того берега, до чего-то укрощенного, до твердой земли, которую мы исходили ногами и хорошо знали. Неужели я мог попасть сюда? Неужели хватило глупости полезть в эту прорву? А когда поглядел назад, увидел моего мула на другом берегу, где я сам стоял недавно, и подумал, что мне еще надо вернуться туда, я понял, что этого быть не могло – ни за какие коврижки я и раз не прошел бы по мосту. И однако – вот я где, и если кто может пройти по мосту второй раз, то кто-то другой, а не я – даже если Кора прикажет.
И все из-за мальчонки. Я сказал: «А ну дай мне руку», – и он дождался меня и дал. Да нет, черт возьми: получилось, что будто бы вернулся за мной; будто сказал: невредимым пройдешь. Будто рассказывал про чудесное место – там что ни день, то праздник, и зимой, и летом, и весной, и если за него буду держаться, тоже не пропаду.
Я посмотрел на мула, словно в подзорную трубу посмотрел: я увидел через мула весь простор земли и посредине мой дом, взошедший на поте – словно чем больше пота, тем просторней земля; чем больше пота, тем крепче дом, потому что крепкий нужен дом для Коры, иначе не удержит Кору – как кувшин молока в студеном роднике: крепкий имей кувшин или же нужен сильный родник, ну а коли родник большой, так есть для чего заводить крепкие, надежные кувшины – потому что молоко-то – твое, хоть кислое, хоть какое, потому что молоко, которое может скиснуть, интересней того, которое не киснет, потому что ты – мужчина.
Он держал меня за руку, а рука у него горячая и уверенная, так что хотелось сказать: Смотри-ка. Видишь вон там мула? Ему здесь делать было нечего, вот он и не пошел, ведь он мул всего-навсего. Человек иногда понимает, что у детей больше разума, чем у него. Но он им в этом не признается, пока у них не отрастет борода. Когда борода отросла, они чересчур озабоченные, потому что не знают, смогут ли вернуться туда, где у них разум был, а бороды не было; тут-то тебе нетрудно признаться людям, так же беспокоящимся о том, о чем беспокоиться не стоит, что ты – это ты.
И вот перешли мы, стоим и смотрим, как Кеш разворачивает повозку. Видим, как он едет по дороге назад, к тому месту, где от дороги к броду отходит колея. Скоро повозка скрылась из виду.
– Надо пойти к броду, помочь если что. – Я сказал.
– Я дал ей слово, – говорит Анс. – Для меня оно свято. Я знаю, ты недоволен, но она благословит тебя на небесах.
– Ладно, – говорю, – им сперва надо сушу обогнуть, чтобы в воду броситься. Пошли.
– Возвращаются, – говорит он. – Плохая примета – возвращаться.
Сгорбленный и печальный, он стоял и смотрел на пустую дорогу, а перед ним дрожал и шатался мост. И девушка стояла – через одну руку корзинка с едой, под другой – прижатый к боку сверток. В город собрались. Решили бесповоротно. Сквозь огонь и воду пройдут, чтобы съесть пакет бананов.
– Надо было день потерпеть. – Я сказал. – К утру бы немного спала. Может, ночью дождя не будет. А выше ей подниматься некуда.
– Я обещание дал, – говорит он. – Она надеется.
Дарл
Темный, густой поток бежит перед нами. Неумолчным тысячеголосым шепотом разговаривает с нами; желтая гладь – в жутких рябинах недолговечных водоворотов; немо и многозначительно они сплывают по течению и пропадают, словно под самой поверхностью что-то громадное и живое лениво пробудилось на миг и снова погрузилось в чуткий сон.
Он хлюпает и бормочет среди спиц и в коленях у мулов. Покрытый жирными косами пены как потный, взмыленный конь. Сквозь кустарник проходит с жалобным звуком, задумчивым звуком; тростник и молодая поросль гнутся в нем, как от маленькой бури, они лишены отражений и колышутся, словно подвешенные на невидимой проволоке к сучьям наверху. И стоят над неугомонной водой деревья, тростник, лозы без корней, отрезанные от почвы, – призраками среди громадной, но не бескрайней пустыни, оглашаемой ропотом напрасной, печальной воды.
Мы с Кешем сидим в повозке; Джул – на коне у правого заднего колеса. С длинной розовой морды коня дико смотрит младенчески-голубой глаз, а конь дрожит и дышит хрипло, будто стонет. Джул подобрался в седле, молчит, твердо и быстро поглядывает по сторонам, и лицо у него спокойное, бледноватое, настороженное. У Кеша тоже серьезный, сосредоточенный вид; мы с ним обмениваемся долгими испытующими взглядами, и они беспрепятственно проникают сквозь глаза в ту сокровенную глубь, где сейчас Кеш и Дарл бесстыдно и настороженно пригнулись в первобытном ужасе и первобытном предчувствии беды. Но вот мы заговорили, и голоса наши спокойны и бесстрастны.
– Похоже, что мы еще на дороге.
– Талл додумался спилить здесь два дуба. Я слышал, раньше в паводок по этим деревьям брод находили.
– Два года назад он здесь лес валил, тогда, наверно, и спилил дубы. Не думал, верно, что брод еще кому-нибудь понадобится.
– Наверно. Тогда, должно быть, и спилил. Он тут порядком заготовил леса. По закладной им расплатился, я слышал.
– Да, наверно, так. Наверно, он спилил.
– Точно, он. Кто лесом у нас пробавляется, им, чтобы лесопилку кормить, крепкая ферма нужна в подспорье. Или же лавка. Но с Вернона станется.
– Могло статься. Чудной.
– Да. Это есть. Ага, здесь она наверно. Если бы старую дорогу не расчистил, нипочем бы лес не вывез. Кажись, мы на ней. – Он молча оглядывает расположение деревьев, наклонившихся в разные стороны, смотрит назад, на дорогу без полотна, смутно намеченную в воздухе сваленными голыми стволами, – словно и дорога отмокла от земли, всплыла, запечатлев в своем призрачном очерке память о разорении еще более основательном, чем то, которое мы наблюдаем сейчас с повозки, тихо разговаривая о былой исправности, о былых мелочах. Джул смотрит на него, потом на меня, потом обводит спокойным пытливым взглядом окрестность, а конь тихо дрожит у него между коленями.
– Он может потихоньку проехать вперед и разведать дорогу, – говорю я.
– Да, – отвечает Кеш, не глядя на меня. Лицо его повернуто: Джул уже впереди, и Кеш смотрит ему в спину.
– Мимо реки не проедет, – говорю я. – За пятьдесят шагов ее увидит.
Кеш не смотрит на меня, его лицо повернуто в профиль.
– Если б знать, я бы на прошлой неделе приехал, все обглядел.
– Тогда мост был, – говорю я. Он на меня не смотрит. – Уитфилд проехал по нему верхом.
Джул снова смотрит на нас, и выражение лица у него серьезное, внимательное, послушное. Голос тих:
– Что мне надо делать?
– Приехал бы на прошлой неделе и все обглядел, – говорит Кеш.
– Откуда же мы знали, – говорю я. – Не могли мы этого знать.
– Я поеду вперед, – говорит Джул. – Вы двигайтесь за мной.