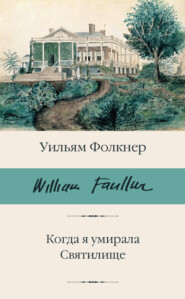скачать книгу бесплатно
– Какая у тебя душа, не знаю. – Она говорит. Говорит быстро, шепотом. – Ты ей обещал. Должен сделать. Ты… – Потом увидела меня и замолчала; стоит. Если бы они были пистолетами, я бы сейчас не разговаривал. Ну и опять завел про это речь, а он говорит:
– Я ей дал обещание. Она так хочет.
– Но мне сдается, для нее же лучше, если мать похоронят близко, и она сможет…
– Я Адди дал обещание. – Он говорит. – Она так хочет.
Тогда я сказал, чтобы закатили ее в сарай, потому что дождь опять собирается, – а ужин скоро будет готов. Но они входить не захотели.
– Благодарствую, – говорит Бандрен. – Мы стеснять вас не хотим. В корзинке у нас кое-что есть. Мы обойдемся.
– Ну, раз ты так печешься о своих женщинах, – говорю, – я тоже пекусь. Когда мы есть садимся, а наши гости за стол не идут, моя жена считает это за оскорбление.
Тогда его дочка пошла на кухню помогать Речел. А потом Джул ко мне подходит.
– Конечно. – Я говорю. – Натаскай ему с сеновала. Мулов накормишь и ему дай.
– Я хочу тебе заплатить, – говорит.
– За что? – спрашиваю. – Что же я, человеку корма для коня пожалею?
– Я хочу тебе заплатить. – Он говорит; мне послышалось: «лишнего».
– Чего лишнего? – спрашиваю. – Он что, зерна и сена не ест?
– За лишний корм. Я даю ему больше и не хочу, чтобы он у чужих одалживался.
– У меня, парень, ты корм покупать не будешь. – Я говорю. – А если он может всю клеть сожрать, завтра утром я помогу тебе погрузить мой сарай в повозку.
– Он никогда ни у кого не одалживался. Я хочу за него заплатить.
А меня подмывало сказать: если бы мои хотения исполнялись, тебя бы тут вообще бы не было. Но я только одно сказал:
– Тогда самое время ему начать. У меня ты корму не купишь.
Речел накрыла ужин, а потом с его дочкой стала стелить постели. Но в дом никто из них не пошел. Говорю ему:
– Она уже столько дней мертвая, что ей эти глупости ни к чему. – Я не меньше любого уважаю покойников, но уважать-то надо самих покойников, и если женщина четыре дня лежит в гробу, самое лучшее к ней уважение – похоронить ее поскорей.
А они не желают.
– Это будет неправильно. – Бандрен говорит. – Конечно, если ребята хотят лечь, я с ней один посижу. Не могу я ей в этом отказать.
Когда я вернулся туда, они сидели на корточках вокруг повозки.
– Пускай хоть мальчонка пойдет в дом, поспит, – говорю. – Да и ты бы пошла, – говорю его дочке. Не хотел я вмешиваться в их дела. И ей тоже вроде ничего плохого не сделал.
– Он уже спит, – говорит Бандрен. Они его уложили в корыто в пустом стойле.
– Ну так ты иди, – говорю ей. А она молчит. Все сидят на корточках. И едва их разглядишь. – А вы, ребята? – спрашиваю. – Завтра у вас трудный день.
И немного погодя Кеш отвечает:
– Благодарствую. Мы обойдемся.
– Не хотим быть в тягость. – Бандрен говорит. – Благодарим покорно.
Так и остались сидеть на корточках. Принюхались, наверно, за четыре-то дня. А Речел – нет.
– Это безобразие, – говорит. – Безобразие.
– А что ему делать? – спрашиваю. – Он ей слово дал.
– Да про него разве речь? Кому он нужен? – А сама плачет. – Чтобы ему, и тебе, и всем вам… Мучаете нас при жизни и над мертвыми издеваетесь, таскаете туда и сюда…
– Ну полно, полно, – говорю. – Ты расстроилась.
– Не прикасайся ко мне! Не прикасайся ко мне!
Ну разве может человек их понять? Вот я прожил с одной пятнадцать лет, и будь я проклят, если понял. Я представлял себе, что между нами могут встать самые разные вещи, но будь я проклят, если думал, что это будет тело, четыре дня как мертвое, притом женское. А они сами себе портят жизнь, не принимая то, что она нам преподносит, – в отличие от мужчин.
И вот я лежал, слышал, как начинается дождь, думал о том, что они сидят там на корточках вокруг повозки, а дождь стучит по крыше, думал о том, как плакала Речел, – покуда не стало казаться, что слышу ее плач до сих пор, хотя она уже спала, что чую этот запах, хотя знал, что чуять его не мог. И уже понимать перестал, пахнет или нет, и не чудится ли мне запах только потому, что о нем знаю.
А наутро я туда не пошел. Я слышал, как они запрягали, и, когда понял, что они вот-вот выедут, вышел из дому и пошел по дороге к мосту; оттуда услышал, как повозка выехала со двора и повернула назад, к Новой Надежде. Воротился домой, а Речел набросилась на меня за то, что ушел и не позвал их завтракать. Ну кто их разберет? Только решишь, что они хотят одного, тут же понимай все наоборот, да еще, черт возьми, взбучку получишь за то, что не так ее понял.
А запах я все равно как бы слышал. Тогда я решил, что его уже нет, а просто знаю о нем – бывает иногда, что так обманываешься. Но когда подошел к амбару, понял, что ошибаюсь. Вошел и вижу, там кто-то сидит. Вроде на корточках, и сперва я подумал, что кто-то из них остался, а потом разглядел, кто это. Гриф. Он оглянулся, увидел меня и заковылял по проходу – ноги врастопырку, крылья развесил и оглядывается на меня то через одно плечо, то через другое, как лысый старик. Вышел вон и полетел. Ему долго пришлось лететь, чтобы в воздух подняться, – толстый, тяжелый и весь дождем пропитан.
Если уж им так надо в Джефферсон, могли бы поехать кругом, через Маунт-Вернон, как Маккалем. Верхом он будет дома послезавтра. Оттуда им до города восемнадцать миль. Но, может быть, увидит, что и этого моста нет, и образумится, придет в рассудок.
Маккалем этот. Двенадцать лет уже мы с ним подторговываем. Мальчишкой его знал; имя его знаю, как свое. Но, убей меня Бог, не могу вспомнить.
Дюи Дэлл
Завиднелась доска с надписью. Сейчас она смотрит по дороге в ту сторону, потому что может ждать. Она скажет: Новая Надежда, 3 мили. Новая Надежда, 3 мили. Новая Надежда, 3 мили. И тогда начнется дорога, завьется, в рощу уйдет, будет ждать, пустая, и скажет: Новая Надежда, три мили.
Я слышала, что мама умерла. Жалко, что некогда было дать ей умереть. Жалко, что некогда было пожалеть, что некогда. Это потому, что в буйной возмущенной земле слишком скоро слишком скоро слишком скоро. Не потому, что я не хотела и не хочу, а потому, что слишком скоро слишком скоро слишком скоро.
Теперь сказала: Новая Надежда, три мили. Новая Надежда, три мили. Вот что значит – чрево времени: отчаяние и мука раздвигающихся костей, жестокий пояс, в котором заключена возмущенная внутренность событий. Когда мы приближаемся, голова Кеша поворачивается, его бледное, печальное, сосредоточенно застывшее лицо вопросительно поворачивается за пустым и рыжим изгибом дороги; у задка едет верхом Джул, глядя прямо вперед.
Земля убегает из глаз Дарла; они сливаются в булавочные головки. Они начинают с моих ног, поднимаются по телу к лицу, и вот на мне уже нет платья: сижу голая над медлительными мулами, над их потугами. А если попрошу его повернуть? Он сделает, как я скажу. Ты же знаешь, сделает, как я скажу. Однажды я проснулась, и подо мной неслась черная пустота. Я ничего не видела. Я увидела, как поднялся Вардаман, подошел к окну и вонзил в рыбу нож; кровь хлынула, зашипела, как пар, но я ничего не видела. Он сделает, как я скажу. Всегда делал. Я могу убедить его в чем угодно. Могу, ты же знаешь. Если скажу: «Поворачивай». Это было, когда я умерла в тот раз. Что, если скажу? Мы поедем к Новой Надежде. Нам не придется ехать в город. Я поднялась, выдернула нож из рыбы, из шипящей крови и убила Дарла.
В ту пору когда я спала с Вардаманом у меня однажды был кошмар я думала что не сплю но ничего не видела и ничего не чувствовала не чувствовала под собой кровати не могла подумать кто я такая не могла подумать что я девушка и даже не могла подумать «Я» подумать что хочу проснуться и даже вспомнить от чего пробуждаются ведь без этого не проснешься и что-то проходило но я не знала что не могла подумать о времени а потом вдруг поняла это был ветер он дул на меня он как будто налетел и сдул меня оттуда где было так что меня нет сдул комнату и спящего Вардамана и всех их опять под меня и все дул словно ленту прохладного шелка тянули поперек моих голых ног.
Прохладный, он дует из сосен с печальным ровным шумом. Новая Надежда. Было 3 мили. Было 3 мили. Я верю в Бога. Я верю в Бога.
– Папа, почему мы не поехали к Новой Надежде? – спрашивает Вардаман. – Мистер Самсон сказал, мы едем туда, а мы проехали поворот.
Дарл говорит:
– Смотри, Джул. – Но смотрит не на меня. Смотрит на небо. Гриф застыл там, словно прибит гвоздем.
Мы сворачиваем на Таллову дорогу. Проезжаем сарай и едем дальше, колеса шепчутся с грязью, проезжаем зеленые ряды хлопка на буйной земле, а Вернон в поле, с плугом. Когда мы проезжаем, он поднимает руку и долго еще стоит, глядя нам вслед.
– Смотри, Джул, – говорит Дарл. Джул сидит на коне, оба они будто вырезаны из дерева, смотрят вперед.
Я верю в Бога, Боже. Боже, я верю в Бога.
Талл
Когда они проехали, я отпряг мула, повесил цепи на плуг и пошел за ними. Они сидели на повозке у края дамбы. Анс сидел и смотрел на мост – а видны были только его концы, потому что середина провисла в воду. Смотрел так, как будто все время думал, что люди врут и мост не залило, но и надеялся все время, что это правда. Как бы с приятным удивлением смотрел и жевал губами, сидя на повозке в воскресных штанах. Выглядел вроде лошади, которую нарядили, а не почистили: не знаю.
Мальчик смотрел на середину моста, где над ним проплывали бревна и всякая всячина; мост дрожал и шатался, словно вот-вот развалится, а он смотрел большими глазами, как будто сидел в цирке. И сестра его. Когда я подошел, она на меня оглянулась – глаза загорелись сердито, словно я собрался ее потрогать. Потом поглядела на Анса, а потом опять на воду.
Она почти залила дамбу с обеих сторон, земля скрылась, кроме языка перед мостом, и если не знать, как раньше выглядела дорога и мост, ни за что не скажешь, где была река, а где земля. Только желтая муть, и дамба шириной с обушок ножа, и мы сидели перед ней – кто на повозке, кто на коне, кто на муле.
Дарл смотрел на меня, а потом Кеш обернулся и посмотрел с таким выражением, как в тот вечер, – будто примерял в уме к ней доски, прикидывал длину, а тебя не спрашивал, что ты думаешь, и как бы даже не собирался слушать, если вдруг сам захочешь сказать, но на самом-то деле слушал. Джул не шевелился. Он сидел на коне, чуть подавшись вперед, а лицо у него было такое же, как вчера, когда они с Дарлом проезжали мимо моего дома, возвращались за ней.
– Если бы его не залило, мы бы могли переехать, – говорит Анс. – Переехали бы на ту сторону.
Иногда через затор протискивалось бревно и, поворачиваясь, плыло дальше, а мы наблюдали, как оно подплывает к тому месту, где был брод. Оно задерживалось, вставало поперек течения, на секунду высовывалось из воды, и по этому ты догадывался, что брод был здесь.
– Ничего не значит. – Я говорю. – Может быть, там намыло зыбучего песку. – Мы наблюдаем за бревном. Девушка опять смотрит на меня.
– А Уитфилд там переправился, – говорит она.
– Верхом, – отвечаю. – И три дня назад. С тех пор на полтора метра поднялась.
– Если бы мост не закрыло, – говорит Анс.
Бревно высовывается и плывет дальше. Много сора и пены, и слышно воду.
– А его закрыло, – говорит Анс.
Кеш говорит:
– Если осторожно, то можно перебраться по доскам и бревнам.
– Но перенести уж ничего не сможешь, – говорю я. – И кто его знает, может, только ступишь, вся эта свалка тоже тронется. Как думаешь, Дарл?
Он смотрит на меня. Ничего не говорит; только смотрит чудными глазами – из-за этого взгляда люди о нем и судачат. Я всегда говорю: не в том дело, что он выкинул, или сказал, или еще чего-нибудь, а в том, как он на тебя смотрит. Вроде внутрь к тебе залез. Вроде смотришь на себя и на свои дела его глазами. Снова чувствую, что девушка взглянула на меня так, словно я собираюсь ее потрогать. Она говорит что-то Ансу. «…Уитфилд…» – говорит она.
– Я дал ей обещание перед Господом. – Анс говорит. – Я думаю, беспокоиться не надо.
Но не трогается с места. Мы сидим над водой. Еще одно бревно выбирается из затора и плывет вниз; мы наблюдаем, как оно застревает и медленно поворачивается там, где был брод. Потом плывет дальше.
– Может, завтра к вечеру спадать начнет, – говорю я. – Потерпели бы еще день.
Тут Джул поворачивается на коне. До сих пор он не шевелился, а сейчас поворачивается и смотрит на меня. Лицо у него как бы с зеленцой, потом делается красным, потом опять зеленеет.
– Иди отсюда к чертовой матери, – говорит он, – паши там. Какого черта ты за нами таскаешься?
– Я ничего плохого не хотел сказать.
– Замолчи, Джул, – говорит Кеш. Джул опять смотрит на воду, желваки вздулись, лицо – то красное, то зеленое, то красное. – Ну, – немного погодя говорит Кеш, – что делать собираешься?
Анс не отвечает. Сидит сгорбившись, жует губами.
– Если бы не залило, могли бы переехать, – говорит он.
– Поехали, – говорит Джул и трогается с места.
– Погоди, – говорит Кеш. Он смотрит на мост. Мы смотрим на Кеша – все, кроме Анса и дочки. Они глядят на воду. – Дюи Дэлл, Вардаман и папа, вы идите пешком по мосту, – говорит Кеш.
– Вернон может их проводить, – говорит Джул. – А мы пристегнем его мула перед нашими.
– Моего мула ты в воду не поведешь, – говорю я.
Джул смотрит на меня. Глаза – как осколки тарелки.
– Я плачу тебе за мула. Прямо сейчас покупаю.
– Мой мул в воду не пойдет, – говорю я.
– Джул с конем своим идет, – говорит Дарл. – Почему ты за мула боишься, Вернон?
– Замолчи, Дарл, – говорит Кеш. – И ты, Джул, оба замолчите.
– Мой мул в воду не пойдет, – говорю я.
Дарл
Он сидит на коне, свирепо глядя на Вернона, лицо у него покраснело от подбородка до корней волос, глаза светлые, жесткие. В то лето, когда ему было пятнадцать лет, у него сделалась спячка. Однажды утром я пошел кормить мулов и увидел, что коровы еще не выгнаны; потом услышал, что папа вернулся к дому и зовет его. Когда мы возвращались завтракать, он прошел мимо нас с молочными ведрами, спотыкаясь, как пьяный, а когда мы запрягли мулов и выехали в поле, он только доил. Мы поехали без него, а он и через час не появился. Днем Дюи Дэлл принесла нам есть, и папа отправил ее искать Джула. Его нашли в хлеву: он спал, сидя на табуретке.
После этого папа стал приходить по утрам и будить его. Джул засыпал над ужином, а после сразу шел спать, и, когда я ложился в постель, он лежал там как мертвый. И все равно папе приходилось будить его по утрам. Джул поднимался, но ничего не соображал: молча выслушивал папины упреки и жалобы, брал молочные ведра и шел в хлев; однажды я его там застал: он спал, привалившись головой к боку коровы, под выменем стояло наполовину полное ведро, а руки у него висели, в молоке до запястий.
После этого доить стала Дюи Дэлл. Он по-прежнему поднимался, когда папа его будил, делал, что мы ему велели, – как опоенный, и старался словно бы, и сам недоумевал.
– Ты захворал? – спрашивала мама. – Тебе нездоровится?
– Нет, – отвечал Джул. – Я здоров.
– Обленился просто, отца из себя выводит, – говорил папа, а Джул стоял и будто спал на ногах. – Так, что ли? – будил Джула, требовал ответа.
– Нет, – отвечал Джул.
– Отдохни сегодня, посиди дома, – говорила мама.
– Когда вся низина еще не вспахана? – говорил папа. – Коли не хвораешь, так что с тобой?