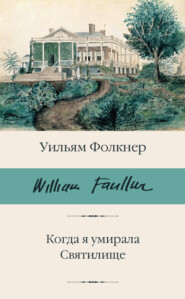скачать книгу бесплатно
Кровь приливает волнами к его лицу, а между волнами оно зеленоватое – ровная, сплошная, светлая зелень коровьей жвачки; лицо задыхающегося, яростный оскал.
– Поднимай! – говорит он. – Поднимай, бестолочь, душу твою дьявол.
Натужился и вдруг вскидывает свой конец; мы едва успеваем за его рывком – подхватываем гроб, чтобы не перевернулся. Первое мгновение он сопротивляется, будто живой – будто ее тонкое, как лучина, тело внутри, даже мертвое, яростно противится из стыда – примерно так она стеснялась бы раздеться, показать грязное белье. Потом отрывается и взлетает на наших руках, словно истощенное тело придало доскам летучесть или же она, поняв, что одежду сейчас сорвут, бросается за ней вдогонку, и в этой крутой перемене чудится насмешка над первоначальной потребностью и желанием. Лицо у Джула становится совсем зеленым, и я слышу зубы в его дыхании.
Мы несем его по прихожей, неуклюже и громко шаркая ногами по полу, и выносим в дверь.
– Постойте-ка минутку, – говорит папа и отпускает. Он поворачивается, чтобы захлопнуть и запереть дверь, но Джул ждать не хочет.
– Пошли, – говорит он задыхающимся голосом. – Пошли.
Мы осторожно спускаемся с ним по ступенькам. Боимся даже чуть-чуть наклонить его, словно это – невиданная драгоценность, несем, отвернув лица, дышим сквозь зубы, чтобы не дышать носом. Движемся по тропинке, к склону.
– Все-таки подождите, – говорит Кеш. – Говорю, равновесия нет. На холме понадобится еще один человек.
– Ну и отпусти, – говорит Джул. Он не останавливается.
Кеш не поспевает за ним, он ковыляет и шумно дышит; потом отстал, и Джул один несет передний конец, и на склоне гроб тоже наклоняется, начинает убегать от меня, скользит вниз по воздуху, как сани по невидимому снегу, плавно отсасывая воздух, в котором еще запечатлено его содержание.
– Джул, подожди, – говорю я.
Но он не хочет ждать. Он почти бежит, а Кеш остался сзади. Мне кажется, что мой конец ничего не весит, плывет как соломинка на буйной волне Джулова отчаяния. Я уже не прикасаюсь к нему, когда Джул поворачивается и, остановившись на заносе, с ходу досылает гроб в повозку, а потом оборачивает ко мне лицо, искаженное яростью и отчаянием.
– Черт бы тебя взял. Черт бы тебя взял.
Вардаман
Мы едем в город. Его не продадут, сказала Дюи Дэлл, потому что он Деда Мороза и Дед Мороз забрал его до Рождества. Тогда он опять будет за стеклом, блестеть и ждать.
Папа и Кеш спускаются по склону, а Джул идет в хлев.
– Джул. – Папа говорит. Джул не остановился. – Ты куда идешь? – Папа спрашивает. А Джул не остановился. – Оставь коня здесь, – говорит папа. Джул остановился и смотрит на папу. Глаза у Джула светлые. – Оставь коня здесь, – говорит папа. – Мы все поедем с мамой на повозке, как она хотела.
А моя мама – рыба. Вернон видел. Он был тут.
– У Джула мать – лошадь, – сказал Дарл.
– Тогда моя может быть рыбой, правда, Дарл? – сказал я.
Джул – мой брат.
– Тогда и моя должна быть лошадью, – сказал я.
– Почему? – спросил Дарл. – Если твой папа – папа, почему твоя мама должна быть лошадью – потому что у Джула мама – лошадь?
– А почему должна? – спросил я. – Почему, Дарл?
Дарл – мой брат.
– Дарл, а твоя мама кто? – спросил я.
– У меня ее нет, – сказал Дарл. – Потому что, если у меня была, то она была. А если была, значит, ее нет. Нет?
– Нет, – сказал я.
– Значит, меня нет, – сказал Дарл. – Я это я?
– Ты.
Я это я. Дарл – мой брат.
– Ведь ты это ты, Дарл.
– Я знаю, – сказал Дарл. – Поэтому меня и нет, что я для тебя – ты. И для них – ты.
Кеш несет свой ящик с инструментами. Папа смотрит на него.
– На обратной дороге зайду к Таллу, – говорит Кеш. – Там надо крышу на амбаре.
– Это неуважение. – Папа говорит. – Это издевательство над ней и надо мной.
– Хочешь, чтобы он доехал досюда, а потом пешком тащил их к Таллу? – спрашивает Дарл.
Папа смотрит на Дарла, жует ртом. Теперь папа бреется каждый день, потому что моя мама – рыба.
– Это неправильно, – говорит папа.
У Дюи Дэлл в руке сверток. И корзинка с нашим обедом.
– Это что? – спрашивает папа.
– Пироги взяла у Коры, – говорит Дюи Дэлл и влезает на повозку. – Просила в город отвезти.
– Это неправильно, – говорит папа. – Это неуважение к покойной.
Он будет там. Она говорит, он будет там на Рождество, блестеть на рельсах. Говорит, его не продадут городским ребятам.
Дарл
Он идет к хлеву, входит на участок, спина деревянная.
Дюи Дэлл несет корзинку через руку, в другой руке что-то квадратное, завернуто в газету. Лицо у нее спокойное и угрюмое, в глазах настороженная мысль; в них я вижу спину Пибоди, как две круглые горошины в двух наперстках: может быть, в спине Пибоди – два таких червячка, которые упорно и тайком проедаются сквозь тебя и вылезают с другой стороны, и ты вдруг пробуждаешься от сна или бодрствования с ошарашенным, озадаченным лицом. Она ставит корзину в повозку и влезает сама; нога длинно заголилась под натянувшимся платьем: этот рычаг, который переворачивает мир; эта половинка циркуля, которым меряется длина и ширина жизни. Она садится на сиденье рядом с Вардаманом и кладет на колени сверток.
Вот он входит в хлев. Он не оглянулся.
– Это неправильно, – говорит папа. – Такую малость мог бы ради нее сделать.
– Поехали, – говорит Кеш. – Хочет, пускай остается. Ничего с ним здесь не сделается. А может, к Таллу пойдет, там поживет.
– Он нас нагонит, – говорю я. – Срежет напрямик и встретит нас у Талловой дороги.
– Он бы на коне своем еще поехал, – говорит папа, – если б я не запретил. Пятнистая зверюга, дикая, хуже рыси. Издевательство над ней и надо мной.
Повозка тронулась; запрыгали уши мулов. Позади, в вышине над домом, неподвижные, реют кругами, потом уменьшаются и пропадают.
Анс
Я сказал ему, чтобы уважал покойную мать и не брал коня: неправильно это, форсить на цирковом звере, шут бы его взял, – она ведь хочет, чтобы все мы, кто из ее плоти и крови вышел, были с ней в повозке; и вот, не успели мы Таллову дорогу проехать, Дарл начинает смеяться. Сидит на скамейке с Кешем, покойная мать в гробу лежит у него в ногах, а он смеется. Не знаю, сколько раз я ему говорил, что из-за таких вот выходок люди о нем и судачат. Тебе, говорю, может, наплевать, и сыновья у меня, может, выросли черт знает какие, но мне не все равно, что говорят про мою плоть и кровь, а когда ты такое выкидываешь и люди про тебя судачат, это твою мать роняет – не меня, говорю: я мужчина, мне не страшно; это на женскую половину падает, на твою мать и сестру, ты об них подумай – и нате вам, оглянулся назад, а он сидит и смеется.
– Я не жду, что ты ко мне поимеешь уважение, – говорю ему. – Но у тебя же мать в гробу не остыла.
– Вон. – И головой показывает на поперечную дорогу. Лошадь еще далековато, идет к нам ходко, и кто на ней, мне говорить не надо. Я оглянулся на Дарла, а он сидит и смеется.
– Я старался, – говорю. – Старался сделать так, как она хотела. Господь отпустит мне и простит поведение тех, кого послал мне.
Она лежит в ногах у Дарла, а он сидит на скамье и смеется.
Дарл
Он едет по дорожке быстро, но мы уже в трехстах ярдах от перекрестка, когда он сворачивает на главную дорогу. Из-под мелькающих копыт летит грязь; он сидит в седле легко и прямо, и теперь чуть придерживает коня; конь семенит по грязи.
Талл у себя на участке. Смотрит на нас, поднимает руку. Едем, повозка скрипит, грязь шепчется с колесами. Вернон продолжает стоять. Он провожает глазами Джула; конь бежит словно играючи, высоко поднимая колени, в трехстах ярдах от нас. Мы едем; движемся как во сне, в дурмане, будто не перемещаясь, и кажется, что время, а не пространство сокращается между им и нами.
Она поворачивает под прямыми углами, колеи с прошлого воскресенья уже затянулись: гладкий красный язык лавы, извиваясь, уходит в сосны; белая доска с линялой надписью: «Церковь Новой Надежды, 3 мили». Она наезжает, как неподвижная ладонь над мертвым океаном; за ней дорога – как спица колеса, у которого обод – Адди Бандрен. Тянется навстречу, пустая, без следов, и белая доска отворачивает свое линялое и бесстрастное извещение. Кеш спокойно смотрит на дорогу и поворачивает голову вслед доске, как сова; лицо у него сосредоточенное. Горбатый папа смотрит прямо вперед. Дюи Дэлл тоже глядит на дорогу, потом оборачивается ко мне, в настороженных глазах тлеет отказ, а не вопрос, как у Кеша. Доска позади; дорога без следов тянется. Потом Дюи Дэлл отворачивает лицо. Скрипит повозка.
Кеш плюет через колесо.
– Дня через два запахнет, – говорит он.
– Это ты Джулу скажи, – говорю я.
Теперь он остановился, выпрямившись сидит на коне у перекрестка, наблюдает за нами, неподвижный, как указатель, поднявший навстречу ему свою надпись.
– Для долгой дороги он плохо уравновешен, – говорит Кеш.
– И это ему скажи, – говорю я. Повозка скрипит дальше.
Через милю он обгоняет нас; поводья подобрал, и конь, выгнув шею, идет быстрой иноходью. Джул сидит в седле легко, надежно, прямо, лицо деревянное, порванная шляпа лихо заломлена. Он проезжает быстро, не взглянув на нас, конь бодр, грязь шипит под копытами. Лепешка грязи, отброшенная копытом, шлепается на гроб. Кеш наклоняется вперед, достает что-то из ящика с инструментами и аккуратно ее соскребает. Когда дорога пересекает Уайтлиф и ветлы склоняются над нами, он отламывает ветку и оттирает пятно мокрыми листьями.
Анс
Тяжело человеку в этом краю; тяжело. Восемь миль трудового пота смыто с Господней земли, а ведь Господь Сам велел его тут пролить. Нигде в нашем грешном мире не разжиться честному работящему человеку. Это – для тех, которые в городских магазинах сидят, пота не проливают, а кормятся с тех, которые проливают трудовой пот. Это – не для трудового человека, не для фермера. Иногда думаю, почему не бросим? Потому что в небесах нам будет награда, а они туда свои автомобили и другое добро не возьмут. Там все люди будут равны, и кто имеет, у того отнимется, и дано будет Господом тому, кто не имеет.
Но похоже, что этого долго ждать. Чтобы заработать свою награду за праведность, человек себя мытарить должен и своих мертвецов, – хорошо ли это? Ехали весь день, в сумерки добрались до Самсона, а моста и там уж нет. Они никогда не видели, чтобы река так поднялась, – а дождь-то еще не перестал. Старики не видали и не слыхали, чтобы такое было на памяти людской. Меня избрал Господь, потому что кого Он любит, того наказывает. Но чудными же способами извещает он об этом человека, ей-ей.
Но теперь я вставлю зубы. Это будет утешением. Будет.
Самсон
Это было как раз перед закатом. Мы сидим на веранде, а по дороге подъезжает повозка, их в повозке пятеро, а один сзади верхом. Кто-то из них поднял руку, но проехали мимо магазина и не остановились.
– Кто это? – спрашивает Маккалем. – Забыл его имя… ну, Рафа близнец – это он был.
– Бандрены, из-за Новой Надежды. – Квик отвечает. – А под Джулом конь из тех снопсовских лошадок.
– Не знал, что они тут еще водятся, – говорит Маккалем. – Я думал, вы все-таки исхитрились их раздать.
– Поди возьми его, – говорит Квик.
А повозка проехала. Я говорю:
– Могу спорить, эту ему папаша Лон не за так отдал.
– Да, – говорит Квик. – Папа ему продал. – А повозка едет дальше. – Они, поди, не слышали про мост, – говорит Квик.
– А что они тут делают? – спрашивает Маккалем.
– Да, видно, жену похоронил и отпуск себе взял. – Квик говорит. – В город, видно, едет, а Таллов мост у них залило. И про этот, значит, не слышали?
– Тогда им лететь придется. – Я говорю. – Думаю, что отсюда до устья Ишатовы ни одного моста не осталось.
Что-то у них было в повозке. Но Квик ездил на заупокойную службу три дня назад, и нам, конечно, в голову не могло прийти ничего такого, – ну разве поздновато из дому отправились да про мост не слышали.
– Ты бы им крикнул, – говорит Маккалем. Черт, на языке вертится имя.
Квик крикнул, они остановились, он пошел к повозке и объяснил. Возвращается вместе с ними. Говорит: «Они едут в Джефферсон. Возле Талла моста тоже нет». Будто мы сами не знаем, и нос как-то морщит, а они сидят себе – Бандрен с дочкой и малец спереди, а Кеш и другой, про которого судачат, на доске у задка, и еще один на пятнистом коньке. Наверно, они уже принюхались: когда я сказал Кешу, что им опять придется ехать мимо Новой Надежды, и как им выгодней поступить, он только одно ответил:
– Ничего, доберемся.
В чужие дела лезть не люблю. Каждый пусть сам решает, как ему быть, – такое мое мнение. Но когда мы с Речел поговорили о том, что специалист покойницей их не занялся, а у нас, мол, июль и все такое, я пошел к амбару и хотел про это с Бандреном поговорить.
– Я ей дал обещание. – Он мне в ответ. – Она так решила.
Я заметил, что ленивый человек, которого с места не стронешь, если уж двинулся, то пойдет и пойдет, как раньше сидел и сидел, – словно бы ему не так противно двигаться, как тронуться и остановиться. И если появляется трудность, мешает ему двигаться или сидеть, он этой трудностью даже гордится. Анс сидит на повозке, сгорбившись, моргает, мы рассказываем ему про то, как быстро моста не стало и как высоко вода поднялась, а он слушает, и, ей-богу, вид у него такой, как будто гордится этим, как будто он сам сделал наводнение.
– Значит, такой высокой воды вы никогда не видели? – говорит. – На все воля Божья, – говорит. – К утру она вряд ли сильно спадет.
– Ночуйте здесь, – я говорю, – а завтра с утра пораньше отвезете к Новой Надежде.
Мне этих мулов отощавших стало жалко. А Речел я сказал: «Ты что же, хотела, чтобы я прогнал их на ночь глядя, за восемь миль от дома? Что мне было делать-то? – спрашиваю. – Всего на одну ночь – поставят ее в сарае, а на рассвете уедут».
Ну и говорю ему:
– Оставайтесь здесь на ночь, а завтра пораньше везите обратно к Новой Надежде. Лопат у меня хватит, а ребята поужинают и могут заранее вырыть, если захотят, – и вижу, его дочка на меня смотрит. Если бы у ней не глаза были, а пистолеты, я бы сейчас не разговаривал, – прямо прожигают меня, честное слово. А потом пришел к сараю, – они там расположились, – слышу, дочка говорит, не заметила, как я подошел. Говорит:
– Ты ей обещал. Она не хотела умирать, пока ты не пообещал. На твое слово понадеялась. Если обманешь ее, Бог тебя накажет.
– Никто не может сказать, что я не держу слово. – Бандрен отвечает. – У меня душа всем открытая.