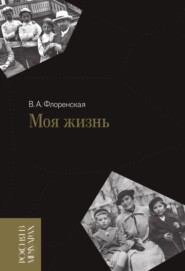
Полная версия:
Моя жизнь
Когда Леню позвали на работу в Москву в Институт права, он отказался, так как не хотел оставлять родителей, которые из‐за него переехали в Саратов. Он, однако, понимал, что в Саратове ему плохо. Хотя он не принадлежал ни к каким политическим группировкам, да еще и не был известен как ученый, поэтому уклоны троцкистские и правые на его судьбе пока никак не сказывались. Ему не приходилось каяться и, бия себя в грудь, отрекаться от своих прошлых или настоящих «ошибок». Я просто боялась, что его затянет саратовская жизнь, серость. Наконец я его уговорила, и он послал телеграмму Пашуканису, что согласен. На другой день он встал в шесть часов утра и ушел из дома. Вернулся и сказал, что решил остаться в Саратове, и, чтобы я его не переубедила, побежал рано утром, а чтобы там не удивлялись, написал, что жена срочно заболела психическим расстройством и он отказывается (психическим, потому что как это вчера была здорова, а к утру заболела). С тех пор здоровье жены частенько фигурировало в случаях, когда надо было от чего-нибудь отказаться (особенно от банкетов впоследствии). Объяснение было бурным, и вопрос о переезде в Москву был как-то улажен. В Саратове у нас была прекрасная квартира, хорошо обставленная благодаря родителям. Рояль, американское бюро (оно еще сейчас на даче), кожаная мебель, ковер (персидский), на барахолке купленный. Ничего не было жалко, когда уехали в Москву в 16,5‐метровую комнату в коммунальной квартире на Усачевке на пятом этаже без лифта. В квартире жил молодой рабочий с Госзнака с женой. Они были ужасно надменными – рабочий класс, с нами знаться не хотели. Нас это не очень огорчало.
Немного вернусь к Саратову. Я забыла написать о Ширшове. Это был наш приятель и его жена врач тоже. Он в наше время был на какой-то большой хозяйственной работе. Его жизнь очень типична для того времени. До революции он работал учеником кондитера в частной кондитерской. Ему было лет семнадцать, хозяином он был доволен, но работать приходилось по ночам, чтобы к утру был свежий хлеб. Однажды под утро – они уже устали – входит хозяин, видно, с какого-то вечера: во фраке, белой манишке, выпивший и начинает что-то ворчать. Ширшов в это время взбивал какой-то крем для пирожных, подошел к хозяину и эту посудину с кремом надел ему на голову. Он выскочил из кондитерской и туда больше не вернулся. Началась революция. Он пошел добровольцем. Потом был назначен в ГПУ, откуда его послали в качестве секретного сотрудника изучать настроения студентов. Тогда он кончил юридический факультет, хотя среднего образования у него не было. В Саратове он пользовался большим почетом, такой партиец с высшим образованием. Он был, кажется, директором кожевенного завода. Выпивал, но не очень. Однажды он был по служебным делам в банке. Вдруг в бухгалтерии к нему подходит один из бухгалтеров и говорит: «Я вам должен деньги, в семнадцатом году вы у меня недополучили зарплату и ушли!» Это был бывший хозяин кондитерской. Они побеседовали по-приятельски и разошлись. Выдержал Георгий Михайлович Ширшов огонь и воду, а на медных трубах споткнулся. Назначили его, ни больше ни меньше, директором Сталинградского тракторного завода[56]. Это было ни по разуму, ни по опыту, ни по характеру. Он начал пить, дело шло плохо. Завелись женщины. Одна из них публично положила ему на стол в кабинете ребенка – его ребенка. Был скандал. Словом, его сняли, они переехали в Москву. Он стал работать, не знаю где. В каком-то качестве он занимался чисткой Москвы от «нежелательных элементов». В эту категорию попадала Зина Старосельская. По нашей просьбе он ее вызволил, и она осталась жить дома. Он же жил до смерти в Москве. 1937 год его миновал. Он рассказывал, какими хитрыми ходами ему удалось избежать ареста.
Итак, началась наша московская жизнь в пять человек на 16,5 кв. м. Была карточная система. Мы с Леней питались на работе в столовых. Леня маленький – в детском саду. Дома были Дуняша и Оля. Как получались продукты, я не помню. Я кончала университет второй раз. Думаю, что покупки делал Леня, а всеми домашними делами занималась Дуняша. Это быт. Мы, приехав в Москву, попали в такой круговорот жизни и всяких событий, что едва замечали себя. Не говоря о том, что нас окружали родные: Прасковья Яковлевна, папа, брат Юрий, Трахтенберги, такие близкие друзья, как Яков Старосельский, Борис Аронович Патушинский, Зиновий Исаакович Шкундин. Все это были люди замечательные, каждый по-своему, но общее было одно: все самозабвенно работали, и никто не сомневался в правильности политики индустриализации. Троцкого выслали из страны, троцкистов или тех, кого сочли «органы» троцкистами, посадили. Программа же беспощадной индустриализации Троцкого начала проводиться в жизнь. Какие были возможности для индустриализации – напоминает слово «грабарь». Это был мобилизованный с лошадью, телегой, лопатой, кайлом и со своими продуктами на месяц мужик, оторванный от своего хозяйства. На Магнитке работали «грабари». Трудно и тяжело было всем, всякое сомнение, критика карались жестоко, священная «классовая ненависть» превращалась вообще в ненависть, подозрительность, «бдительность». Сомнение в гениальности Сталина никто не смел высказать, да мало кто и сомневался. Ведь это он вел государственный корабль к социализму. Двоюродный брат Лени, начальник Ивановского ГПУ Слава Домбровский[57], говорил: «Мы не можем позволить, чтобы государством управлял Калинин-старик», «Если мы раньше рабочий класс не трогали, были уверены, что там нет и не может быть ни сомнений, ни вредительства, то теперь ого-го!» Круг ненависти все расширялся. «Массы» нуждались в воспитании, в наказаниях, в том, чтобы их вели к социализму. Как это делать и что это такое, знал один «гениальный вождь», он же «отец народов». Кроме того, были вожди по нисходящей до секретаря райкома. Потом были члены партии, которыми руководили вожди, потом были массы, которые «воспитывались». Кроме того, была еще теория «винтиков». Это значило, что массы и, как будто, рядовые члены партии были «винтиками» – безмолвными и бездумными, которые ввинчивались все теми же вождями. Практически же сила была в руках ГПУ (или тогда как-то уже называлось иначе). Нам это разъяснил Слава Домбровский. Всех, кто хотел думать иначе, он «разгромлял». Разгромлены были финансисты, которые не соглашались с финансовой реформой, громили всех, у кого плохо шло дело. Страх начинал забираться под кожу у всех.
Государство тем временем крепло. Промышленность росла, реорганизовывалось, перестраивалось производство. Леня попал в эту струю. Он работал в Комакадемии[58], где его всеми силами поддерживал Пашуканис. Кругом была очень опытная, талантливая старая профессура, которая крепко держалась за свои старые юридические концепции, т. е. что гражданский кодекс всеобъемлющ и пригоден для управления госпромышленностью. Леня же решил, что такое совершенно новое, отличающееся от всего ранее существовавшего явление, как огромное хозяйство госпромышленности, требует новых форм управления, а стало быть, и новых законов. Он назвал эти законы «Хозяйственным правом». Это было его детище, и здесь его поддерживал Пашуканис. Но был еще Стучка, который придерживался несколько иной точки зрения. И Леня по своей неискушенности на каком-то ученом собрании выступил с критикой взглядов Стучки. Он думал, что это просто ученая дискуссия, но он забыл, что выступил против «вождя». На другой же день Стучка его вызвал и сказал, чтобы он подавал заявление об уходе из Комакадемии, так как они не сходятся во взглядах. Стучка был уже испорчен «вождизмом». Леня был очень огорчен, потому что уважал Стучку. Надо сказать, что «вождизм» проник и в ученую среду, что приводило к застою в науке. Вспомните впоследствии Лысенко в биологии или запрет кибернетики. В это время на Леню накрутилась масса обязанностей: заведывание кафедрой хозяйственного права в Плехановке[59], преподавание в Институте красной профессуры, редактирование БСЭ по юридической части и еще что-то.
Я помню, как я пришла однажды в Плехановский институт послушать, как Леня читает лекции. Мы с ним вошли в вестибюль, я пошла раздеваться в студенческую вешалку, а Леня – в профессорскую. Тут же его окружили члены его кафедры, старые маститые профессора Генкин, Шредер и еще несколько человек, и все оживленно заговорили. Леня бросил свое пальто на барьер к швейцару и ждет, когда у него возьмут пальто. Швейцар берет у всех пальто, все продолжают говорить. Леня видит, что у всех пальто взяты, поворачивается к швейцару и говорит: «Возьмите, пожалуйста». – «Здесь только профессора, а студенты в другом месте». Леня растерялся, а кто-то из профессоров шепнул что-то швейцару, и конфликт был улажен. Лене было 32–33 года, а профессорам кому 60, а кому и больше. Словом, зрелище было забавное. Читал лекции и вообще выступал Леня превосходно. У него был хорошо поставленный голос на большую аудиторию, прекрасная дикция. Правда, он картавил, но это заметно было сначала, а потом забывалось. Когда он начинал читать, было даже не очень понятно, к чему он это говорит, на тему ли он говорит, но потом вдруг он высказывал какую-то мысль, и все, что раньше казалось разрозненным, надевалось на один стержень. И лекция превращалась сразу в логически кристально ясную. Когда он выступал в Комакадемии (мне рассказывали) на каком-нибудь скучном собрании, после того как объявляли выступление Гинцбурга, все курильщики из коридоров и соседних комнат стягивались в зал. Так вот, Леня не захотел «каяться» перед Стучкой, молча вышел и написал заявление. Стучка был порядочный человек, и дальше это дело не пошло. Вообще же в науке если стоял вопрос о том, что «выступление не соответствует», то устраивался спектакль, когда все «праведные» улюлюкают, стараясь одни перед другими доказать тем самым свою «праведность», а согрешивший должен был каяться: сначала устно признавать свои «ошибки», а потом письменно. Правда, это было несколько позднее. Но было. Например, профессор Александров написал о себе, что он страдал «юридическим кретинизмом»[60]. Постарался сверх меры. Пришлось каяться и Пашуканису после выхода его знаменитых работ[61]. Это было в Институте красной профессуры на Остоженке. Леня присутствовал там. Когда он шел к себе домой на Зубовский бульвар (мы уже там жили), он увидел, что около остановки трамвая, освещенный электрическим фонарем, стоял Пашуканис. Он ничего не замечал. Лицо его было такое ужасное, что Леня не решился к нему подойти. Леня считал, что после этого Пашуканис сломался. Он не смог больше ничего путного написать. Пашуканис был партиец, искушенный в партийных делах. Леню он очень ценил как ученика, возлагал на него большие надежды. «Вы должны быть советским Даренбургом», – говорил он Лене. И вот, имея в виду Ленины простодушие, доверчивость и искренность, он, понимая всю ситуацию при существующей теории: «лес рубят, щепки летят», как я теперь понимаю, решил его спасать и отправить на некоторое время за границу. Официальная версия была такая: для расширения научного кругозора Гинцбург должен ехать за границу. Но денег на заграничные командировки ученым тогда не давали, и Лене предложили ехать на работу во Внешторг в Милан. Он мне об этом сказал. Я уперлась: если ехать, то только в Париж. Согласились на его условие. Так мы попали в Париж. Но это потом, в 1934 году было.
А пока что я тоже пустилась во все тяжкие. Ленечку отдали в детский сад. Олечка была с Дуняшей дома. За сыном чаще всего заходил отец, так как я возвращалась позже. Я перевелась из Саратовского университета в Московский. Переехали мы осенью 1929 года, а я кончила в декабре 1932 года. Училась я вечером, а днем работала в акционерном обществе «Трансстрой» (итальянцы нам строили подвесные железные дороги в разных местах Советского Союза) помощником юрисконсульта.
Юрисконсультом был наш приятель Б. А. Патушинский, маленький худенький еврей с огромными печальными глазами в пенсне. Умница, добрейший деликатнейший человек, советской власти преданный бесконечно, но уже начавший недоумевать и удивляться. Рассеян был до чрезвычайности. В молодости (ему было сорок лет) у него невеста кончила жизнь самоубийством. Мы не знали причины, и он был холост, жил с матерью, очень нуждался. Зарплаты на двух человек никак не хватало. Леня его частенько привлекал к литературной работе. Он писал статьи по строительному праву. Его очень ценили и уважали в Трансстрое. Он вечно волновался и нервничал, потел. «Вера Александровна, дайте папку, которую вы у меня взяли». – «Я не брала у вас папки». – «Ищите, мне очень нужно, а у меня ее нет». – «Я сейчас пойду искать на вашем столе, и если найду, вы женитесь!» – «Женюсь!» Я тут же на самом видном месте обнаруживаю папку. Смущение, извинения. У нас там была стенографистка, прекрасная стенографистка. Деваха лет девятнадцати. Здоровенная, высокая, косая сажень в плечах, красивая, румяная, очень молчаливая. И надо же было Борису Ароновичу влюбиться в эту стенографистку. Он обращался к ней не иначе как: «Извините, что я вас пригласил, мне нужно прибегнуть к вашему божественному искусству». На ее лице не вздрагивал ни один мускул. Она молча садилась, писала и молча уходила. Она была на целую голову выше Б. А. И вот он сделал ей предложение. Она сказала: «Я спрошу мамашу». Она была дочь мясника. Он переживал невероятно, еще похудел. Наконец, она говорит: «Мамаша говорит, что вы для меня стары». Это было еще деликатно. Она потом вышла замуж за прораба, рыжего огромного парня. Это была пара. Я забыла сказать, что Б. А. Патушинский был из семьи известных сибирских золотопромышленников. В детстве у него были учителя по иностранным языкам. В университет он поступил уже с нами. Это был единственный человек, который приходил ко мне уже после ареста Лени, и я была у него, кажется, один раз и там встретила его приятельниц по КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога). Их мужья уже сидели. Тогда всех служащих КВЖД посадили как шпионов, когда дорога была передана китайцам[62]. Я им сказала, что встретимся где-нибудь в лагерях. Они замахали руками. Встретиться мы не встретились, но попали все туда же. Мать у Бориса Ароновича умерла. Он, не приспособленный к жизни, все хирел и хирел и умер от туберкулеза горла, когда нас не было в Москве. Работа в Трансстрое меня совсем не увлекала. По общественной линии я должна была вести консультации в Союзе строителей. Это было интересно и легко, были там довольны. После работы я бежала в университет, что-то там делала. Я совсем не помню там ни преподавателей, ни студентов. Я была такая усталая, что еле сидела. Домой на пятый этаж влезала с трудом. У меня стало плохо с сердцем. Вообще, все эти нагрузки были только от жажды жизни. Нужды никакой не было в этом.
Наконец, в 32‐м году я получила диплом об окончании экономического факультета – ФОНа (факультет общественных наук или что-то в этом роде). Меня должны были распределить на работу в трест ЦЭТ (электро), так как я там проходила практику и на меня был запрос. Я встала на дыбы – хочу на завод. В тресте был шестичасовой рабочий день для служащих, на заводе – восьмичасовой. В ЦЭТ надо было к девяти часам, на заводе – к восьми часам. Но я хотела быть в самой гуще – строить социализм. Завод «Электросвет» в конце Пироговки, на который я устроилась, и сейчас еще существует. Он делал осветительную аппаратуру, разные абажуры, эмалированные для цехов, и из отходов – «ширпотреб». Немыслимо грубые люстры. Скажем, из полосы железа выштамповывалась какая-то деталь много раз подряд, получалось вроде вырезанного рисунка, и из этой полосы гнули люстру. Существовал эмалировочный цех. Эмалированные абажуры грузили навалом в грузовики, сваливали на станции, затем грузили в вагоны, они тряслись в вагонах. К потребителям попадали оббитые, в вагонах пол был зеленый от эмали, также и место на станции, где их сваливали. Несколько раньше их упаковывали в ящики, но нашелся догадливый человек, который внес «рационализаторское предложение», посчитали экономию на бестарную перевозку, он получил, что в таких случаях причитается. Все видели это безобразие, но в плане уже не было упаковки, и все. Был цех распределительных щитов, и на самом верху, на третьем этаже был «секретный» цех, где делали военную морскую арматуру. Причем мы полным именем в плане и в сводках писали «боковой фонарь» и «задний фонарь» и количество, а смотреть было нельзя. Видимо, была небольшая неувязка в «секретных» делах.
Рабочих было около 2000 человек (а может быть, и меньше). Было заводоуправление, планово-производственный отдел, бухгалтерия, отдел кадров. В каждом цехе своя контора. На заводе была всесильная бухгалтерия, которая жила по своим инструкциям и никак не хотела считаться с тем, что кроме нее есть еще сам завод, который нуждается в отчетных данных. Бухгалтеры нас открыто презирали и не желали с нами знаться. Поэтому (тем более что сроки отчетности были разные) мы вели другой «внесистемный учет» выполнения плана. В плановом отделе мы составляли планы, писали конъюнктурные отчеты, делали сводки на всякие сроки. Кроме того, должны были заниматься организацией цехового и бригадного хозрасчета, соцсоревнования и пр. Я начала заниматься всем этим со всем душевным пылом. Но была бухгалтерия, которая не хотела свою отчетность строить по «хозрасчетным цехам», а тем более бригадным. Внесистемный учет был необязателен, не узаконен и никому не нужен, был один шум. Приезжали кандидаты наук, которых послали ко мне и от которых я старалась избавиться, так как путного ничего не было, а врать не хотелось. Была одна вдохновенная журналистка, которая занималась бригадным хозрасчетом, я обрадовалась и самоустранилась. Она писала о труде работниц. Она их замотала вконец, пока не поняла, что ей лучше вовремя закруглиться. Соцсоревнованием я тоже занималась вполне добросовестно. Заметим только, что меньше всего соревнованием занимаются сами соревнующиеся. Помню, что к нам в комиссию (это была общественная работа) никто из рабочих ни с одним вопросом не пришел. Мой большой портрет среди стахановцев висел на заводском дворе. Я начала заниматься улучшением отчетности в учете. Мы с одним экономистом С. Плискиным начали заниматься стандарт-костом[63]. Но эта система при безграмотности бухгалтеров и при отсутствии счетной техники не могла быть применена на нашем заводе. Словом, хватались, метались, искали что-то новое. Вспомнили о хозрасчете бригад. Это хоть будет учитываться в системе общей бухгалтерии. А учет выполнения плана и цены – условные. Все это опять будет «внесистемное». Это все больные места любого экономиста-производственника.
Начальником нашего отдела был Попов. Бледный высокий человек, он был болен туберкулезом. Умный, спокойный, строгий, ему была малоинтересна работа на заводе. Когда Леня стал работать в дополнение ко всем другим работам еще и во вновь организуемом институте по организации промышленности и стал подбирать себе штат, я ему сказала про Попова, он его позвал, поговорил, и тот там начал работать. Уже были напечатаны его статьи, Леня был им доволен. Однажды вызывает директор Леню: «Леонид, кого ты взял к себе на работу? Это провокатор. Он из белых офицеров, вернулся домой и теперь его используют для каких-то сношений с белыми за границей». Мы с Плискиным считали его глубоко порядочным человеком. Спустя некоторое время он застрелился.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Черта постоянной еврейской оседлости – граница территории, за пределами которой в Российской империи с 1791 г. по 1917 г. запрещалось постоянное жительство евреям, за исключением лиц, перешедших в христианство, отслуживших солдат, купцов первой гильдии, лиц с высшим образованием и ряда других категорий еврейского населения. Она охватывала значительную часть территории современных Белоруссии, Украины, Литвы, Латвии, Молдавии и Польши.
2
Прозвище Николая II.
3
Лиц иудейского вероисповедания принимали во все российские университеты на все факультеты, но по очень небольшой «процентной норме», поэтому из‐за высокой конкуренции поступить им было очень трудно.
4
См.: Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь: От предшественников декабристов до падения царизма. Т. 3. Восьмидесятые годы. Вып. 2. М., 1934. Стб. 808–809. См. о нем также: Указ. соч. Т. 5. Социал-демократы. 1880–1904. Вып. 2. М., 1933. Стб. 1274–1275. Я. Л. Гинцбург в 1886 г. окончил Саратовскую гимназию и в том же году поступил в Московский университет, но за участие в студенческих волнениях в 1887 г. был отчислен и выслан в Саратов. В 1888 г. поступил в Юрьевский университет на естественный факультет, по окончании перевелся на медицинский факультет. В 1895 г. был арестован и находился под следствием, но через два месяца дело было прекращено за недоказанностью обвинения. В 1896 г. он окончил учебу и в дальнейшем работал врачом в Саратове.
5
Золотопромышленник Г. В. Юдин собирал библиотеку с 1869 г., покупал в том числе коллекции рукописей и уникальных русских изданий. К 1905 г. библиотека насчитывала 81 тыс. томов. В 1906 г. коллекция была продана и составила основу Славянского отдела Библиотеки Конгресса (США).
6
В своих воспоминаниях о Ленине В. М. Крутовский сообщает иное: с Лениным они познакомились не в Красноярске, а в Самаре на вокзале и ехали в одном купе до Красноярска. Он пишет: «Я тогда состоял членом губернской администрации, имел связи и знакомства, и, условившись с Влад. Ильичем, предпринял некоторые шаги, чтобы губернатором Влад. Ильич был назначен в ссылку в город Минусинск. По моей же просьбе и врачебное отделение, освидетельствовавши Влад. Ильича, нашло, что для его здоровья необходим более мягкий климат, т. е. южная часть губернии. Так и вышло, Влад. Ильич был назначен в Минусинский уезд в распоряжение минусинского исправника. Туда Влад. Ильич поехал тоже свободно, без всяких жандармов. В то время в Минусинске находилась большая колония политических ссыльных, но Влад. Ильич не захотел сам оставаться в городе и просил исправника отправить его в одно из сел и такое, в котором политических ссыльных нет. ‹…› Тогда ему было назначено село Шушинское, куда он прибыл тоже без всяких жандармов ‹…›» (К биографии В. И. Ленина // Былое. 1924. № 25. С. 129).
7
Общество врачей Енисейской губернии было создано в Красноярске в сентябре 1886 г. В. М. Крутовским и П. И. Рачковским. Входившие в него врачи, фармацевты, ветеринары и естествоиспытатели занимались лечебной, научной, санитарно-просветительской и благотворительной деятельностью. Общество прекратило свою деятельность в 1940‐х гг.
8
Хавбек (от англ. half-back) – устаревшее название полузащитника в футболе.
9
В семинарию поступали обычно лица духовного сословия. Но там им нередко давали новую, звучную фамилию, например Добролюбов, Благовещенский, Алмазов.
10
Каинск – уездный город Томской губернии, затем – Новосибирской области, с 1935 г. – Куйбышев.
11
Верный – областной город Семиреченской области, до 1867 г. военное укрепление Верное (Заилийское), с 1921 г. – Алма-Ата, с 1993 г. – Алматы.
12
Аршин – старорусская единица измерения длины, равная примерно 0,7 метра.
13
Святой Грааль – в нормандских и кельтских легендах чаша, из которой Иисус Христос пил на Тайной вечере и в которой потом была собрана его кровь, пролитая на Голгофе. Впоследствии многие занимались ее поисками, поскольку считалось, что обретение Грааля обеспечивает своего рода возвращение в рай, обретение счастья и покоя.
14
Плаха – расколотая пополам деревянная колода.
15
Полати – настил для спанья в избе под потолком, между печью и противоположной ей стеной.
16
Имеется в виду Н. А. Гончаров.
17
В воспоминаниях М. В. Кирмалова (внучатого племянника И. А. Гончарова) содержится информация о слухах, которые появились в середине 1880‐х, когда «Иван Александрович был занят заботами о детях своего покойного слуги. Приходилось хлопотать, ездить к начальству учебных заведений. ‹…› В готовности разных лиц сделать ему угодное он чутким и подозрительным ухом улавливал уверенность в том, что он хлопочет за своих детей. “Вот, насбирали по лакейским и девичьим сплетен и считают этих детей моими”, – возмущался он, идя с отцом и мною по Невскому» (Кирмалов М. В. Воспоминания об И. А. Гончарове // И. А. Гончаров в воспоминаниях современников. Л., 1969. С. 113).

