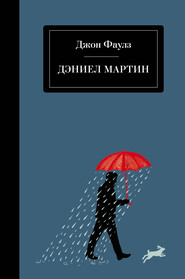
Полная версия:
Дэниел Мартин
Теперь-то я понимаю, что по-настоящему он больше всего боялся обнаженности чувств. Он вкладывал необычный смысл в слово «демонстрировать», перетолковывая, расширяя его значение так, что оно включало всякое проявление гнева, убежденности, слезливости… любое проявление сильного чувства, каким бы невинным или оправданным оно ни было. Любой из приезжих проповедников, проявивший чуть больше рвения, несогласные участники деревенских споров, даже я сам, несправедливо обвиненный в каком-то проступке: «…если бы только этот добрый человек меньше полагался на демонстративные жесты; все эти демонстрации не способствуют решению проблем этой дамы; не следует так демонстрировать свои чувства, Дэниел». Он вовсе не ожидал, что я промолчу, имея разумные основания возражать; просто я осмелился проявить естественный темперамент, пытаясь оправдаться. Это слово – в моем случае – подразумевало множество самых разных вещей: угрюмость, радость, взволнованность, даже обычную скуку. У отца существовало какое-то необыкновенное платоническое представление о совершенстве человеческой души, где отсутствовали или напрочь подавлялись любые чувства, проявления которых он называл «демонстрацией». Я с ужасом думаю о том, как он отнесся бы к современному политическому смыслу этого существительного и соответствующего ему глагола.
И все же, раз уж (или, может быть, поскольку?) англичане – это англичане, он считался в приходе очень хорошим человеком. Он был бесконечно терпелив с самыми сварливыми старыми девами, с сочувствием относился к (несколько) более просвещенным прихожанам. Как и во многих других девонских деревнях, у нас не было своего сквайра{64}; в округе было несколько домов довольно крупных землевладельцев, куда мы ездили в гости, но в самой деревне отец был де-факто, социально и символически, как бы вождем племени: он заседал во всех комитетах и комиссиях, с ним консультировались, к нему обращались за советом по любому поводу. Думается, он вполне подходил для этой роли. Сам он в это искренне верил, что лишний раз доказывает, что он не был глубоко религиозен. По-настоящему он верил в определенный порядок и в то, что по праву занимает свое пусть и не слишком, но все же привилегированное место в этом порядке. Существовали крестьяне, фермеры и владельцы магазинов; во время войны появились самые разные эвакуированные – пожилые люди, поселившиеся в арендованных домах; и были люди, подобные нам. Мне никогда не позволялось ни на йоту усомниться (может быть, потому, что правда о происхождении матери могла такое сомнение породить), какое место в обществе мы занимаем. Доказательство постоянно висело перед глазами, на стене нашей столовой: портрет маслом моего прадеда, который был – подумать только! – епископом. Справедливости ради следует сказать (даже если бы его женитьба не была тому доказательством), отец вовсе не был снобом. Может, мы и повыше рангом, чем все другие в деревне, но не должны никому дать это понять. Нельзя проводить различие между теми, с кем нас обязывает общаться пасторский долг, и теми, чье общество приятно нам по социальному уровню.
По существу, отец представлял собою пусть не классический, но достаточно тонкий пример того, почему военные и церковники – крест и меч – так часто кажутся двумя сторонами одной медали. Он не был суровым человеком, несмотря на отсутствие чувства юмора, которое порождалось скорее его непреодолимой рассеянностью, чем неодобрительным отношением к смеху вообще. В его характере не было ничего, что делало бы его домашним тираном; на самом деле он был терпим там, где другие отцы выходили бы из себя, молотили бы кулаками по столу; и я уверен, он был терпелив со мной вовсе не потому, что я был единственным ребенком и – формально – рос без матери. До четырнадцати лет, когда я уехал в школу, я был далеко не ангелом, но отец никогда не прибегал к телесным наказаниям. Он не одобрял их – ни дома, ни в деревенской школе, – хотя все-таки отправил меня в интернат, где младшие ученики каждые две недели подвергались порке с монотонной регулярностью. Царившая в доме тирания проистекала из безусловной веры в систему, в существующие общественные рамки. Как солдат не может подвергать сомнению приказы, иерархию командования и все, что с этим связано, точно так же были лишены этого права и мы. Можно было в крайнем случае высказать осторожное замечание о форме проповедей какого-нибудь священника из соседней деревни или покритиковать кого-нибудь из духовного начальства в Эксетере, даже самого епископа; но никаких сомнений в том, что они по праву занимают свое место, быть не могло. Во время войны все это, разумеется, было совершенно естественно: общество замерло в своем развитии, что и дало лейбористам возможность одержать победу на первых послевоенных выборах. Я думаю, совершенно неосознанно и вопреки тому, что Гитлер был архи-демонстративен, отец не мог не одобрять его за то, что ему удалось так надолго задержать социальный прогресс.
Я попытался отобразить все это в пьесе, построенной вокруг образа отца; еще одна параллель, там проведенная, важна, как мне кажется, и до сих пор. Речь идет о том, как англичане превращают внешнюю свободу (в отличие от свободы воображения) в игру по правилам, где допускается свобода совершать любые поступки, кроме тех, что могут нарушить раз и навсегда установленные правила. Подозреваю, что у англосаксов господствовало гораздо больше всяческих табу, чем у кельтов, которых они вытеснили из Англии. Если римляне принесли с собою цивилизацию, то германские племена принесли ритуальные коды, до сих пор живущие в нашей отвратительной способности изобретать игры по правилам, совершенствовать искусство убивать время в соответствии с чужими установлениями. Еще в школе (да и до сих пор) у меня вызывали особое отвращение командные игры, впрочем, тогда я объяснял это тем, что они были ярким символом всей садистской системы сотворения стереотипов. А теперь я вижу в этом неприятии еще один результат отцовского воспитания «от противного».
Жили мы очень скромно, хотя больше из приверженности пасторскому хорошему вкусу, чем из нужды. Наш приход (даже два прихода, поскольку в отцовском попечении был еще и соседний хутор) давал приличное обеспечение, и сверх того у отца было еще несколько сотен фунтов в год собственного дохода; были еще деньги моей матери, оставленные мне под опеку отца; даже у Милли были собственные сбережения. Этот образ жизни тоже стал казаться мне лицемерным, когда я подрос и обнаружил, что наша предполагаемая бедность была просто бережливостью. Вне всякого сомнения, много средств тратилось на благотворительность и на поддержание двух церквей в должном виде; но благотворительность никогда не распространялась на домашних – в том, что касалось подарков ко дню рождения, карманных денег и тому подобного. С тех самых пор я беспечен в отношении денег: еще одна статья в моем к нему счете.
У отца была одна истинная страсть, за которую его любила вся деревня, из-за нее же, правда с некоторым запозданием, он стал дороже и мне. Это была маниакальная любовь к садоводству. Хотя во время наших редких пикников он и бродил следом за мной, собирая растения, на самом деле дикой природы и диких растений он не одобрял. Он проводил некую аналогию между садоводством и тем, как Господь следит за окружающим миром; в природе же все происходит у тебя за спиной, ты не можешь следить за этим и контролировать происходящее. Во всяком случае, свой сад и свою теплицу он просто обожал. Садоводство и тексты семнадцатого века, которые он любил просматривать, были единственным его увлечением, а что касается садоводства – увлечением прямо-таки греховным. Если ему не удавалось достать отросток какого-то редкого куста, он не считал зазорным его стянуть, с таким небрежно-безразличным и вместе с тем виноватым видом, что можно было только восхищаться. Он всегда, даже в самые погожие дни, носил с собой зонт – прятать неправедным путем добытые черенки и рассаду. Это было одно из немногих прегрешений, по поводу которых тетушке Милли и мне разрешалось его поддразнивать, и разрослось оно до совершенно чудовищных пропорций, когда в один прекрасный день кто-то из пострадавших оказался у нас в саду и обнаружил там процветающее потомство редкостного экземпляра из сада собственного. Отцу было так стыдно, что пришлось прибегнуть к прямому вранью о происхождении этого чуда, а мы уж постарались, чтобы он не забыл о происшедшем.
Самые теплые мои воспоминания – об отце, стоящем в теплице, в старом, напоминающем епископское одеяние фартуке из фиолетового сукна, который он надевал, когда занимался садом. Иногда, в жаркие дни, он снимал пасторский воротник, и ничего не подозревавшие чужаки принимали его за наемного садовника, какого мы, разумеется, не могли себе позволить. Когда я подрос, эта сторона его жизни стала меня раздражать, мне хотелось читать книги, бродить по округе во время каникул; но мальчишкой я любил помогать ему с рассадой и всем прочим. Он особенно любил выращивать гвоздики и примулы; посылал их на выставки цветов перед войной и до самого конца жизни участвовал в жюри этих выставок.
Сейчас это выглядит абсурдно. Завтрак, маленький мальчик влетает в комнату: Osmanthus проклюнулся! Clematis armandii! Trichodendron!{65}Названия эти не были для меня латинскими или греческими, они были как имена наших собак и кошек – такие знакомые и любимые. У нас был и огороженный каменным забором огород, но овощи отцу были не интересны. Бережливость была забыта настолько, что дважды в неделю к нам приходил человек – специально заниматься огородом. Гордостью отца были фруктовые деревья: яблони и груши, посаженные еще прежними обитателями, и те, что добавил отец; старые шпалерные и кордонные посадки с ветками хрупкими, словно древесные угли. Я думаю, их до сих пор выращивают там: «жаргонелла» и «глу морсо», «мускатный бергамот» и «добрый христианин»; «коричные» и «пипины», «уордены» и «кодлинги», и безымянные – тети-Миллино дерево, «желтый дьявол» – потому что эти яблоки загнивали в хранилище – и «зеленый пикант». Я знал их все по именам, как другие мальчишки знали членов крикетной команды и футболистов графства.
И я получил от него в дар не только поэзию сада: ему я обязан знакомством с поэзией в прямом смысле этого слова; но, как это часто бывает с дарами, полученными детьми от родителей, они дозревают долгие годы. Когда я был совсем ребенком, отец любил – или, во всяком случае, считал своим долгом – почитать мне что-нибудь на ночь, если не был занят. Порой, когда я стал чуть взрослее (но далеко не достаточно!), он читал мне отрывок попроще из какого-нибудь текста семнадцатого века: думается, больше из-за того, как звучит там английский язык, чем из-за религиозного содержания, хотя, может, и надеялся на что-то вроде эффекта Куэ{66}. Время от времени он принимался рассказывать о том, что происходило в церкви в то время и какая борьба идей кроется за тем или иным отрывком, словами, понятными несмышленышу: так менее глубокомысленный папаша мог бы рассказывать о реальной истории взаимоотношений ковбоев и индейцев в Америке. Разумеется, подрастая, я мысленно рисовал довольно путаные картины того, как теологи разного толка грозят друг другу, размахивая ружьями и пистолетами, и полагал, что когда-то церковь была вовсе не таким уж скучным для пребывания местом.
Теперь я понимаю – отцу всегда хотелось, чтобы я был постарше; казалось, он предвидел, что, когда девятилетний ребенок, которому он читает на ночь, станет девятнадцатилетним, каким ему хочется этого ребенка видеть, такие беседы будут невозможны: я стану его избегать. Но мне не следует изображать отца слишком строгим и не от мира сего. Он почти никогда не возвращался из редких поездок в Эксетер, где обязательно проводил пару часов у букинистов, без подарка для меня: обычно это были книги для мальчишек писателей его детства – Генри{67} или Тальбота Бейнза Рида{68}; я бы, конечно, предпочел Бигглза{69} или последний ежегодник Беано, но и эти книги я читал с удовольствием.
А однажды он привез мне из такой поездки книгу басен. Цена была проставлена на титульном листе: один шиллинг шесть пенсов. Он, очевидно, бегло просмотрел книгу, нашел, что язык достаточно прост и назидателен, а иллюстрации красивы и безопасны. Я же счел странные черно-белые картинки ужасающе скучными; на первый взгляд и вправду жалкий подарок. На самом же деле это был Бьюик{70}, антология 1820 года, гравюры на темы басен Гея{71}. И хотя тогда я этого, разумеется, не понял, то была моя первая встреча с величайшим оригиналом Англии. Но мне было десять лет, и я счел, что подарок – смешная и постыдная ошибка со стороны отца, потому что, листая страницы книги, чтобы отыскать картинки, я наткнулся на одну, которой отец в магазине наверняка не заметил: это была знаменитая гравюра – доктор богословия презрительно отвергает мольбу одноногого нищего, в то время как позади него приблудный пес мочится на его облачение, – крохотное моралите, блестящий лаконизм которого оставался в моей памяти все годы моего детства… да и потом тоже. Кроме того, там были совершенно скандальные сцены с гологрудыми дамами. Я был особенно потрясен – и зачарован – одной картинкой, озаглавленной «Праздность и ленивство»: спящий молодой человек, ночной горшок под кроватью, а рядом две женщины – одна нагая, другая полностью одета; они что-то обсуждают, разглядывая спящего. У меня был соблазн продемонстрировать эту невероятную потерю бдительности тетушке Милли, но я удержался, опасаясь, что отец немедленно явится и конфискует книгу.
И до сих пор каждый раз, как мне случается взглянуть на творения Бьюика, я заново познаю, сколько в нем величия, сколько поистине английского; но даже тогда десятилетнему мальчишке оказалось доступным нечто значительное и глубоко личное, присущее этому художнику и отвечавшее его собственной натуре. Со временем, мало-помалу, он начинал видеть мир глазами Бьюика, как, несколько позже, учился воспринимать окружающее глазами Джона Клэра{72} и Палмера{73}… и Торо{74}. И если когда-нибудь придется продавать книги, зачитанная книжица «Избранных басен» будет последней, с которой я смогу расстаться.
Нечто подобное произошло и двумя-тремя годами позже, когда я переживал первые муки полового созревания. В дождливый день, в тоске и отчаянии, я стащил с самой верхней полки в кабинете отца скучную на вид книгу. Это был первый том «Гесперид» Геррика{75}; по доброй воле случая книга раскрылась на одной из самых грубых его эпиграмм, и я увидел напечатанным слово «пернуть»: до тех пор я полагал, что над такими словами можно лишь хихикать тайком, в школе, далеко от взрослых ушей. Наверху, в своей комнате, я стал читать дальше. Многое оставалось для меня непонятным, но поистине открытием явились для меня жестокость и эротичность тех стихов, что были мне доступны. В последующие годы я множество раз «заимствовал» эти два тома из кабинета отца.
Стихи оказали на меня глубочайшее влияние: таинственность, с которой приходилось похищать эти тома, переставляя книги на полке так, чтобы не зияли пустые места, необходимость запрятывать книги у себя в комнате… но была и иная таинственность, гораздо более полезная – лирический гений Геррика, его потаенная языческая человечность тоже мало-помалу проникали в мою душу. До его «злополучного» прихода в Дин-Прайоре ничего не стоило доехать на велосипеде, и я, наверное, был одним из самых юных его почитателей, когда-либо читавших эпитафию на его надгробном камне, хотя, думается, стоял я там не столько из благодарности поэту, сколько из всепоглощающего недоумения. Как могло случиться, чтобы человеку того же призвания, что мой отец, дозволено было создавать такие жестокие стихи?
Позднее, уже в Оксфорде, мне как-то пришлось подать руководителю курсовую о Геррике. Я был не настолько глуп, чтобы написать автобиографическую работу, однако под моим пером очаровательный, но небольшой поэт превратился в столп человеческого здравомыслия, высочайшее воплощение любви к жизни, – словом, для меня он был Рабле. «Очень интересно, мистер Мартин, – сказал мой руководитель, когда я прочел ему свое эссе. – Но тем не менее на следующей неделе, будьте добры, представьте мне работу о Геррике». Это язвительное замечание было вполне заслуженным; и все-таки, я ведь имел дело с человеком, который всего лишь прочел поэта… а не прожил.
Порой отец мой все же прибегал к цензуре. Еще одной книгой, которую он читал мне на ночь, были «Ширбурнские баллады»{76}. Лишь после его смерти, когда я разбирал отцовскую библиотеку, чтобы отослать значительную часть книг букинистам, я обнаружил, что «Ширбурнские баллады» не просто переложение псалмов: насколько я помню, отец читал мне оттуда исключительно религиозные стихи. В приготовительной школе я уже начал заниматься сухой латынью и греческим, а отец читал мне английские стихи с подчеркнутой выразительностью, как это было принято в его школьные годы. Особенно его привлекали крупные формы, написанные в ритме античного пятидольника, в мощном ритме, столь любезном его слуху, что мы порой даже внимали этим балладам в воскресной школе. Отец стоял на кафедре, размахивая свободной рукой, словно дирижер за пультом, а я мучительно краснел, слыша, как мальчишки вокруг подавляют смешки… как мог он выставлять меня на посмешище своим дурацким чтением стихов? И вот теперь его чтение – во всяком случае, чтение на ночь – одно из самых лучших моих воспоминаний о нем.
Все, что рождается в сердце,Что слышит ухо и видит глаз,Все, что имею и знаю сейчас, —Все это дал мне Ты.Землю, и небо, и свет, и тьму,Душу, и тело, и мир красоты,Пресветлый Христос, дал мне Ты.Всем сердцем Осанну пою я Тебе,Иисус, приди ко мне!Пусть мир соблазняет, к греху влечет.Пусть плоть моя страждет, мне на беду.Пусть даже сам дьявол меня пожрет,В Тебе лишь спасенье найду…Этому не суждено было сбыться. Но я думаю, если бы это все же произошло, то именно благодаря голосу моего отца, этим бесконечным ритмам: долгий-краткий-долгий – и обязательная пауза в должном месте, на каждой цезуре, словно плавно качающиеся суденышки простой, примитивной веры. Иногда его голос убаюкивал меня, и я погружался в сон – в самый сладкий из снов.
Тридцатые годы у нас были иными, чем у всех: в жизни маленького мальчика не было мрачных теней, только бесконечное буйство листвы, солнечный свет, заливающий пространство меж древних стен, покой и защищенность и время, отмеряемое звоном колоколов; запах скошенной травы и отдельность от городского мира – как на острове. Единственная мрачная тень простерлась за чугунными воротами церковного кладбища: могила матери, которой я не знал; но даже и она, казалось, защищала, опекала меня, тихо откуда-то глядя… Каждую осень мы сажали у могилы ее любимые примулы, настоящие примулы Восточной Англии, не гибриды. В Восточной Англии у отца был друг-священник, он специально посылал нам семена. К апрелю могила матери бывала словно ковром укрыта сиреневыми и бледно-желтыми примулами на высоких стеблях; по воскресеньям, после утренней службы, прихожане шли вниз по дорожке к могиле – полюбоваться цветами.
Пришла война, а для меня – пора полового созревания: гораздо более мрачная глава, такая мрачная, что за нею на много лет схоронились ранние годы. Одного года в школе хватило, чтобы мной овладели тяжкие сомнения. И только отчасти потому, что мне недоставало храбрости (ничто так не приводит к общему знаменателю, как общежитие мальчишек из младших классов) защитить собственные – столь часто и беспощадно высмеиваемые – англиканские истоки. Тайная скука, мучившая меня столько лет, бесконечные, бесконечные, бесконечно повторяющиеся гимны, молитвы – длинные и краткие, псалмы, одни и те же лица, одни и те же символы веры, те же обряды, рутина, ничего общего не имеющая с реальной жизнью, – все это я привез теперь в мир, где заявлять вслух, что в храме – скукота, не только не запрещалось, но было делом вполне обычным. Мальчишечьи доводы в пользу атеизма, может, и не отличались строгой логикой и убедительностью, но я воспринял их гораздо быстрее (хоть уже тогда умел это скрывать) и с большей готовностью, чем кто-либо другой. Способствовали этому и мальчишечьи плотские удовольствия: после пресной, бесполой, удушающей любые эмоции атмосферы пасторского дома я почувствовали себя словно Адам в садах Эдема. Разумеется, меня преследовал стыд, острое чувство вины; мастурбация и богохульство сплелись в тугой, неразрывный узел. И то и другое грозило традиционной карой… разверзались Небеса, молнии сыпались дождем, неся проклятия Господни. Но на самом деле ничего подобного не произошло.
Помню, много позже, уже в Оксфорде, я говорил об этом с Энтони; он сказал, улыбнувшись, что прийти к неверию из-за того, что тебя не покарали, почти столь же грешно, как уверовать, обретя награду. Но этот худший грех мне и вовсе не грозил. Я познал нечестивую радость злоязычия: оно мне казалось честнее, чем напускное милосердие при обсуждении чужих недостатков. И мне очень хотелось доказать, что я не бессловесная жертва собственной биографии: в общей спальне, когда гасили свет, я сквернословил и богохульствовал, обмениваясь непристойностями с самыми умелыми. Я открыл в себе совершенно новые стороны: изобретательность, пусть и проявлявшуюся более всего в искусном вранье, острый язык, умение носить маску экстраверта. А еще – я жаждал успеха, жаждал яростно, что невозможно было предугадать в мои прежние годы, и я занимался изо всех сил, хотя отчасти причиной этому было чувство вины – слишком многое из прошлого я ухитрился предать. В нашей библиотеке дома были классики английской литературы, так что я оказался гораздо более начитан, чем мои сверстники. И я продолжал читать в школе. Открытия школьных лет (Сэмюэл Батлер{77}: потрясение и восторг!) все более подрывали мое уважение к отцу и его вере.
Настоящий разрыв с Церковью произошел после события, о котором лучше рассказать чуть позже. Но к семнадцати годам я был уже вполне оперившимся атеистом, настолько убежденным, что регулярно – и совершенно бесстыдно – исполнял все прежние обряды и таинства, когда приезжал домой на каникулы. Ходил в церковь и, без грана веры и с растущей горой грехов за плечами, принимал причастие из рук отца до самой его смерти в 1948 году. Я считал это признаком зрелости – вот так обманывать старика, хотя на самом деле это было в основном проявлением снисходительности… и – отчасти – доброты. Он выдержал с честью мой отказ по окончании школы пойти по его стопам, поддержав семейную традицию, и, по крайней мере внешне, принял мое решение с невозмутимым спокойствием. Но мне кажется, втайне он надеялся, что в один прекрасный день я передумаю, а мне не хватило решимости разрушить эту последнюю его иллюзию.
Я даже ухитрился, не очень осознанно, начать примирение с той сельской местностью, откуда был родом. Школа, иные мнения, иные места, не говоря уже о возрастающем эстетизме в восприятии окружающего мира, дали мне возможность хотя бы разглядеть то прекрасное, что таила в себе сельская жизнь, несмотря на то что тогда – да и многие годы спустя – мне приходилось изображать ее перед друзьями и знакомыми как непереносимое занудство. Щедрая красота и умиротворенность сельских пейзажей, покой пасторского дома, его прекрасный сад… даже наши две церкви. Теперь у меня было с чем сравнивать – школьная часовня, архитектурный образчик поздневикторианской эпохи, была ужасна; теперь я смотрел на них глазами знатоков девонской церковной архитектуры, которые всегда считали обе наши церкви, даже если бы там не было прославленных крестных перегородок{78} и замечательных, пятнадцатого века, цветных медальонов с изображениями апостолов и пресвитеров, не менее примечательными, чем другие церкви графства. Та, что стояла рядом с пасторским домом, отличалась удивительно элегантной башней с каннелюрами, взмывающей ввысь (сравнение приходит из более поздних времен), словно космическая ракета в конусообразной капсуле. Внутри она была полна воздуха и света благодаря огромным тюдоровским окнам; за ней лежало кладбище, а там – тис и два старых вяза и – в отдалении – Дартмур. В этой нашей церкви была еще и самая моя любимая из религиозных картинок – изображение куманской сибиллы{79}, язычницы, каким-то образом затесавшейся в собрание почтенных христиан, запечатленных на крестной перегородке. Отец всегда указывал на нее посетителям, демонстрируя широту своих взглядов… и способность цитировать из «Четвертой эклоги»{80}.
Вторая наша церковь была поменьше, с башенкой, усевшейся, словно сова на крыше, в зеленоватом сумраке давно запущенной рощи. Там еще сохранились старинные, отгороженные друг от друга скамьи и царил теплый покой, словно в материнской утробе; в ней было что-то домашнее, женственное, и все мы, не признаваясь в этом, любили ее нежнее, чем более величественный храм рядом с домом. Любопытно, что она всегда собирала множество прихожан, хотя добираться туда было значительно труднее; люди приезжали со всей округи – из близи и издалека, даже во время войны. Одна церковь была величественной прозой в камне, другая – фольклорной поэмой. Я не возьмусь давать оценку тому или иному участку освященной земли, но я хорошо знаю, на каком кладбище мне хотелось бы покоиться… и место это, увы, не рядом с родителями.



