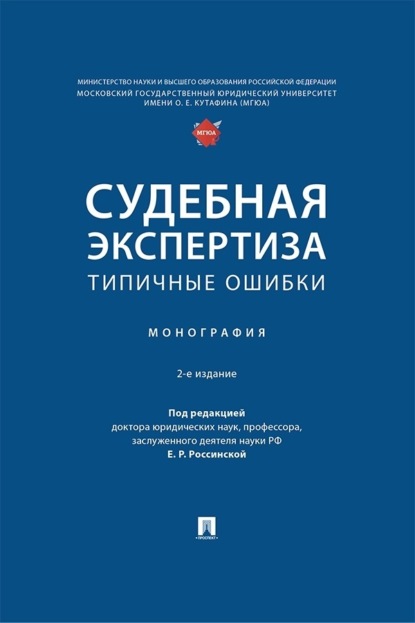
Полная версия:
Судебная экспертиза: типичные ошибки
Постановка перед экспертом правовых вопросов может встречаться в различных родах и видах судебных экспертиз и представляет собой ошибку правоприменителя: «имеет ли право истец на получение авторского вознаграждения и в каком размере?», «содержатся ли в тексте призывы к экстремистской деятельности?», «направлены ли информационные материалы на возбуждение ненависти или вражды?», «каков размер материального ущерба, причиненный экологическим правонарушением?» и др.
Ответ эксперта на подобные вопросы представляет собой экспертную ошибку.
К разновидности экспертных ошибок относят выражение экспертной инициативы в не предусмотренных законом формах, которая выражается чаще всего в изменении экспертом формулировки вопросов, которые ставятся на его разрешение. В п. 30 Инструкции по организации производства судебных экспертиз в ЭКП ОВД РФ содержится положение о том, что в случае необходимости эксперт имеет право изменить редакцию вопросов, не изменяя их смысл[63]. В п. 20 Инструкции по организации производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации указывается, что «в случае если в постановлении (определении) вопросы сформулированы неоднозначно, то эксперт после дословного их приведения может указать в заключении, как он понимает их содержание»[64]. Однако на законодательном уровне у эксперта нет права вторгаться в область компетенции правоприменителя, внося изменения в определение или постановление о назначении судебных экспертиз, принятое в соответствии с установленным процессуальным регламентом.
Поскольку для судебной экспертизы характерно наличие определенной процессуальной формы ее назначения и оформления результатов исследования, эта процессуальная форма назначения экспертизы выступает в целом в качестве гарантии получения достоверного доказательства – заключения эксперта. О необходимости наделения эксперта правом переформулировать вопросы, вынесенные на его разрешение, неоднократно указывали в своих работах ученые-криминалисты и теоретики судебных экспертиз[65].
В результате неправильного выбора правоприменителем последовательности проведения экспертиз по представленным объектам уничтожаются или изменяются информативные признаки этих объектов. Например, при расследовании преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ, сначала была проведена биологическая экспертиза с целью исследования следов биологического происхождения на ноже, назначенная позже дактилоскопическая экспертиза признала следы пальцев рук на ноже непригодными для идентификации.
К следственным и судебным ошибкам следует отнести назначение повторной экспертизы тому же эксперту или той же комиссии экспертов, которыми была проведена первичная экспертиза, в нарушение ст. 20 ФЗ ГСЭД, ст. 207 УПК РФ, ст. 87 ГПК РФ, ст. 87 АПК РФ, ст. 83 КАС РФ.
Назначение комплексных экспертиз вместо комплекса экспертиз нескольких экспертиз по одному и тому же объекту, когда правоприменители не понимают сути комплексной экспертизы, состоящей в одновременном проведении исследований с использованием различных областей знания или с использованием различных научных направлений в пределах одной области знания для формирования общего вывода, также является следственной/судебной ошибкой.
Каждый судебный эксперт, участвующий в производстве комплексной экспертизы, производит исследования и подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность. Выводы, сделанные экспертом самостоятельно, без участия специалистов иных областей знания, должны подписываться им единолично. Выводы по общим вопросам, которых, как правило, в комплексной экспертизе немного, подписываются всеми участвовавшими в экспертизе экспертами. При этом каждый эксперт обладает не только узкой специализацией, но и знаниями в пограничных областях наук, которые использованы при даче заключения[66].
Ошибки экспертов при производстве комплексных экспертиз заключаются в том, что каждый из участников комиссии формулирует собственные выводы, а общих выводов не имеется.
К примеру, на разрешение комиссии экспертов, состоящей из религиоведа, психолога и лингвиста одного из региональных центров судебной экспертизы, было поставлено 11 вопросов. В заключении после приведения исследовательской части, в которой описаны результаты исследования каждого из членов комиссии, указано, что «на основании вышеизложенного комиссия приходит к следующим выводам», далее приводятся «ответы религиоведа» на 6 вопросов, затем приведены «ответы лингвиста» на все 11 вопросов и следом «ответы психолога» также на все 11 вопросов. Каждый из членов комиссии подписал выводы, которые были ими сформулированы[67].
К ошибкам процессуального характера относятся и такие, когда на экспертное исследование представлены объекты, полученные с нарушением требований процессуального законодательства. Например, в ходе расследования по уголовному делу по обвинению в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ была назначена и проведена судебная молекулярно-генетическая экспертиза с целью установить генетический профиль лица. У подозреваемого были получены образцы буккального эпителия. Однако в материалах дела отсутствует постановление и протокол получения образцов для сравнительного исследования.
К следственным упущениям, приводящим к экспертным ошибкам, относятся недоброкачественность или недостоверность представленных материалов эксперту, их неполнота.
В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ, ч. 2 ст. 85 ГПК РФ, п. 6 ст. 49 КАС РФ, ст. 16 ФЗ ГСЭД эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования. Этим правом наделен следователь, или по его поручению – специалист, который может получить образцы для сравнительного исследования, в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли следы подозреваемым, обвиняемым, свидетелем, потерпевшим в определенном месте или на вещественных доказательствах. Однако ч. 4 ст. 202 УПК РФ предусматривает получение экспертом образцов для сравнительного исследования, если оно является частью судебной экспертизы. В этом случае сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении.
Качество образцов, их количество, наличие свободных и экспериментальных образцов зависят от умения следователя правильно их отобрать. Если экспертом направлено ходатайство о предоставлении дополнительных материалов, но оно не удовлетворено либо удовлетворено не в полном объеме, или же следователь подошел к сбору сведений, необходимых для решения экспертной задачи, недобросовестно, все это может привести к экспертной ошибке.
При назначении экспертиз предоставление эксперту полноценных, проверенных, достаточных с точки зрения информативности исходных материалов правоприменителем является основой исследования. И верно наоборот, непроверенные, недостаточные для проведения исследования исходные материалы являются препятствием к проведению объективного и полного исследования, препятствуют работе эксперта и способствуют экспертным ошибкам.
Как указывают исследователи, сотрудникам судебно-экспертных учреждений необходимо взаимодействовать с правоприменителями, в первую очередь по вопросам использования новых методов и технических средств в целях обнаружения, фиксации и исследования вещественных доказательств, а также назначения судебных экспертиз и отбора образцов. «Зная новые технические средства при обнаружении следов на месте преступления, современные подходы в технологии экспертного производства при решении новых экспертных задач, инновационные технологии, следователь (суд) будет правильно оценивать заключение эксперта. Такое взаимодействие будет обогащать процессуальных субъектов как в научном, так и практическом аспектах»[68].
Предоставление образцов для сравнительного исследования, несопоставимых по времени и условиям получения (звукозаписи речи, образцов почерка и пр.), также является причиной экспертных ошибок, которые сам эксперт исправить не может. Правоприменителям следует учитывать, что образцы для сравнительного исследования должны соответствовать объектам.
Например, для портретной экспертизы важным является учет особенностей запечатления исследуемого лица на представленном на экспертизу изображении. Чаще всего на образцах лицо изображено в другом ракурсе съемки, с другим освещением и положением головы. Эксперту следует разъяснить следователю, суду, какие образцы требуются. При необходимости и возможности он может сообщить, что при наличии соответствующего постановления дознавателя, следователя, решения суда он сам может осуществить фотографирование лица, чтобы получить образцы для сравнения необходимого качества[69].
К экспертным ошибкам может приводить и неправильное проведение следственных и судебных действий, действия правоприменителей и специалистов, связанные с нарушением методики сбора и упаковки вещественных доказательств и сравнительных образцов. Небрежная упаковка и отсутствие опечатывания вещественных доказательств может привести и к их фальсификации. Причинами этого могут быть и профессиональная некомпетентность дознавателя, следователя или суда: неумение пользоваться техническими средствами и инструментами; профессиональные упущения специалиста: небрежность, неаккуратность, поверхностное производство следственных действий, пренебрежение методическими рекомендациями, правилами пользования и условиями применения технических средств, неполное выявление существенных признаков объектов, игнорирование тех или иных свойств объектов или их взаимосвязи, дефекты в организации и планировании осмотра места происшествия и иных следственных и судебных действий.
Неправильное хранение и упаковка объектов, изъятых с места происшествия, не обеспечивающая сохранность следов или микрочастиц, может при производстве экспертизы ввести эксперта в заблуждение. Продукты питания со следами зубов не были следователем помещены ни в специальный раствор, ни в холодильник, и в результате их порчи идентификационные признаки исказились и были не пригодны для целей идентификации.
Сбор пахучих следов и отбор сравнительных образцов от подозреваемых, проводимые одним и тем же лицом, создают опасность объединения данных объектов по индивидуальному запаху этого работника; смешение пахучих проб, изъятых с места происшествия, и сравнительных пахучих образцов – при нарушении правила раздельной их упаковки – ведут впоследствии к невозможности проведения исследования.
Одежда, снятая с трупа, не была просушена следователем и сразу была упакована в целлофановый пакет, а не в бумажный. В целлофановом пакете, хранившемся в кабинете следователя при комнатной температуре, создалась среда, приведшая к разложению биологического материала (крови) и образованию микроорганизмов, которые уничтожили края повреждения. В результате повреждение на одежде первоначально было линейной формы, образованное клинком ножа, на момент исследования имело овальную форму. Эксперт дал вывод, что повреждение на одежде потерпевшего образовано не ножом, изъятым у подозреваемого[70].
При изъятии орудий преступления и объектов со следами взлома запрещается объекты упаковывать вместе. Это приводит к повреждению следообразующих поверхностей, появлению дополнительных следов или наслоению взаимопереходящих частиц.
Ошибкой является разрешение следователя сторонам дела храненить крупногабаритные объекты. Например, по делам о ДТП транспортное средство хранится у участника, что может привести либо к умышленной утрате самого транспортного средства, либо к получению дополнительных повреждений на нем, либо восстановлению повреждений на автомобиле, что также препятствует разрешению всех необходимых вопросов, поставленных перед экспертом, либо вынуждает эксперта отказываться от решения вопросов ввиду непригодности объектов для исследования, либо допускает экспертные ошибки.
Однако не только правоприменители, но и эксперты допускают ошибки, связанные с получением некачественных образцов для сравнительного исследования.
В качестве иллюстрации можно привести ряд уголовных дел, получивших широкий общественный резонанс. В апреле 2017 г. в подмосковной Балашихе во дворе дома автомобилем был сбит 6-летний мальчик. Судебно-медицинская экспертиза, которая была проведена, показала, что в крови ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя, что соответствует уровню алкоголя в крови взрослого человека после выпитой бутылки водки. Эксперт ненадлежащим образом провел изъятие образца крови ребенка, что привело к загрязнению его спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения.
Но это не единственный случай. В июле 2019 г. трагедия повторилась на одной из улиц села Буйское Уржумского района Кировской области: тоже 6-летний мальчик выехал на велосипеде на дорогу и попал под колеса автомобиля. Эксперт выявил в крови ребенка 0,51 промилле алкоголя.
В отношении экспертов, проводивших судебно-медицинские экспертизы, были возбуждены уголовные дела по ст. 293 УК РФ.
Основными путями предупреждения экспертных ошибок со стороны следователей и суда являются соблюдение порядка назначения судебных экспертиз и предоставление эксперту необходимых материалов в полном объеме, надлежащего количества, качества и достоверного происхождения, критическая оценка заключения эксперта, его сопоставление с другими, собранными по делу доказательствами.
Со стороны экспертов и руководителей экспертных учреждений пути предупреждения следственных и судебных ошибок связаны с обобщением экспертной практики, взаимодействием с правоприменителями по вопросам использования новых методов и технических средств в целях обнаружения, фиксации и исследования вещественных доказательств, а также назначения судебных экспертиз и правильного отбора образцов.
Особо актуальными на данном этапе являются координация и взаимодействие правоприменителей и экспертов при назначении судебных экспертиз, проведение семинаров и мастер-классов по поводу ознакомления правоприменителей с современными возможностями судебных экспертиз, порядком назначения судебных экспертиз, правильным отбором образцов и выбором условий их хранения, правильными формулировками вопросов эксперту. Также немаловажным аспектом является и активное внедрение в производство судебных экспертиз достижений науки и техники, совершенствования информационного обеспечения эксперта и высокочувствительных методов[71].
Совершенные экспертом ошибки могут привести к различным последствиям, с одной стороны они связаны с дополнительными затратами по их исправлению, увеличению срока рассмотрения и расследования дела, угрозе вынесения незаконного решения, опасности наказания невиновного человека, с другой – приводят к формированию мнения о некомпетентности работников как правоохранительных органов, так и судейского корпуса, подрыву доверия к системе правосудия в целом.
Суды принимают экспертное заключение, проверяя его как на соответствие процессуальным нормам, так и с точки зрения правильности по существу. В случае обнаружения судом нарушений установленных правил, допущенных экспертами в процессе проведения экспертизы, предоставления ложного экспертного заключения, риск вынесения незаконного судебного акта значительно возрастает[72].
Ошибки правоприменителей могут приводить к экспертным ошибкам, так и наоборот: ошибки экспертов являются причинами ошибок правоприменителей, но в любом случае это мешает как самому процессу экспертного исследования, так и установлению истины по делу и принятию законного, обоснованного и справедливого решения.
2. Экспертные ошибки при исследовании документов
2.1. Ошибки судебно-почерковедческого исследования документов
Бодров Н. Ф.
Подволоцкий И. Н.
Специфика решения почерковедческих задач по большей части связана с проверкой выводов о выполнении исследуемой рукописи (рукописей) проверяемым или другим лицом, из которых по понятным причинам достоверным является только один. В связи с этим изучение ошибок судебно-почерковедческого исследования документов в первую очередь связано именно с оценкой того, влияют ли допущенные экспертом ошибки на достоверность сформулированного им вывода по существу.
Логично предположить, что часто ошибки могут быть и не связаны с достоверностью вывода (например, носить технический характер или возникать в ситуациях, когда эксперт, несмотря на допущенные им ошибки, приходит к выводу, соответствующему действительным обстоятельствам составления документа). Но, как показывает многолетняя практика (источниками которой, как мы указывали ранее, служат: производство повторных и дополнительных экспертиз, рецензирование заключений и педагогическая детальность авторов по подготовке судебных экспертов), ошибки экспертов часто носят системный характер (встречаются в различных заключениях, составленных со значительными промежутками по времени) и, не будучи исправленными, в конечном счете существенно снижают результативность и достоверность экспертных исследований. В связи с этим в разделе, посвященном ошибкам судебно-почерковедческого и технико-криминалистического исследования документов, мы рассмотрим не только сами виды ошибок, но их причины и последствия с позиции влияния на результативность и достоверность выводов сведущего лица по существу.
При анализе экспертных ошибок авторы придерживались указанной в первом разделе общепринятой их классификации. Однако с практической точки зрения считаем целесообразным указывать те или иные упущения экспертов в соответствии с общепринятой структурой экспертного заключения, включающего: подписку эксперта, вводную, исследовательскую, синтезирующую части и раздел «Выводы». Подобный порядок изложения обусловлен, прежде всего, различным объемом аналитической базы (от наличия заключения и объектов исследования при производстве повторных экспертиз до наличия копий заключений и исследуемых документов при рецензировании), а также осторожностью в оценке гносеологических ошибок по копиям. В остальном же можно констатировать, что ошибки процессуального характера чаще всего встречались во вводных частях заключений, операционные упущения в основном концентрировались в исследовательских частях.
Ошибки во вводной части заключения экспертаКорректно составленная «Подписка» является гарантией полноты, объективности и достоверности проведенного исследования. Эксперт собственноручно удостоверяет, что при назначении экспертизы был в полной мере соблюден процессуальный порядок разъяснения ему прав, обязанностей и ответственности. Подписка оформляется (а следовательно, подписывается экспертом) после поручения конкретному лицу или комиссии провести экспертизу, но до момента начала исследования. Подобного рода процедура может быть осуществлена только перед началом производства исследования, по аналогии, например, с предупреждением об ответственности свидетеля до получения от него каких-либо сведений (ст. 175 ГПК РФ, ст. 160 КАС РФ и др.).
На практике же часто встречаются ситуации, в которых имеются очевидные подтверждения тому, что эксперт предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложного заключения уже после того, как он составил заключение. На это часто указывают сведения в заключении, например, наличие дат, которые не могли быть известны эксперту до производства экспертизы – например, дата ответа суда на ходатайство эксперта.
На недопустимость нарушения порядка разъяснения прав, обязанностей и ответственности указал Верховный Суд РФ в постановлении от 05.04.2023 № 1-АД23-1-К3[73]: Нарушением, влекущим невозможность использования доказательств, может быть признано, в частности, получение объяснений потерпевшего, свидетеля, лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, которым не были предварительно разъяснены их права и обязанности, предусмотренные частью 1 статьи 25.1, частью 2 статьи 25.2, частью 3 статьи 25.6 КоАП РФ, статьей 51 Конституции Российской Федерации, а свидетели, специалисты, эксперты не были предупреждены об административной ответственности соответственно за дачу заведомо ложных показаний, пояснений, заключений по статье 17.9 КоАП РФ, а также существенное нарушение порядка назначения и проведения экспертизы.
Помимо этого, подписки экспертов-почерковедов часто изобилуют и другими нарушениями, например:
– отсутствует разъяснение об обязанности заявить самоотвод в случаях, предусмотренных соответствующим процессуальным кодексом,
– отсутствует разъяснение о необходимости дать отдельное заключение по всем или отдельным вопросам, вызвавшим разногласия в комиссии экспертов,
– в подписке эксперта содержится указание на предупреждение об ответственности сразу по нескольким статьям, например ст. 19.26 КоАП РФ, ст. 307 УК РФ, 129 НК РФ,
– в подписке эксперта содержится указание на разъяснение статей другого кодекса. Указанный в «Подписке» процессуальный статус эксперта, предусмотренный, например, ст. 55 АПК РФ, может сопровождать заключение эксперта, подготовленное по делу в гражданском процессе, что подразумевает ссылку на ст. 85 ГПК РФ.
В таких ситуациях есть все основания полагать, что эксперты не были в полном объеме осведомлены о своем процессуальном статусе, а при производстве судебной экспертизы не были соблюдены гарантии объективности экспертов.
В другой ситуации при назначении экспертизы по постановлению должностного лица налогового органа разъяснение эксперту прав и обязанностей осуществил руководитель негосударственного экспертного учреждения в соответствии со ст. 14 ФЗ ГСЭД. Действие этой статьи на данных руководителей не распространяется. Кроме этого, судя по указанию на ст. 16 ФЗ ГСЭД, эксперту были разъяснены только его обязанности. Права эксперта, изложенные в ст. 17 указанного закона, до эксперта не доведены. Не имелось также никаких ссылок на ст. 95 Налогового кодекса РФ, в которой разъясняются основные положения производства экспертиз и статус эксперта в налоговом законодательстве.
Нередко в качестве оснований проведений экспертизы указываются, помимо определения суда (постановления следователя), и иные документы, например «заявка… истца по делу»[74], что является абсолютно излишним и при определенных условиях может вызывать сомнения в объективности и беспристрастности эксперта.
В ст. 25 ФЗ ГСЭД приведен исчерпывающий перечень содержательных элементов заключения эксперта, однако вводные части заключений судебных экспертов (особенно по уголовным делам) часто содержат наводящую информацию, подталкивающую эксперта к принятию решения (так называемые когнитивные искажения). Например, при назначении судебной почерковедческой экспертизы для проверки факта подписания расходного кассового ордера следователь дословно указал в постановлении, а эксперт полностью перенес в текст заключения текст следующего содержания:
«Предварительным следствием установлено, что Г. и неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников Публичного акционерного общества “…банк”, имея умысел на хищение денежных средств Б., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору в неустановленное следствием время, но не позднее 26.08.2015, находясь в помещениях по адресу <…>, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили заведомо не соответствующий действительности расходный кассовый ордер <…>, согласно которому оформили расходование денежных средств в общей сумме 4 949 055 долларов США (340 000 078,50 рублей) по договору <…>.
После чего Г. и неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников “…банк” обеспечили выдачу указанных денежных средств в общей сумме 4 949 055 долларов США (340 000 078,50 рублей) в операционном подразделении банка, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению».
Естественно, что при таких «вводных данных» эксперты пришли к выводу о выполнении подписей в исследуемом документе другим лицом, хотя с почерковедческой точки зрения достаточных для этого оснований не было.
Подобного рода ситуации далеко не единичны и в большинстве случаев обусловлены дефектами постановлений о назначении экспертизы, в которых проверяемый факт излагается как имевший место в действительности, а не как подлежащий проверке с использованием специальных знаний:
«В сентябре 2012 г. К. и О. совместно с Н. убедили руководство ОАО АКБ “…”, офис которого расположен по адресу <…>, заключить с ними кредитный договор о предоставлении кредитной линии на сумму 215 000 000 рублей, не имея намерения возвращать кредитные средства. 01.10.2012 между ОАО АКБ “…” в лице <…> Ч. и К. в лице представителя по доверенности О. заключен кредитный договор на сумму 215 000 000 рублей». Подобные обстоятельства, как правило, практически дословно дублируются в заключении эксперта. Так, например, по данному уголовному делу эксперты пришли к выводу по кратким простым подписям, которые в ходе последующего исследования оказались непригодными для идентификации (не обладали требованиям априорной информативности и находились, согласно методике, в области непригодности для идентификации).



