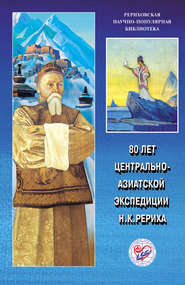 Полная версия
Полная версияПолная версия:
80 лет Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха. Материалы Международной научно-общественной конференции. 2008
Драматическая история остановки экспедиции и ее зимовки на высокогорном плато в тяжелейших условиях известна, хотя, наверное, не полностью. Юрий Николаевич пишет, что температура времена достигала –55о, во флягах застывал коньяк, вышли из строя часы. Нападения волков, падеж животных. И хотя сотрудники экспедиции, в особенности монголы, как отмечает Юрий Николаевич, проявляли замечательную выдержку, поддерживать дисциплину было очень трудно. На большой высоте люди становились раздражительными. Пришлось отобрать все ножи и сабли и держать их у себя. Сами Рерихи в этих условиях продолжали работать. Вставали рано, сразу после рассвета, чинили палатки, кормили животных, писали письма (хотя пользоваться пишущей машинкой из-за холода было почти невозможно), вели переговоры с представителями губернаторов. Думается, что писали не только письма. Ведь именно в экспедиции давалась книга Агни Йога.
Юрий Николаевич ничего не пишет о том опыте трансмутации центров, который в таких тяжелейших условиях проходила Елена Ивановна Рерих. И это понятно: книга была предназначена для достаточно широкого читателя, и подобные подробности в ней были неуместны.
* * *Юрий Николаевич использовал стоянку в тибетском нагорье для изучения местных преданий и религий. Здесь можно было услышать древнюю легенду о Гесэре – могущественном воине-правителе, некогда покорившем Тибет. По преданию, Гесэр должен снова появиться в этой стране, чтобы основать царство справедливости. Конечно, это один из вариантов легенд о Шамбале. «Трудно забыть, – пишет Юрий Николаевич, – этих сидящих на корточках людей, жадно внимающих о героических подвигах Гесэр-хана и его семи соратников. Обычно скучное выражение лица кочевника меняется, его глаза загораются каким-то внутренним огнем. До поздней ночи тлеет очаг, тускло освещая согбенные фигуры с головами, опущенными на колени. Длинные пряди черных волос закрывают лица, и только глаза выдают смятение, охватившее души людей» [6, с. 212].
Юрий Николаевич рассматривает различные версии баллады о Гэсэре и высказывает собственное мнение. Он считает, что ядро эпоса возникло в эпоху тибетской экспансии в Восточную и Центральную Азию (VII–IX столетия), и в него были включены эпизоды из эпических произведений кочевников домонгольского и дотибетского периодов. «В своем настоящем виде баллада о Гесэре, по-видимому, сравнительно позднего происхождения. Это памятник кочевой поэзии, творческое наследие нескольких поколений кочевых племен» [6, с. 221].
Юрий Николаевич занимался также изучением религии бон. Представление западной науки о религии бон было весьма приблизительным. Бонские адепты, замечает он, вовсе не стремятся посвящать чужестранцев в тайны своего учения. Обычно они заявляют о полном незнании догматов веры и отрицают существование рукописей или печатных текстов. «Во время трехмесячной стоянки в районе Хора, – пишет Юрий Николаевич, – интересующая нас информация поступала к нам совершенно случайно, главным образом из бесед с кочевниками. Только заслужив полное доверие одного из бонских жрецов, я смог получить доступ в книгохранилище монастыря» [6, с. 217].
По характеристике Юрия Николаевича, бон – сложное учение, в котором древние шаманистские представления горной Азии совмещаются с поверьями и обычаями населения северо-западной Индии. Восходит ли этот культ к индоевропейской древности или к доарийскому пласту – сказать трудно, считал Юрий Николаевич. Но сам он склонялся ко второй версии. В религии бон существуют два течения: первое отличается поклонением силам природы и сопровождается ритуалами шаманизма, некромантией и иногда жертвоприношениями; второе представляет собой реформированный бон, приспособившийся к буддизму. Юрий Николаевич описывает бонские литературные памятники, разделяя их на 4 основных разряда: 1) два больших собрания бонских священных текстов (около 300 томов); 2) тибетские эпические поэмы, героические песни и несколько намтаров, или житий; 3) народные песни; 4) книги заклинаний и руководства по магическим ритуалам. Многотомная бонская религиозная литература, по определению Юрия Николаевича, возникла в буддийский период, после IX века. «До последнего времени, – пишет он, – ничего не было известно о существовании бонского Ганчжура и Данчжура, и мы только предполагали, что в монастырях должны храниться собрания бонской литературы. Поэтому обнаружение двух полных собраний священных текстов в монастыре Шаруген, расположенном в четырех днях пути от Нагчу, явилось удачей нашей экспедиции» [6, с. 220]. Это одно из открытий, сделанных Центрально-Азиатской экспедицией Рерихов.
Еще одно важное открытие связано с так называемым «звериным стилем» в искусстве кочевников, а именно обнаружение «звериного стиля» среди кочевых племен Северного Тибета. А.Н.Зелинский назвал открытие «звериного стиля» в Тибете «самым большим достижением» Центрально-Азиатской экспедиции [10]. Этот стиль представлен декоративными мотивами, состоящими из фигур животных, которые, комбинируясь, формируют орнаментальные композиции. Юрий Николаевич отмечает, что звериный стиль распространен по огромным регионам. В нем прослеживаются греческие, иранские, скифо-сибирские и китайские элементы. Он был общим для всех кочевых племен верхней Азии. Кочевники постоянно перемещались с места на место и поддерживали широкие связи с народами разных культур. Юрий Николаевич пришел к выводу, что, несмотря на сложный характер искусства кочевников, существовал общий источник, из которого черпали художники Центральной Азии. Центр этой великой кочевой культуры, которая оказала сильное влияние на искусство более цивилизованных соседей, по мнению Юрия Николаевича Рериха, находится на Алтае, в Алтайских горах.
* * *4 марта 1928 года экспедиция, наконец, выступила из Нагчу и в обход Лхасы направилась в Индию. Путь пролегал через озерный край Тибета на запад, далее на юг, через Трансгималаи в долину Брахмапутры и через Большой Гималайский хребет в Ганток и далее в Дарджилинг.
Злоключения экспедиции не кончились. 15 апреля, после очень трудного перехода через перевал Сангмо-ла (высота 19094 футов, приблизительно 5820 м), путешественники спустились в долину. Несмотря на официальное оповещение, никто их не встретил. 18 апреля экспедиция пересекла еще один высочайший перевал Цугчен-ла (18012 футов) и встала лагерем в долине Цугчун. Необходимо было заменить часть каравана, купить топливо и зерно. По распоряжению тибетских властей местное население должно было оказывать содействие экспедиции. Однако местный вождь отказался выделить вьючных животных. Остановка экспедиции в таком глухом месте обрекала караван на гибель. Юрий Николаевич рассказал Николаю Константиновичу Рериху о создавшемся положении, и он потребовал сделать все возможное для спасения экспедиции. Были приняты решительные меры, и в конце концов вождь согласился выделить вьючных животных. На следующее утро караван двинулся в путь.
25 апреля экспедиция вышла в долину Брахмапутры и остановилась на отдых на берегу реки. «Наконец, мы у великой Брахмапутры! – пишет Юрий Николаевич. – Трудно передать чувства сотрудников экспедиции <…> Место, где стоял лагерь, называлось Кья-Кья <…> День был солнечный. На берегах реки кое-где росла молодая трава. Мы разожгли костер из можжевельника и наслаждались его смолистым ароматом» [6, с. 272].
На следующий день, 26 апреля, экспедиция шла по левому берегу Брамапутры. Однако, пройдя шесть миль, путешественники свернули на северо-восток к перевалу Уранг-ла. Дорога вдоль берега реки была непроходима для тяжело груженного каравана. 27 апреля поднялись на перевал. Подъем был очень крутой и сложный, но, поднявшись на перевал, путешественники были вознаграждены открывшимся необыкновенным видом. «С седловины, – пишет Юрий Николаевич, – перед нами открылась панорама гор, возможно, самая грандиозная в мире. Сияя в лучах утреннего солнца, высоко над горной страной возносились зубчатые стены Гималаев. Все мы застыли, потрясенные этим образом космического величия. Ни одно облачко не обволакивало могучих вершин, и снежные гиганты четко вырисовывались в разреженной атмосфере Тибета» [6, с. 273].
С перевала экспедиция вновь спустилась в долину Брамапутры. Возможно, эта вынужденная петля в маршруте была все же необходима.
Возможно, где-то здесь, в Долине Брахмапутры, а может быть, и на перевале Уранг-ла произошло событие, о котором Юрий Николаевич по понятным соображениям не упоминает, но которое отмечено в эпилоге к Агни Йоге:
«Дано в Долине Брамапутры, взявшей исток из озера Великих Нагов, хранящих заветы Риг-Веды.
Я положил основание Агни Йоги на четыре конца, как цветочный пестик[11].
Я утвердил Агни Йогу столбами ступней Моих, и в руки принял Камня огонь.
Я дал огненный Камень той, которая по решению нашему будет именоваться Матерью Агни Йоги, ибо она предоставила себя на испытание пространственному огню.
Струи этого огня запечатлелись на Камне при великом полете перед ликом солнца. Туман искр закрыл вершину Хранительницы Снегов, когда Камень совершил огненный путь с юга на север в Хранимую Долину» [11, с. 367].
Когда именно это произошло, сказать трудно. Согласно записям Юрия Николаевича, экспедиция вышла в долину Брамапутры 25 апреля. А в дневнике Елены Ивановы цитированная запись помечена 21 апреля [11, с. 554]. В тот день, согласно записям
Ю.Н.Рериха, экспедиция находилась в районе Сага, и от Брамапутры ее отделял перевал Джа-ла, высотой 16 135 футов. Чтобы разобраться, c чем связаны эти разночтения, необходимо дополнительное исследование.
4 мая экспедиция прибыла в Тенгри-цзон. С этим районом, отмечает Юрий Николаевич, связан один из замечательных эпизодов истории Тибета. Здесь в первой половине XI столетия жил и трудился великий проповедник Тибета Миларепа. Юрий Николаевич называет его святым Франциском страны снегов.
На юге Тенгри в неприступных горных долинах еще жили ревностные хранители заветов Миларепы. Еще по пути в Тенгри экспедиции встретились несколько лам, последователей Миларепы. Юрий Николаевич воспользовался случаем и стал расспрашивать их. Вначале они отвечали сдержанно, но постепенно разговорились. Они сообщили, что живут уединенно в горных пещерах и узнают друг друга по условным знакам. Постигшие тайное учение «Внутреннего огня» могут часами сидеть на обжигающем ледяном ветру, не чувствуя холода и, напротив, ощущая приятное тепло, разливающееся по телу. Некоторые праведники способны заставить таять снега на большом расстоянии от себя. Николай Константинович Рерих запечатлел этот сюжет на картине «На высотах (Тумо)».
Перед достижением этой стадии «тум-мо» они должны пройти курс обучения под руководством своего духовного учителя. Без такой помощи занятия «тум-мо» считаются чрезвычайно опасными.
* * *18 мая экспедиция взошла на перевал Сэпо-ла (16 970 футов = 5172 м). Здесь стояла каменная пирамида, обозначавшая прохождение границы между Тибетом и Индией. «Прощай Тибет, – записал Юрий Николаевич, – страна ветров, ураганов и не очень гостеприимных правителей! Мы шли в сказочный Сикким…» [6, с. 284].
24 мая 1928 года экспедиция прибыла в Дарджилинг. Здесь она была официально расформирована. Юрий Николаевич завершает книгу скромной оценкой: «Несмотря на все трудности и неблагоприятное для путешествия время года, экспедиция завершилась очень успешно, собрав уникальный материал о районах Центральной Азии» [6, с. 285]. Науке предстоит еще выяснить, что стоит за этими словами и между строчками. Наша конференция – один из шагов в этом направлении.
Литература1. Рерих Н.К. Алтай – Гималаи. М.: Мысль, 1974.
2. Полякова Е.И. Николай Рерих. М.: Искусство, 1973.
3. Беликов П., Князева В. Рерих. М.: Молодая гвардия, 1972.
4. Рерих Н.К. Сердце Азии. Southbury (Conn.): Alatas, 1929.
5. Шапошникова Л.В. Великое путешествие. Трилогия. М.: МЦР, Мастер-Банк, 1998–2005.
6. Рерих Ю.Н. По тропам Срединной Азии. [Хабаровск]: Хабаровское книжное изд-во, 1982.
7. Рерих Ю.Н. Пути к сердцу Азии // Дальневосточные путешествия и приключения: Литературно-художественный и научно-популярный сборник. Вып. 5. 1974.
8. Рерих Ю.Н. По тропам Срединной Азии. Самара: Агни,1994.
9. Живая Этика. Надземное.
10. Зелинский А.Н. Рыцарь культуры // Рерих Ю.Н. Звериный стиль у кочевников Северного Тибета. М.: МЦР, 1992.
11. Живая Этика. Агни Йога. М.: МЦР, Мастер-Банк, 2008.
В.А.Воропаева,
профессор Кыргызско-Российского Славянского университета, Бишкек, Кыргызстан
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ЮРИЯ РЕРИХА И СОВРЕМЕННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИССЫК-КУЛЯ
Рождение будущего ученого-путешественника Ю.Н.Рериха произошло во время одного из полевых экспедиционных сезонов 16 августа 1902 года в селе Окуловка Новгородской губернии. Поисковые экспедиции – это был образ жизни родителей Юрия. В них они черпали материал для своих научных трудов.
В 15 лет Юрий Рерих начал серьезно заниматься египтологией с Б.А.Тураевым, монгольским языком и историей монголов с А.Д.Рудневым. В этом возрасте он владел уже несколькими иностранными языками и определил свою будущую специальность.
В 1919 году он поступает на индоиранское отделение Школы восточных языков при Лондонском университете. Через год учебы Юрий, как лучший студент по санскриту, был представлен государственному секретарю по делам Индии, посетившему университет. Директор школы, известный в то время востоковед сэр Денисон Росс, и впоследствии продолжал интересоваться успехами Юрия – уже студента Гарвардского университета.
В сентябре 1920 года семья Рерихов переезжает в США, и Юрий поступает на отделение индийской филологии Гарвардского университета. И здесь в 18 лет Юрий Рерих – уже сформировавшийся востоковед с определенным направлением в науке, – с устремлениями к Срединной Азии. Письма этих лет – свидетельства его научного выбора.
5 декабря 1920 года: «Сегодня утром приехал Тагор <…> Мне было очень приятно повидать Реаrson’а. Говорили с ним о необитаемых островах и об ужасах современной цивилизации. Как бы мне хотелось уехать с экспедицией куда-нибудь в Центральную Азию…» [1, с. 28–29].
31 января 1921 года: «Из лекции Ростовцева еще раз убедился, что Средняя Азия – это Египет будущего, в смысле археологических открытий (Здесь и далее выделено мною. – В.В.). Меня очень заинтересовали татары и монголы, особенно их былины и песни кочевий <…> cуществовало два языка: кушанский и тохарский, причем весьма различные меж собою. Быть может, моя конъюнктура окажется чепухой, но для меня она все же представляет интерес и является “а problem worth while studying”[12] [1, с. 31–32].
[1921 года]: «…у меня уже есть тема в области истории Средней Азии. Я хочу дать очерк и переводы персидских трудов по истории Средней Азии. Это будет и оригинально, и важно, ибо нам нужно начинать классифицировать добытые результаты в области археологии Средней Азии» [1, с. 36].
7 ноября 1921 года: «Много работаем. Работа моя по тохарам быстро развивается. Нашел новые пути. Возможное объяснение сходств тохарского яз[ыка] с армянским было мною найдено только что сегодня вечером» [1, с. 37–38].
3 апреля 1922 года 12 час. вечера. «Только что звонил Dr.Blake и сообщил мне текст Епифания (Венский Corpus), который вполне подтверждает мое открытие в области истории скифских племен Юга России и Туркестана!..
Моя теория подтверждает теорию проф[ессора] Ростовцева о иранском происхождении княжеского рода скифов (Ekoloro) на юге России.
Беда только, что нужно готовиться к экзаменам, а так тянет погрузиться в научную работу над кочевниками Туркестанских степей» [1, с. 38–39].
Необыкновенные дарования и накопленные в годы учебы знания впервые проявились, когда Юрий Рерих начал самостоятельную научно-исследовательскую работу в экспедиции по Центральной Азии, которую он сам назвал «Экспедицией академика Н.К.Рериха». Юрию Николаевичу было 26 лет.
Маршрут, цели, задачи и краткие, но очень важные замечания изложены молодым исследователем Юрием Рерихом в его работе «Экспедиция академика Рериха в Центральную Азию», написанной в 1929 году в институте «Урусвати», Наггар, Кулу. Как известно, возглавил экспедицию Николай Константинович Рерих. Организованная Музеем Рериха в Нью-Йорке и Международным центром искусств «Корона Мунди» (Corona Mundi) в 1925–1928 годах, она «дважды обошла вокруг земель, составляющих сердце Азии, отправившись из Индии в августе 1925 г. и вернувшись туда же в мае 1928 г.» [2, с. 237].
С самого начала были определены три важные задачи:
1). «создание уникальной живописной панорамы земель и народов Срединной Азии, и несколько серий картин Н.К.Рериха, привезенных экспедицией», уже в 1929 году экспонировались в Музее Рериха в Нью-Йорке;
2). «изучение возможностей новых археологических изысканий и, таким образом, подготовка путей для будущих экспедиций в том же регионе»;
3). «изучение языков и диалектов Центральной Азии и собирание большой коллекции предметов, иллюстрирующих духовную культуру этих районов» [2, с. 237].
Необходимо подчеркнуть, что осуществление задуманного позволило молодому ученому Юрию Рериху сделать вывод о том, что «Центральная Азия была колыбелью и местом встречи многих азиатских цивилизаций, и в труднодоступных горных долинах до наших дней сохранились многие бесценные лингвистические и этнографические материалы, которые могут послужить реконструкции прошлого Азии» [2, с. 237].
Вывод этот прозвучал 80 лет назад. За эти годы учеными многих стран вскрыт огромный пласт научных знаний, подтвердивших вывод Юрия Рериха.
К примеру, оформленные или украшенные традиционным «звериным стилем» сако-усуньского времени памятники материальной культуры, обнаруженные на территории Киргизии, вписываются в заключение Ю.Н.Рериха, вынесенное им из экспедиции по Центральной Азии: «Несмотря на сложный характер искусства кочевников, мы можем утверждать, что существовал общий источник, из которого черпали свое восхищение художники Центральной Азии, где, как показывают современные исследования, и находится центр кочевой культуры» [3, с. 134].
Этот тезис вполне вписывается в современную концепцию кочевой цивилизации и подтверждается новыми археологическими находками на берегах и под водами озера Иссык-Куль.
На правом берегу реки Тамги в семи километрах выше ее впадения в озеро Иссык-Куль находится каменная глыба, названная Тамга-Таш. Своими очертаниями она напоминает юрту. Глыба опоясана надписью полуметровой длины. Надпись на тибетском языке: «Ом мани падме хум» – повторяется трижды. Это мантра, или божественная формула буддизма.
Среди местного населения бытует миф о том, что камень Тамга-Таш был расколот киргизским эпическим героем Манасом, испытывающем на нем прочность своего оружия. Монолит действительно как будто расколот на две части (рис. 1). В народе считают, что этот раскол свидетельствует о богатырской силе юного героя.
Выше по реке Тамге в одноименном урочище есть еще несколько камней с буддийской мантрой. В народе известна легенда о том, что, наверное, буддисты хотели организовать здесь филиал священной Шамбалы. И действительно, трудно найти на земле другое более прекрасное место! Эти надписи и дали название реке – Тамга, что на кыргызском языке означает «метка, отпечаток».
Следует заметить, что сведения о существовании этих камней на берегах Иссык-Куля Ю.Н.Рерих сообщил своим ученикам. Осенью 1964 года ученик Юрия Николаевича А.Н.Зелинский и Б.И.Кузнецов исследовали четыре группы тибетских надписей с южного берега Иссык-Куля. Все надписи содержат традиционную тибетскую молитвенную формулу – Ом мани падме хум! (О! Драгоценность на лотосе!). Три из упомянутых надписей находятся в ущелье Тамга, в нескольких километрах от озера, четвертая же, открытая заново, – в ущелье Заука, на трассе древнего караванного пути в Кашгарию.
В конце декабря 1965 года А.Н.Зелинский и Б.И.Кузнецов выступили с докладом во Всесоюзном географическом обществе в г. Ленинграде. С текстом резюме этого доклада можно познакомиться в статье «Тибетские надписи Иссык-Куля», помещенной в журнале «Страны и народы Востока», вып. 8, 1969 год.
Более подробно результаты исследований, проведенных на берегах Иссык-Куля, А.Н.Зелинский и Б.И.Кузнецов изложили в статье «О некоторых буддийских памятниках Киргизии», опубликованной в «Трудах Бурятского института общественных наук БФ СО АН СССР» в 1968 году.
Исследование тибетских надписей, обнаруженных на территории Киргизии, поставило перед учеными вопрос не только о возможности, но и необходимости применений исторического анализа для определения датировки памятника в условиях, когда другие методы не представляют надежного критерия для исследователя. Этот вывод явился для того времени (1965–1970-е гг.) определенным вкладом в методику исследования памятников прошлого.
Обращение к буддийским камням сегодня связано с народной молвой о подвигах легендарного героя Манаса, героя великого эпоса кочевников.
Сведения о традиции племенного эпоса у кочевников Ю.Н.Рерих почерпнул в период экспедиции, юбилей которой мы сегодня отмечаем…
Обратимся вновь к событиям тех далеких дней. После пятимесячного «стояния» экспедиция отправилась в путь по неизвестной в первой четверти ХХ века географической науке части земли. Это был Великий путь паломников к священной для индуистов и буддистов горе Кайлас. Проходил он к северо-западу от озера Манасаровар. Как видим, название священного озера очень созвучно с именем героя эпоса «Манас». И здесь научные изыскания привели Юрия Рериха к выводу о том, что именно по этому древнему пути на дальний Тибет кочевниками Кукунора и верховьев Желтой реки была принесена исконно кочевая культура с ее «звериным стилем» и традицией племенного эпоса.
Научные изыскания современных ученых Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Казахстана, Кыргызстана подтвердили гипотезу Юрия Рериха. В ХХ веке, особенно во второй его половине, и в начале XXI века научные исследования Центральной Азии, в том числе культуры кочевников, осуществлялись довольно интенсивно. Сегодня раскрыто и обследовано большинство курганов, «разбросанных» по степям Азии, записан и исследован великий эпос кыргызов «Манас». В рамках ЮНЕСКО проведены праздники «Манас – 1000», «Великий шелковый путь» и др.
В «Истории Средней Азии» Ю.Н.Рериха читаем о том, что в 1932 году в районе озера Иссык-Куль работал археологический отряд Сводной экспедиции Всесоюзной Академии наук, возглавляемой известным исследователем минусинских древностей С.А.Теплоуховым. В окрестностях города Пржевальска (ныне город Каракол), в районе села Чильпек и в ущелье Джеты-огуз, было раскопано до 30 погребений [4, с. 91].
Редкий знаток исторических источников Ю.Н.Рерих, конечно же, знал о том, что озеро Иссык-Куль – «пульсирующее сердце» Тянь-Шаня. Тысячелетия сменяли тысячелетия, поколения людей сменяли новые поколения, разноязычные древние племена (саки, гунны, усуни, тюрки) в течение веков сложились в кыргызскую народность. В течение этого времени одна цивилизация трансформировалась в другую, оставляя потомкам памятники духовной и материальной культуры. Часть из них оказалась под водой, на дне озера, которое, по наблюдению ученых, как будто «дышит» – то поднимая свой уровень, то снижая. И причины такой трансгрессии и регрессии ученые до сих пор не могут понять: они составляют частицу той тайны природы, которую еще предстоит раскрыть.
Знал он, разумеется, и о руинах древних поселений в прибрежных водах озера. Но ни один из серьезных источников прошлых столетий не мог объяснить историю появления и разрушения древних строений, оказавшихся под волнами Иссык-Куля. Лишь многочисленные легенды, китайские летописи да арабские рукописи пытались что-либо прояснить, но лишь еще более будоражили воображение.
Вот одна из легенд, имеющих, однако, под собой и некоторую историческую основу:
«…Александр Македонский, покорив в 334–329 гг. до н. э. персидскую державу, взял в знатных семьях заложников, дабы предотвратить возможные мятежи. Отправляясь в поход на Китай и Индию, он взял было с собой и заложников, однако, оказавшись в стесненных обстоятельствах, вынужден был бросить знатных персов на берегу Иссык-Куля. Сыновья персидских вельмож, потеряв надежду вернуться домой, отстроили здесь городок на свой манер, а местности дали название Барсхан. Живописцы разукрасили дома полихромным многоярусным панно, наподобие тех, которые были у них в обиходе на родине» [5, с. 38].



