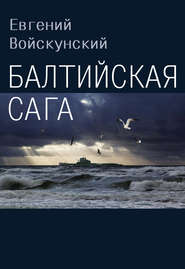 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Балтийская сага
А мы на своей «малютке» готовились к походу. Я помогал Королькову наносить на путевую карту предварительную прокладку курса.
Одна из лодок первого эшелона не вернулась из боевого похода. Никто не знает, как гибнут подводники, но имелось предположение, что она погибла на минах Финского залива, когда возвращалась домой. Вернувшиеся же субмарины сообщали ценную информацию о том, как форсировали противолодочные заграждения в заливе. На основе этой информации разведотдел и штурманская служба корректировали карты, рекомендовали предварительную прокладку. Разумеется, такая прокладка не гарантировала безопасность плавания: немцы и финны постоянно обновляли, усиливали противолодочные позиции.
Вечером, после ужина, я отыскал в краснокирпичном корпусе береговой базы комнату, в которой разместились офицеры сергеевской «эски», постучался и вошел. А там, судя по шумному разговору, клубам табачного дыма и разгоряченным лицам, шло пиршество. Несколько офицеров, в расстегнутых кителях либо в рубашках-теннисках, сидели за столом, Травникова среди них не было. Я спросил: где он? Кудрявый старлей, со стаканом в руке, глянул на меня шалыми глазами и воскликнул:
– Сие есть военная тайна!
А другой старлей, с раскосым и хищным, как у пирата, взглядом, спросил:
– Лейтенант, почему тебя интересует этот моральный разложенец?
Они, как и еще двое собутыльников, были «на взводе». Не имело смысла вступать в серьезный разговор, и я ответил:
– Мы с Травниковым незаконные дети лейтенанта Шмидта.
Они захохотали и предложили мне присоединиться к пиршеству. Кудрявый старлей (я немного помнил его по училищу, он окончил два года назад и был великим спортсменом – почти как диккенсовский мистер Уинкль) налил мне в кружку спирт из зеленой бутыли.
– За ваше плавание, – сказал я и отпил из кружки. – Вы молодцы. А где все-таки Травников? И почему вы его обозвали разложенцем? – обратился я к старлею с пиратским взглядом.
– Потому что он, вместо того чтобы культурно отдохнуть с боевыми товарищами, побежал к своей бабе, – ответил тот скороговоркой.
Вот оно что! – подумал я. К Маше Редкозубовой побежал. Ну да, Маша же здесь, в Кронштадте… Это ж куда лучше… куда интереснее, чем тут лакать спиртягу… Ха, «культурный отдых»…
Я еще отхлебнул из кружки. Все в порядке, ребята. Порядок на Балтике. Но как-то теснилось у меня внутри, в груди…
Шел шумный разговор – шутили, смеялись. Я допил из кружки до дна, и стало мне легче: хороший напиток действует безотказно. Мистер Уинкль (вдруг я вспомнил его фамилию: Волновский) налил мне еще и посоветовал не пренебрегать закуской. А закуска была замечательная – свиная тушенка, привезенная из Америки к нашим берегам. По-научному это называлось «лендлиз», и очень жаль, что ароматное мясо, извлеченное из золотистой банки, накладывалось на блокадную черняшку, а не на белый хлеб, – но где же его, белый хлеб, взять?
Я еще выпил, память еще более изострилась, и я, вспомнив, в каком виде спорта преуспел в училище Волновский, спросил:
– А боксом ты занимаешься? Или бросил?
– Еще как занимаюсь! – Он легонько ткнул меня кулаком в плечо. – Пых-пых-пых! Ты по какой специальности? А-а, штурман! Коллега! А на какую лодку назначен? А-а, к Бойко! Он у нас помощником был, мужик серьезный, не советую тебе с ним пререкаться, лейтенант Шмидт!
– Я Плещеев.
– Тем более! – вскричал кудрявый старлей Волновский. – Давай примем еще. Еще – плещё! – веселился он.
Ну и сны показывают в Кронштадте…
Даже странно: главная база Балтийского флота, а сны тут легкомысленные, более того – дурацкие. Приснилось, будто мы с Оськой и еще одним пареньком из нашего восьмого «бэ» притащили с улицы на школьный двор, в дальний угол, дырявую автомобильную шину и пытаемся ее поджечь, спичками чиркаем, торопимся, скоро кончится большая перемена, – и вдруг появляется директор школы Артемий Иванович в своей вечной серой толстовке и басом говорит: «Сюшьте, что вы делаете? Ведь вонять же будет».
Положим, так оно и было в реальной довоенной жизни, да, хотели сжечь старую покрышку, а директор не позволил, накричал. Но зачем вспоминать это? Что за киномеханик прокручивает сновидения? «Ведь вонять же будет…» Тьфу!
Я лежал в комнате на береговой базе подплава, проснувшись от глупого сна. Слева ритмично храпел Володя Корольков. Справа в приоткрытое окно, с которого я убрал светомаскировку, вливался серенький рассвет, и вкрадчиво шелестел несильный дождь.
Знаете, что такое предутренняя тоска? Ну вот… Я лежал без сна в казарме на острове Котлин, как на плоту посреди бурного моря, а вокруг бушевала война, огромная, нескончаемая… а впереди был Финский залив, начиненный минами, как суп клецками…
Это выражение – «суп с клецками» – я услышал от Травникова. Ранним вечером мы с ним встретились на береговой базе, у входа в столовую. Он был гладко выбрит, в выглаженных кителе и брюках. Мы обнялись. А после ужина вышли покурить.
– Ты не торопишься? – спросил я. – К Маше своей?
– Сегодня не пойду, – сказал он отрывисто. – Нельзя каждый день. Давай, излагай – что у тебя, на какую лодку назначен?
Я изложил. Потом Валентин стал рассказывать о походе своей «эски». Мы прохаживались по стенке Итальянского пруда, курили папиросу за папиросой; со стороны Усть-Рогатки, у которой стояли несколько тральщиков и линкор «Марат», обрубленный сентябрьской бомбежкой, доносился перезвон склянок (отбили полвосьмого). А я… знаете, сквозь звон корабельных рынд я как бы услышал скрежет минрепов о корпус подводной лодки…
Валька рассказывал, как ударились форштевнем о затонувшее судно… о торпедных атаках… как горело море вокруг торпедированного танкера… как лежали на грунте под ударами глубинных бомб, задыхались от недостатка кислорода… а после того как потопили третий транспорт на обратном пути, в устье Финского залива, почти четверо суток лежали, затаясь на дне, под непрерывным бомбометанием, и дышать было нечем… и один матрос-торпедист «тронулся» от кислородного голодания и заорал «Каховка, Каховка, родная винтовка», а немецкие гидроакустики на сторожевых катерах могли услышать, и пришлось тому матросу заткнуть рот полотенцем…
Мы долго ходили взад-вперед по стенке Итальянского пруда, курили. Дождь, моросивший весь день, к вечеру перестал, и вечер наступал свежий, знобкий, томительно медленный.
Когда мы, наговорившись, шли к корпусу береговой базы, Валя сказал:
– Да, чуть не забыл. Маша о тебе спрашивала. И привет передала.
Шло в августе развертывание подводных лодок второго эшелона. Отправилась в боевой поход и «малютка» капитан-лейтенанта Бойко.
Автономность плавания у «малютки» небольшая – десять суток. Мы пробыли две недели. Мы форсировали полосу минных заграждений (и, слыша жуткое шуршание минрепов о корпус лодки, я понял, что расхожее выражение «с замиранием сердца» – не пустые слова). Командир Бойко имел боевую задачу – разведать обстановку в западной части Финского залива, проверить достоверность сведений о том, что противник усиливает там корабельные дозоры и ведет постановку новых минных банок. И мы получили убедительные доказательства, что так оно и было.
Мы форсировали первую – гогландскую – линию заграждений и двухторпедным залпом потопили транспорт, вышедший из Таллинской бухты. На нашу «малютку» накинулись катера ПЛО, то есть противолодочной обороны; взрывы глубинных бомб сотрясали корпус лодки, подбрасывали ее, как футбольный мяч, погас свет, в темноте кто-то, падая, сбил меня с ног… я ударился головой о переборку… кто-то матерился… вот и кончается моя война к чертовой матери… сейчас шарахнет последний удар, и все… прощайте, люди…
Но ударило не так… не так сокрушительно… серия взрывов удалялась… Бойко маневрировал, уклоняясь от бомбометания, – и оторвался наконец от катеров ПЛО.
Уцелела наша «малютка», электромоторы, слава богу, не подвели, работали исправно, – но повреждения были. Сгорели предохранители на станции гирокомпаса, и он вышел из меридиана. Навигационные приборы были в моем ведении, но я не знал, что надо делать, если отказывает такое сложное устройство, как гирокомпас. Да и вообще никто не знал, кроме специалистов. Оставалось надеяться на старый добрый магнитный компас.
Хуже было то, что в аккумуляторных ямах, когда лодку швыряло при взрывах, выливался электролит. Плотность его в аккумуляторах заметно понизилась, нужна была доливка, но всплыть и произвести зарядку батареи и доливку эту самую нам долго мешали.
Да, мы убедились, что дозоры у противника не дремлют – ни днем, ни ночью. Всплыв под перископ, видели однажды, как немецкий минзаг ставит новую минную банку между островами Аэгна и Кери, и прикрывает его целый отряд сторожевых катеров. Ночью всплыли – были обстреляны катерами, срочно погрузились. Немцы и финны явно укрепляли вторую противолодочную линию – по меридиану от финского полуострова Порккала-Удд до эстонского острова Нарген, или, иначе, Найсаар.
Мы неудачно атаковали транспорт (он успел отвернуть от идущих торпед), и опять нас долго преследовали корабли охранения. Лодка легла на грунт. На нас сбросили больше полусотни глубинных бомб. Я считал, считал их разрывы, а потом перестал – что толку считать?.. Это же все равно как если бы врач спросил, потел ли больной перед смертью… Нет, я не думал о смерти, вернее – ни о чем не думал… Тупое безразличие, вот…
Все проходит, прошло и лежание под бомбами. Повезло: корпус выдержал, и мы не задохнулись. Получив приказ о возвращении в базу, наш «малыш», пройдя гогландский меридиан к югу от этого острова, подорвался на антенной мине. Слава богу, что не на гальваноударной, но все же… Все же был поврежден вертикальный руль. Мы шли подводным ходом, управляясь моторами, при неподвижном руле, к точке встречи с нашими катерами в Нарвском заливе. Шли по счислению. А когда в назначенной точке всплыли, то увидели не «мошки» (морские охотники), а немецкие сторожевые катера, похожие, как мелькнула у меня посторонняя мысль, на одногорбых верблюдов.
– Все вниз! – рявкнул Бойко. – Срочное погружение!
Внизу, в центральном посту, начав маневрирование, уходя от бомбометания, Бойко грозным взглядом окинул нас, Королькова и меня, и проворчал:
– Два лба не могут курс проложить правильно.
Потом, когда сутки спустя «малютка» добралась до Лавенсари, мы уточнили, что невязка у нас была небольшая, всего три мили. Попробуйте точнехонько проложить курс, если обстановка не позволяет определиться ни астрономически, ни по береговым ориентирам, если бездействует вертикальный руль. Невязка три мили. Да, в трех милях от точки всплытия нас поджидали два морских охотника. Они примчались, вступили в бой с немецкими катерами, вызвали подмогу с Лавенсари…
В общем, «дохромали» мы до Лаврентия, а через двое суток, в сопровождении тральщика и катеров, возвратились в Кронштадт.
Такое, значит, произошло у меня подводное «боевое крещение».
Глава тринадцатая
Встречи в Кроштадте
«Дорогой мой Дима! Почему ты не пишешь только одно письмо было я волнуюсь очень. Если ты выходишь в море то надевай теплые носки от сырости могут опять заболеть суставы ноги надо всегда держать в тепле. Вчера обстрел был страшный рядом с больницей дом разрушили а у нас шла операция прервать нельзя хирург кричит простыню над ним держите чтобы с потолка не сыпалось. Димка дорогой я беспокоюсь за тебя ты много плаваешь? У нас событие вдруг вернулся с фронта Покатилов считали что пропал без вести а он вернулся на костылях одной ноги до колена нет. Его трудно узнать борода седая как у Толстого. Он как увидел меня так почесал под бородой и говорит ну что так же долго сидишь в сортире? Дима представляешь Покатилов Геннадия прогнал и его идиотку мамашу и сестру с сыном кретином. Ой что было Дима. Ника орала так что щекотурка сыпалась. Или штукатурка я не помню как правильно. Геннадий его по морде а он костылем Геннадия по башке чуть не сломал костыль. Покатилов грозился милицию вызвать а Геннадий ее боится уже приходил участковый наверно приходил проверить письмо твоего отца в исполком. Вобщем съехали они засранцы и Ника с ними. Увезли между прочим мою кастрюлю медную и твой синий чайник. Грузовик приехал они погрузились и уехали ну и чорт с ними. А Ника через три дня вернулась вся в слезах. Такие дела у нас. А еще новость Рая Виленская вышла замуж за писателя его фамилия Ярый или Ярцев точно не знаю они вместе работают в газете он старше Райки почти в три раза. Это Роза Абрамовна мне сказала мы на лестнице говорили. Димка милый я часто о тебе думаю вспоминаю как хорошо было с тобой. Дима пиши мне не забывай. Береги себя! Крепко крепко целую. Лиза».
Вот как получилось: седьмого сентября пришла в Кронштадт из двухнедельного похода наша «малютка», а десятого – вернулся из месячного плавания подводный минзаг с моим отцом на борту. У них был поистине героический поход, и мне запомнилось, как грозно пылали отцовы глаза за очками, когда он рассказывал:
– Шел большой конвой. Знаешь банку Штольпе в южной Балтике? Вот в том районе. Представляешь, командир дал залп четырьмя торпедами! И два транспорта буквально разломились на куски. Командир дал мне взглянуть в перископ. Дима, это потрясающая картина, исполненная трагедийности. Столбы огня и воды, летящие к небу обломки… Апофеоз войны!
– Ты напишешь об этом походе? – спросил я.
– Да! Поэму надо написать об этих героях. Оду! Но я всего лишь прозаик. Будет книга, непременно.
Разговор происходил на плавбазе «Иртыш», тут отцу дали каюту, – он, можно сказать, был персона грата у нас на бригаде. Мы курили, говорили, я показал отцу письмо Елизаветы.
– Ага! – воскликнул он. – Вытурили этого мерзавца, хорошо! Я прослежу, чтобы его проверку довели до конца. Порок должен быть наказан! Ох!..
Отец вдруг согнулся, рукой потирая поясницу.
– Что с тобой? – спросил я.
– А черт его знает. Ревматизм, что ли. Вдруг вступает.
– На «Иртыше» доктор хороший. Давай отведу тебя в санчасть.
– Да нет, отлежусь. – Отец улегся на койку. – Ты газету свежую принеси.
– Ладно. Пойду, отец, у меня дела. Перед обедом забегу к тебе.
Вот какие дела: неожиданно меня перевели на «щуку», которой командовал капитан 2-го ранга Кожухов. Штурмана этой лодки тяжело ранило при обстреле (немцы с петергофского берега часто открывали огонь по Кронштадту), и меня назначили на его место. Признаюсь: страшновато было. Лодкой командовал самый старый на Балтфлоте подводник, служивший еще в Гражданскую войну на знаменитой «Пантере». Получив назначение, я подумал – ну и ну, Кожухов скажет кадровикам: да вы что, вашу мать, подсовываете мне желторотого птенчика? Кожухов был офицером плотного сложения, с бритым наголо черепом. Когда я предстал перед ним, он задумчиво прищурился, ухватил двумя перстами кончик крупного носа и, покрутив его, сказал: «Не расслышал ваше имя-отчество. А, Вадим Львович. Так-так. Принимайте дела. Мещерский, мой помощник, вам поможет. По устройству лодки поможет механик Круговых. Срок десять дней. Зачет приму я. Вам все ясно?» – «Так точно, товарищ командир», – сказал я как можно более молодцевато. Хотя кошки, или кто там еще, скребли у меня в душе острыми коготками.
В отличие от «малюток», «щуки» – подводные лодки среднего тоннажа. Водоизмещение побольше, и мощность, и, конечно, дальность плавания: проектную автономность в двадцать суток «щуки» перекрывали в два и даже три раза. «Щуки» – самые массовые у нас лодки к началу войны. Подводники их ценили за простоту устройства и эксплуатации.
Простота – это верно. Но с меня, как говорится, семь потов сошло, пока я с этой простотой управился. Знаете, я просто утопился бы, если б не сдал зачет командиру лодки.
Так вот, перед обедом я опять навестил отца. У него в каюте сидел полковой комиссар, начальник политотдела бригады, он с добродушной улыбкой взглянул на меня:
– Ваш сынок, Лев Васильевич?
– Мой. – Отец подмигнул мне сквозь очки.
Он, похоже, управился с ревматизмом. Сидел на койке, курил.
– Знаю, – сказал начпо, – ты к Кожухову назначен, лейтенант. Кожухов, Лев Васильич, старейший у нас подводник. Он службу свою, понимаешь, начал на «Пантере».
– На «Пантере»? – У отца глаза за очками блеснули. – Это лодка, которая в девятнадцатом году потопила английский миноносец?
– Да, та самая.
Они заговорили о первом поколении российских подводников, о «Барсах», на которых те плавали.
– Какое блестящее поколение! – говорил отец, слегка захлебываясь, как бывало и прежде, когда он чем-нибудь восторгался. – Гвозди бы делать из этих людей!
– Да, поколение сильное. Да ведь и вы, Лев Васильич, к нему принадлежите. Вы же герой штурма Кронштадта.
– Какой я герой? Рядовой участник штурма, красный курсант.
– Не прибедняйся, понимаешь. Ну, желаю здравствовать.
Начпо поднялся, солидный, неторопливый, и плавно выплыл из каюты.
– Ты принес газету?
– Вот «Красный флот». Позавчерашняя. Вот «КБФ» – сегодняшняя.
– Ага! – Отец углубился в чтение последних сводок Совинформбюро. – Ай-яй-яй, – пробормотал он, – в Сталинграде как ухудшилось…
Да уж, дела там шли плохо. В августе немцы прорвались к Волге севернее Сталинграда, а теперь, похоже, и южнее. На улицах города шли напряженные бои…
Мы обсудили положение в Сталинграде. Отец считал, что необходимо для его спасения усилить давление на немцев на других фронтах, прежде всего тут, на Ленфронте и на Балтике. Я не обладал стратегическим даром отца и поэтому полностью с ним согласился.
В тот вечер в Доме флота выступали приехавшие из Питера писатели – поэт и два прозаика, возглавляемые Всеволодом Вишневским. Они и отца позвали, конечно. Он выступил лучше всех (вообще-то не лучше Вишневского, такое просто невозможно). Так живо, так увлеченно рассказал отец о походе подводного минзага, так молодо блестели его глаза… Знаете, я, распираемый гордостью за отца, прямо-таки всплыл над большим залом Дома флота – как облако в штанах. И, между прочим, увидел с высоты своего полета… впрочем, об этом потом.
А ночью отец, вместе с писательской группой, ушел на большом морском охотнике в Ленинград. Мы обнялись на прощанье. Наверное, первый раз в жизни отец меня поцеловал. И тихо сказал:
– Береги себя, Димка.
Он увез мое письмо Елизавете.
«Лизанька, дорогая, милая, хорошая!
Я нарочно наставил много запятых, чтобы компенсировать их недостаток в твоем письме.
Спасибо за твою заботу. Я непременно буду, уходя в море, надевать теплые носки. Те, которые ты так здорово заштопала на обеих пятках. Я тоже вспоминаю, как было хорошо нам с тобой.
Я уже сходил в один поход. Скоро уйду в следующий – на другой лодочке. Отец тебе расскажет подробнее. Он недавно вернулся из долгого плавания, можно сказать – героического. Он молодец. Я попросил его защищать тебя, если соседи вздумают тебя обижать. Как здорово, что Покатилов выгнал Геннадия и его кодлу из нашей квартиры.
А Розалии Абрамовне передай привет, и пусть она передаст мое поздравление Райке с ее женитьбой, то есть с замужеством. Я помню, Райка рассказывала, что писатель Ярцев – переводчик немецкой классики и, хоть и пожилой, но очень хороший человек. Я за нее рад.
Лизанька, я за тобой скучаю (или, правильнее, по тебе). Ты моя хорошая. Целую и обнимаю тебя.
Твой Димка».Знаете, кого я увидел в большом зале Дома флота?
Писатели закончили свои выступления, и был объявлен перерыв, после которого начнется концерт. Я пошел курить, проталкивался по проходу, и тут из какого-то ряда вышла прямо на меня Маша Редкозубова. Я остановился, сердце мое заколотилось у горла. На ней было синее платье, в котором я увидел ее в первый раз, только без белого банта, и оно не обтягивало Машу, как прежде, – она заметно похудела. Но все те же два крыла русых волос ниспадали на лицо. Невероятно похожее на лицо Любови Орловой, оно так часто мне снилось…
Я стоял столбом.
– Здравствуй, Вадя, – пропела Маша, улыбаясь.
А Травников, вышедший за ней, сказал в обычной своей манере:
– После выступления Плещеева-старшего младший Плещеев задрал нос.
– Ничего я не задрал… – Я прокашлялся. – Здравствуй, Маша.
Мы вышли в фойе. Тут было, прямо скажем, броуновское движение. Среди кителей и матросских суконок бросались в глаза цветные пятна – будто острова – женских платьев. Гул голосов, взрывы смеха… Господи, подумалось мне, это же чудо: жизнь рвали в черные клочья, втаптывали в землю, в снег, она захлебывалась, истекала кровью, умирала от голода, – а вот же, вот же ее круговорот. Жизнь продолжается, она круто замешена, ее не возьмешь бомбами… Ну чудо!
Извините, это я потому раскричался, что слегка обалдел – от улыбки Маши, от ее широко расставленных глаз, от звука ее голоса… Она говорила, что знает, как я раненого Вальку тащил на волокуше по ладожскому льду. А я глядел на нее, тупо улыбаясь… на золотистое пятнышко в ее правом глазу глядел…
Маша спросила про Виленских.
– Оська пропал без вести, он был в народном ополчении, – сказал я. – А Райка на военной службе, недавно вышла замуж.
– Бедный Ося. – Маша качнула головой. – Он ведь такой талантливый. А за кого вышла Райка?
Я изложил то, что знал о писателе Ярцеве.
– Ярцев? Мне эта фамилия знакома… А-а, – вспомнила Маша, – я читала его комментарий к переводам Жуковского из Шиллера. Так он жив? Я думала, что Ярцев из прошлого века.
– Нет, – сказал я, – он из нынешнего.
– Точно, – сказал Травников. – Рая не такая женщина, чтобы выйти за человека из прошлого века.
– Вообще-то, – уточнил я, – он все-таки родился в прошлом веке.
– Вот и хорошо, – заулыбалась Маша, – мы разобрались в этом вопросе.
– Но не до конца, – сказал Валя. – Пойдем покурим, Дима.
Мы спустились на первый этаж. Тут, возле гальюна, дымили курильщики. Мы закурили «Красную звезду» – не лучшие из папирос, но все же более приятные, чем филичевый табак.
– Почему ты сказал, что не до конца разобрались с женитьбой? – спросил я.
Валя посмотрел на меня, покусывая сгиб указательного пальца. Он был хорош, китель на нем сидел без единой складки, и блистал на кителе новенький орден Красного Знамени. Весь экипаж их «эски» наградили орденами, командир и военком получили ордена Ленина, остальные офицеры – Красное Знамя. Несколько дней назад я уже поздравил Травникова с наградой.
– Могу тебе сказать. – Валя затянулся и выпустил длинную струю дыма. – Мы с Машей решили пожениться. Загс работает, я узнал. Но Маша хочет – не сейчас, а в новом году. Вбила себе в голову, что этот год плохой, надо его… ну, изжить… а первого января можно и в загс.
– Что ж, – сказал я, – до конца года не так уж далеко.
Глава четырнадцатая
Штурман Плещеев в боевом походе
В середине сентября начались выходы в море субмарин последнего, третьего эшелона. Семнадцатого числа покинула Кронштадт «щука» капитана 2-го ранга Кожухова. И я на ее борту в качестве штурмана. Это был первый мой самостоятельный выход, и меня обеспечивал дивизионный штурман. Так было принято на бригаде: молодых командиров бэ-че вывозили в их первые походы штабные специалисты.
Дивизионного штурмана, капитана 3-го ранга, звали удивительно: Наполеон Наполеонович. По-моему, он, как и его знаменитый тезка, был гением – не в полководческом, конечно, смысле, а в штурманском. Я многому научился у Наполеона Наполеоновича, прежде всего – стремлению к точности.
– У уважающего себя штурмана, – говаривал он, подняв одну бровь выше другой, – место всегда должно быть на кончике остро отточенного карандаша.
Конечно, где же еще ему быть, посылал я ответную беззвучную мысль. Только вот, когда лодка маневрирует под водой, уходя от глубинных бомб, без конца меняя курс, меняя скорость, – как-то трудно, дорогой Наполеоныч, удерживать место «на кончике карандаша».
– Да, трудно, – отвечал он на невысказанную мысль, поднимая другую бровь. – А что легко в подводном плавании?
И опять был совершенно прав.
Знаете, чему я у него, между прочим, научился? Не спать в походе. «Штурману, лейтенант, в море спать нельзя, – говаривал Наполеоныч. – Спящий штурман – все равно что одноногий футболист. Заснешь здесь, – тыкал он карандашом в какую-либо точку на карте, – а проснешься к югу от Мадагаскара.
Никто из знакомых мне людей не знал так хорошо географическую карту мира, как Наполеон. Однажды я спросил его:
– Что-то никак не вспомню, как называется главный город Новой Каледонии. Не подскажете, Наполеон Наполеоныч?
Он подумал секунды три и сказал:
– Нумеа.
Финский залив наша «щука» форсировала почти благополучно. «Почти» означает, что мы не напоролись на гальваноударные мины, хоть и задевали их минрепы. Но вот антенные…
Взрыв антенной мины – как удар по нервам. Я не удержался, упал со стула. Вася Коронец, штурманский электрик, помог мне подняться. Опять я ударился головой – о маховик клапана вентиляции, что ли. Бедная моя башка, – так и колотит по ней война. Так и колотит…



