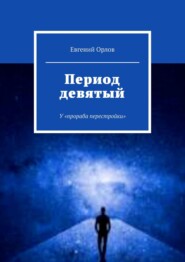
Полная версия:
Период девятый. У «прораба перестройки»
И тут мне пришла отличная идея. Сказал, что если он устал и хочет отдохнуть, пусть садится на пассажирское сиденье, а машину поведу я. Вначале он сердито возразил, что нечего не получится, так как в путевом листе указана только его фамилия. Но я уверенным тоном возразил, что имею полномочия районного руководства вписывать себя в графу «водители». С сомнением в голосе он попросил показать моё водительское удостоверение. Посмотрев в права, удивился имеющемуся большому водительскому стажу, но выразил опасение, что не открыта категория вождения машин с прицепами. На что его успокоил, что при претензиях ГАИ это уже будет не его проблема, а я сумею их убедить в правомерности своего пребывания за рулём. На том и порешили. Поменялись местами и двинулись к столице. Несколько первых минут чувствовал себя на водительском месте не слишком уверенно. И передачи переключать было непривычно, и «баранка» рулевая была огромных размеров. И чтобы повернуть в сторону требовалось поворачивать руль на гораздо больший угол чем на ГАЗовских грузовиках. Но ощущение неуверенности прошло удивительно быстро. И ещё до МКАДа уже несколько раз занимал второй ряд, если в первом отъезжали от остановки автобусы или двигался тихоходный транспорт. На что мой попутчик реагировал с изумлением. Но особый ужас у него вызвало, то, что я не свернул на МКАД, а продолжил движение в город:
– Стой, остановись, – громко закричал он, – ты ж проскочил поворот на окружную! Как теперь на неё вернуться – ума не приложу? Не пятиться же нам на задней?
– Успокойся. Я специально не поехал по окружной. Через город ведь ещё короче будет.
– Как же мы проедем, через Москву, на грузовой, да ещё и с прицепом?
– А так же как и все ездят. Глянь сколько впереди грузовых: и небольших, и фуры едут.
– Так им значит в саму Москву надо, а мы ведь прёмся через неё на выход.
– Ну, во-первых не через всю столицу, – улыбнулся я, – а только с одного краешка. Зато думаю, за счет этого мы часик во времени выиграем.
– Выиграешь ты. Даже если ни на кого не наедем, и под нас никто не затешется, так на светофорах заколебаешься стоять. А их здесь наверно сотни.
– А вот здесь нужно хитрость знать. Видишь, мы уже третий светофор проезжаем и всё на зелёный. В Москве специально рассчитана «зелёная волна». Я вот стараюсь держать скорость постоянно шестьдесят километров. И если не собьюсь, весь город проедем на зелёный.
– То-то ты прёшь, я только хотел сказать, чтобы ехал тише, – уже с уважительными нотками в голосе пробормотал мой попутчик.
И тут же поинтересовался:
– А если собьёшься с нужной скорости, тогда что только на красный везде будем попадать?
– Нет, почему же на красный? Там где застанет не зелёный, а я тебе обещаю, что с прицепом даже на жёлтый не буду пытаться проскакивать – тормознём, постоим, подождём пока красный гореть перестанет и опять будем в волне ехать. Только после перекрёстка нужно будет резче скорость набирать, чтобы от волны не отстать.
– Ну а то, что с прицепом, тебя, что тоже не смущает? – с недоверием спросил он.
– А что в этом необычного? Стопы и повороты у нас и на кузове, и на прицепе горят нормально. Тормоза надёжные. Да к тому же ещё и водитель асс, – улыбнулся я.
В результате в Луговое приехали засветло. На годовой запас пиленых, колотых Сашей сухих дров Таня покупателя так и не нашла. А грузить их с собой не было никакого смысла. Так как в линовской квартире и отопление было центральным, и вода горячая в ванной, и в раковине, и даже газовая печка на кухне была запитана не от индивидуального газового баллона, а из общего для дома резервуара. Кумовья, Женя Горчавкин и Рафек помогли быстро всё погрузить и закрепить в кузове машины и прицепа. Оставили только немного посуды для завтрака, перину, матрасы и постельное для нас и водителя с тем, чтобы переночевать на полу. И Мишины и Женя приглашали на ночлег к себе, но мы решили, что неудобно будет людей тревожить в такую рань и заночевали дома. Водитель, хоть и жаловался всю дорогу, что мучится с похмелья, но выпивать отказался. А ребята выпили по стопке, чтобы пожелать нам счастливого пути и лучшей жизни на новом месте.
Я уставший, быстро разделся, помылся и сразу же уснул. Показалось, что ещё не успел крепко уснуть, как Таня шёпотом стала будить меня. Сказала что уже четыре часа, и можно собираться. Собрались бодро, но обнаружилось, что вшестером в кабине довольно таки тесно. И Таня предложила выход. В кузове у кабины стоял диван, а на него мы уложили постельные принадлежности, на которых ночевали. Вот она и предложила, что поедет в кузове на этом диване. Там хоть сидеть, хоть лежать – одно удовольствие. Погода тёплая, а под брезентом и ветра не ощущается. Я пытался было отговорить её, но и она настояла, и водитель её поддержал. Пришлось согласиться.
На обратном пути машину вёл всё время я. Двигались быстро. Два раза останавливались перекусить. Теперь мы ели приготовленную Таней домашнюю еду, а не покупную как по дороге из Пыталово. При этом она как всегда при поездках продумала всё. И полотенца, и посуда, и вода для мытья рук и мыло. Наверно такой сервис покорил даже сердце водителя. Он стал более разговорчивым и старался даже чем мог помогать детям и нам.
Во время каждой остановки я настойчиво убеждал Таню пересесть в кабину, с тем, чтобы забраться на её место, а водитель бы занял положенное ему место за рулём. Но она каждый раз отказывалась, а когда начинал настаивать, аргументировала, что стесняется водителя и даже почему-то боится его. Когда проехали Великие Луки погода испортилась: похолодало, а вскоре начался сильный дождь. Но я увлечённый тем, что уже близко до нашего нового жилища, даже не подумал как там чувствует в кузове жена. Затормозил только когда услышал громкий стук в крышу кабины. Съехал на обочину и залез под брезент. Таня была чуть ли не в слезах. Она замёрзла, потяжелевший брезент больно стучал ей по голове. От холода и волнения её нестерпимо захотелось писать. И вообще она готова была чуть ли не покусать меня. Но справив в кустах нужду, немного успокоилась и собралась опять лезть в кузов. Но тут уж я категорически настоял, на том, чтобы она перешла в кабину, водитель сядет за руль, а я подышу свежим воздухом под брезентом в кузове.
Дети втроём спали, навалившись друг на друга. Она примостилась с краешку на сидении у пассажирской дверки, а я забрался в кузов и мы поехали дальше. К нашему дому в Линово приехали уже вечером. Я не знал где искать директора, с тем, чтобы он помог организовать разгрузку. Хотел уже просить водителя, чтобы тот согласился переночевать с нами в квартире, и разгружаться на следующий день в рабочее время. Сами с Таней мы не могли бы занести и половины вещей. Решил забрать постельное и попытаться поднять наверх кровати и диван. Потому что трёхкомнатную квартиру нам выделили на втором этаже двух подъездного дома.
Но жильцы дома оказались настолько добрыми и отзывчивыми, что быстренько собрались у машины из обоих подъездов. Потребовали, чтобы я только указывал какие вещи переносить в первую очередь и куда. А Таня чтобы командовала, куда что ставить. Минут через двадцать кузов машины и прицеп освободили от вещей и всё подняли в нашу квартиру. А ульи с пчёлами выставили к задней стенке сарая, который полагался для этой квартиры. Смущённый благодарил новых соседей. Жалел, что не захватил из дому ничего, чтобы угостить их. Спрашивал, есть ли возможность в это время приобрести в посёлке спиртное. Но люди как то даже смущённо запротестовали против такой затеи. Пожелали хорошо устроится на новом месте и мгновенно разошлись.
Начало работы в «Линовском» совпало с завершением уборки урожая и севом озимых. Самый пик осенних работ. Но новая работа казалась мне приятным отдыхом. Вначале удивляло, что не только в 5—6 утра, но и к 7 часам все кабинеты и подразделения на замках, а в гараже и мастерских только сторожа. Затем постепенно приспособился к прибалтийски неторопливой и размеренной жизни совхоза. Оказалось, что в этих северных, болотистых местах, из-за обильной росы, комбайны не могут начинать работу раньше 10—11 часов пока солнце хорошенько не прогреет жнивье и не высушит росу.
Постепенно объехал все поля, познакомился с людьми. Работалось легко и свободно, даже я бы сказал радостно. Несколько раз сумели побывать в Пскове, на концертах гастролирующих там прибалтийских и московских артистов и групп. В совхозе такие организованные поездки практиковались практически каждый выходной. Но ездили в город на эти мероприятия в основном специалисты с семьями и несколько молодых рабочих совхоза. Хотя в автобусе при таких поездках постоянно были свободные места. Не возбранялось участвовать в поездке не только членам совхоза, а и другим жителям посёлка, но люди среднего возраста и пожилые почему-то игнорировали эти мероприятия. Кроме совхозных специалистов иногда участвовали в таких поездках только школьные учителя.
В одну из поездок я попал в необычную ситуацию. Поехали на концерт известной певицы Анни Веске. Пока сдавали верхнюю одежду в гардероб, обратил внимание на столик рядом со стойкой заваленный красивыми букетами цветов. Женщина, стоявшая рядом со столиком, наверно обратила внимание на моё любопытство и тут же подошла ко мне.
Тронув за руку, она произнесла:
– Мужчина, Вы так солидно выглядите, что думаю, нашей артистке будет очень приятно получить букет цветов из Ваших рук.
Слегка смутившись, я ответил:
– Знаете, мне тоже было бы приятно подарить цветы такой известной артистке.
– В таком случае пойдемте, возьмёте букет.
Она подвела меня к столику, и я с сомнением в голосе произнёс:
– Даже не знаю, какой выбрать, все как на подбор. Один красивей другого. Возьму, пожалуй, этот. Сколько он стоит?
– Вы меня не поняли, – остановила меня женщина, – денег платить за букет не нужно. Просто возьмите цветы с собою в зал и отнесите их Анни, после исполнения той песни, которая Вам больше понравится.
– Почему не нужно платить за букет? – удивился я.
– Просто эти цветы от организаторов концерта. Но не будем же мы их преподносить сами? А Вы вот согласились и даже утверждаете, что получите от этого удовольствие.
– Не знаю, наверно правильней было бы подарить цветы от себя, – смущённо сказал я, забирая букет.
После этого, наблюдая по телевизору, как во время выступлений знаменитостей, зрители заваливают их цветами, часто не мог отделаться от подозрения, что может и в этих ситуациях поклонники дарят не свои букеты, а закупленные администрацией концертного зала.
На новом месте интересно было беседовать с людьми пожилыми. Они с удовольствием рассказывали об особенностях жизни в буржуазной Латвии, к которой тогда относился этот район. На примерах из сохранившихся добротных довоенных производственных построек поясняли, чем они лучше современных, возведёнными по типовым проектам, не учитывающим особенности местных условий. Делились секретами агротехники льна и зерновых при единоличном хозяйстве на хуторах.
Весь район имел хуторское расселение людей. Крупные посёлки образовывались в основном на центральных усадьбах местных сельхозпредприятий, а более мелкие рядом с крупными животноводческими фермами. Я даже до конца и не разобрался. Толи фермы были построены вблизи или внутри посёлков, толи посёлки возводились для персонала, обслуживающего такие фермы.
По моим прежним кубанским представлениям, население хуторов должно составлять если не десятки тысяч, то несколько тысяч человек. А здесь хутором называли усадьбу для обитания одной семьи. Пыталовский хутор являл собою прямоугольную площадку, по периметру застроенную примыкающими друг к другу: домом, скотным двором, сенным сараем, баней и другими постройками. Рядом обязательно был вырыт колодец или протекал ручей.
Хутора довольно равномерно распределялись по всей свободной от леса и болот территории и были удалены один от другого всего на несколько сотен метров. К каждому протянута линия электропередачи и вела дорога или тропинка. Такое расселение, специфика природы и традиции способствовали развитию именно индивидуального сельского хозяйства с кооперацией по переработке и реализации произведённого. В беседах все без исключения старики жалели о том, что в пятидесятые годы их хутора насильно объединили в колхозы и совхозы. Но молодые были энтузиастами жизни в посёлках, а пребывание на хуторе считали скучным и несовременным.
Ещё из местных особенностей удивило наличие у большинства хуторов дощатых площадок на столбах, с приставной лестницей, или ступеньками, ведущими на такую площадку. При этом высота каждой из них была как по стандарту около полутора метров. Оказалось, что такие сооружения являлись своеобразным пунктом почти натурального обмена, произведённого на хуторе, на то, чего недостаёт жителям этого хутора. Хуторяне обычно выставляли на такие площадки свежее цельное молоко и яички от домашних кур. Эти товары собирали на специальных автомобилях представители перерабатывающих и заготовительных организаций. Иногда на площадку хозяева выставляли: изделия, вещи и продукты для свободной продажи проезжающим мимо потенциальным покупателям. Могли быть и мебель кустарного изготовления, и инструменты или приспособления самодельные, лишние вещи домашние, одежда, урожай из сада и огорода. Рассказывают, что на выставленных для свободной продажи товарах прикреплялись ценники, а заинтересовавшиеся покупатели могли не звать хозяев, а забирать понравившийся товар и оставлять деньги согласно указанной цене.
Продавцы автолавок тоже могли оставлять на этих площадках заказанные хозяевами товары, если хуторянин не появлялся у площадки к моменту приезда автолавки. А расчёт за доставленный товар потом осуществлялся во время следующего приезда автолавки. Меня такая практика поразила, и после попыток получить пояснения местных жителей, пришёл к выводу, что это явление следствие особенностей местной культуры, безупречной честностью покупателей и продавцов, и проявления особенностей менталитета коренных жителей.
При этом причины моего удивления и сомнений местные тоже не могли понять.
Разговариваю с Яниной, хозяйкой хутора примыкающего к полевой дороге, ведущей на Родовое:
– Скажите, вот у Вас на площадке, выставлено ведро яблок. Человек остановился, а на хуторе нет никого – он заберёт яблоки, и в ведро положит денег, только половину от того, что они стоят.
– Как же это он положит половину, если к ведру привязана картонка с ценой? – удивилась она.
– Да в принципе его действия в этом случае вообще ничем не ограничены. Он может, к примеру, яблоки забрать, а денег за них совсем не оставлять.
– Что Вы такое говорите? У нас так люди не могут поступить. Денег положит, сколько указано, а то и больше, если мелких нет, да ещё и грузом прижмёт сверху, чтобы случайно ветром не унесло.
– Ладно, с этим я ещё могу согласиться, что здесь население так воспитано, чтобы не обманывать. А представьте, что мимо Вашего хутора будет идти какой-нибудь бродяга голодный, не знающий местных привычек. Он ведь запросто может и яблок себе бесплатно набрать на площадке и даже молока выпить из бидончика столько, сколько ему захочется, да ещё и хлебом, закусить, тем который для хутора автолавка оставила.
– Ну и что же тут плохого? Я бы рада была тому, чтобы голодный человек благодаря мне смог голод утолить. Хоть он меня и не видел, но в сердце своём он обязательно бы мне был признателен.
– А мне вот кажется, что не должно быть никакой радости от того, что кто-то не знакомый с местными обычаями, решил бы опустошать площадки по всем хуторам. По здравому рассуждению это как минимум неприятно должно быть.
– Если уж по здравому рассуждать, – улыбнулась Янина, – так голодному путнику, незачем опустошать площадки на нескольких хуторах. Он в одном месте молока попил бы, яблочек взял на дорогу, на других ему уже и делать нечего, он туда и заглядывать не будет. Насытился и продолжит свой путь.
– Хорошо. Действительно голодный может насытиться одним молоком. А если хулиган, какой дебоширить решит? Возьмёт просто молоко выльет, табуретку выставленную сломает, а деньги, которые покупатель оставил себе заберёт. Как тогда быть?
– То, что Вы говорите грешно делать. И не бывает у нас такого, – сердито парировала собеседница, и даже с подозрением глянула на меня, как на лишённого разума.
Казалось, что теперь стали понятными причины, побудившие Волочевского – механизатора из соседнего совхоза, отмеченного Горбачёвым на июньском Пленуме, решиться, поменять налаженную жизнь в совхозе на риск самостоятельного хозяйствования. Сам уклад жизни в этом районе, привычки, представления и опыт предков как бы подталкивали его к деятельности самостоятельной. В которой он будет надеяться исключительно на возможности своей семьи. Но зато будет совершенно независим от прихотей и капризов совхозных руководителей, от партийных требований и даже избавится от участия в советских социалистических процедурах.
Так я рассуждал, познакомившись с людьми и ситуацией на новом месте. А одновременно старался поточнее разузнать, как возникла сама идея и как на деле воплощались планы этого механизатора в «Артёмовском»? Вскоре обнаружился и источник достоверной информации. Молодая, красивая секретарь нашей совхозной парторганизации Лена, оказалось ещё недавно была комсомольским секретарём в «Артёмовском» и застала там весь ажиотаж после упоминания их совхоза на Пленуме. Из её рассказов выходило, что заранее ни в Москву, ни в Псков, ни даже в район никакой информации не запрашивали. Я даже вначале не поверил ей:
– Как же так? Не сам же Горбачев шастал по вашим хуторам, выискивая новаторов в сельских делах?
– А я доподлинно знаю, что ни перед Пленумом, ни раньше, ещё только когда Волочевский задумал взять бычков на откорм, никто не требовал из совхоза никаких данных, – обиделась Лена.
– Да ты не обижайся, я же не сказал, что ты мне наврала. Просто может, как-то запросили данные по-тихому. Так что ты могла и не знать.
– Ладно бы я могла не знать, какие сведения запрашивают из совхоза. Но директор то обязательно знал бы об этом. А так и он поражался, откуда в Москве знают, про то, что здесь есть совхоз «Артёмовский», да ещё и про то, что в совхозе есть механизатор Волочевский.
– Чудеса какие-то необъяснимые.
– Думаю, никаких чудес здесь не свершалось. Я недавно слышала в райкоме разговор по этому поводу. Люди думают, что Горбачёву про совхоз и про Волочевского рассказал Президент ВАСХНИЛ Никонов.
– А при чём здесь сельхоз академия и ваш совхоз?
– Так Никонов, оказывается, сам уроженец нашего района. Вот он наверно, через свою родню, которая здесь у него осталась, узнал о том, что в районе делается и Горбачёву рассказал.
– Да, такой вариант вполне возможен. Тем более, что и Горбачёв и Никонов одновременно работали в Ставропольском крае. И наверно уже тогда хорошо знали один другого.
В первые дни после Пленума, Моряков – директор совхоза, только удивлённо разводил руками, пересказывая на планерках, кто из каких высоких инстанций звонил ему и о чем расспрашивал. Затем в совхоз потянулись более дотошные визитёры с целью: «изучить и распространить».
Вопросы этих дотошных, застали врасплох не только Морякова, но и районное руководство. Пришлось в спешном порядке готовить единую, официальную информацию для всех служб района и совхоза об инициативе Волочевского. И его самого тоже «попросили» придерживаться официальной версии. Узаконенными стали и положения договора аренды, который механизатор вначале заключил с совхозом в устной форме. А теперь это был уже официальный документ, с цифрами, обязательствами сторон и сроками исполнения. Надо признать, что во время подсуетилась жена механизатора, работавшая бухгалтером этого совхоза. Она смогла «правильно» рассчитать цену за килограмм привеса бычков на откорме, по которой совхоз должен осуществить окончательный расчёт с арендатором, удержав сумму тех вложений, которые осуществлял совхоз.
После, заведующий научной лаборатории района Прауст не раз сожалел, что в спешке не заметили слишком высокий уровень этих цен. И что теперь приходится брать их за основу для других арендаторов, потому как они уже неоднократно упоминались и в центральной прессе и на официальных мероприятиях разных уровней.
Наличие в районе научной лаборатории являлось невиданным новшеством. Не знаю как секретарь райкома смог «протолкнуть» согласование создания такой структуры в администрации района. Но в моём восприятии уже само её пребывание в Пыталово, выделяло его из череды других сельских районов как невиданную новацию. Даже как территорию, располагающую к деятельности творческой, нестандартной!
Собственно лабораторией именовали кабинет Прауста, и нескольких сотрудников, расположенный на первом этаже здания администрации, где располагалось РАПО. Кабинет у них был небольшим, обставлен он был гораздо скромнее, чем кабинет первого секретаря райкома, и скромнее чем кабинет председателя РАПО. У них кабинеты были намного просторней, были приспособлены для проведения совещаний и имели «приёмные». Но, по сути, оказалось, что все специалисты РАПО, и даже многие сотрудники райкома постоянно выполняли поручения Прауста.
Этот ленинградский учёный, кандидат толи сельскохозяйственных, толи экономических наук, смог убедить Воробьёва, что в ходе «перестройки», можно резко поднять продуктивность сельского хозяйства, на базе новых подходов к организации производства. Сам согласился поменять размеренную жизнь учёного в красивейшем городе страны, на беспокойную деятельность, лишённую комфорта и возможности приобщаться к высокому искусству. Но зато на жизнь согласуемую с требованиями идеологического настроя страны на обновление.
Под его руководством осуществлялось огромное количество расчётов и предложений. Только их пока никто не использовал в своей практике, потому, что новые формы организации пока не находили своих приверженцев среди потенциальных арендаторов района. К тому же ещё и сами руководители, и специалисты сельхоз предприятий не совсем представляли, как вовлечь, заинтересовать и обеспечить успешную деятельность этих тружеников? При этом в прессе, в телепередачах всё чаще и чаще стала появляться информация, как в других регионах страны, по «пыталовскому методу» отдельные механизаторы, садоводы или животноводы создают свои арендные коллективы и планируют за счет новых подходов заметно улучшить результативность своего труда.
Дома тему возможных экспериментов в этом районе не обсуждали совсем. Я пока изучал обстановку, анализировал местные особенности, радовался настрою руководства района на поиск путей благих преобразований. Но в семье почему-то об этом не говорили – как будто боялись предстоящего.
Наслаждался новым состоянием беззаботной жизни. Производственные текущие дела были настолько обыденными и не требующими никакого напряжения, что работа казалась бездельем. Дома Таня не замолкала ни на минуту. Увлечённо и настойчиво обсуждала мелочи, кажущиеся мне несущественными. Непринуждённо нагромождала заботы текущего дня, на дела не срочные, далёкие.
Обсуждая то, где лучше повесить полку в прихожей, тут же рассуждала, сумеем ли поехать следующим летом на Кубань, и без перехода пыталась выяснить моё мнение о том стоит ли устраивать Антона и Надю в детский садик. С удовольствием участвовал в обсуждении таких «проблем». Наслаждался тем, что она не разочарована моим неожиданным решением о переезде именно сюда. Видел, как ей нравятся «городские» блага нашей новой квартиры. Радовался неумолкаемой её говорливости.
Ведь на прежней работе, мы даже дома общались в спешке, на ходу. А здесь у неё появилась реальная возможность выговориться. Кстати сказать, дети нещадно использовали эту её привычку. Даже малолетний Антошка, застигнутый на месте своих шалостей, мог свободно «заговорить» маму до такой степени, что она напрочь забывала, за что собиралась его отругать. Опять стал слышать её напевающей что-нибудь кубанское или популярную современную мелодию. Это она в Горьковской области, в спешке дома хваталась сразу за несколько домашних срочных дел. А здесь если готовила еду, или убирала в комнатах, или ремонтировала одежду – делала всё это не спеша, основательно и под «мурлыкание» той мелодии, которая соответствовала её настроению.
Из общественных тем в этот период в семье вызывали живой интерес и обсуждались новые и неожиданные сведения об образе жизни, о нравах бывших руководителей страны и сообщения о достоверности тех фактов, которые раньше считались «измышлениями вражеских голосов».
Прочитав статью в газете о бесчеловечных действиях тех, которые раскулачивали крестьян, и тут же посмотрев по телевизору передачу о барских привычках и стремлении к роскоши аппаратчиков среднеазиатских республик, Таня в раздумье говорила:
– Жень, знаешь, мне кажется, что после революции и во времена коллективизации люди старались перещеголять один другого, чтобы всех уравнять. Под одну гребёнку стригли: дураков и умных, лодырей и трудяг, добрых и злых. А потом, те, которые яростней всех занимались уравниванием, пролезли во власть и использовали её, чтобы самим стать кулаками, в десять раз кулакастее, тех, которых сами когда-то раскулачивали.



