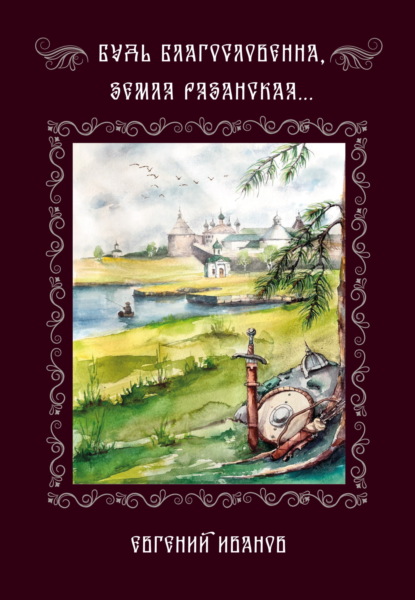
Полная версия:
Будь благословенна, земля Рязанская…
Ворота с двумя башнями имели довольно глубокий тоннель с тремя заслонами, которые могли преградить путь врагу. Пройдя ворота, Афоня оказался в небольшом дворике, где стояли небольшие деревянные постройки с маленькими очагами для отдыха стражи и для защиты от непогоды; отсюда был ход на стены.
Слева от мощёной дороги шёл глухой тын, за которым было множество клетей для всевозможной «готовизны»: рыбы, вина и мёда, говядины и овощей. Пройдя их, парень увидел высокую четырёхъярусную бревенчатую заставу с маленькими решётчатыми оконцами. Она возвышалась в стороне от крепостных стен и являлась вторыми воротами. В её глубоких подвалах были хранилища для зерна и воды.
Подойдя к воротам заставы, Микита стал звать кого-то. Через некоторое время из ворот вышел здоровенный детина в одной белой рубахе и портках, у которого на ногах красовались сафьяновые сапоги.
– Где Терентий Игнатич, Петрушка? – спросил Микита у детины.
– С князем-батюшкой трапезничает в хоромах, – ответил Петрушка, зевая и почёсывая затылок.
– Пропусти тоды, – потребовал Микита.
Детина нехотя посторонился, отворяя ворота пошире для прохождения десятника вместе с Афоней. Как только они скрылись из виду, тот, словно опомнившись, прогремел басом им вдогонку:
– А почто он понадобился, Микита?
Но десятник с парнем ему не ответили. Пройдя заставу, они вышли на небольшой парадный двор, находившийся перед огромным княжеским дворцом. Здесь стоял шёлковый шатёр с отливающимися золотыми вышивками в виде ломаных линий и плетёнки, а также находился потайной спуск к стене, выложенный из камня.
Перед Афоней предстали во всём своём великолепии княжеские трёхъярусные хоромы с расписными теремами, кровля которых была покрыта медными листами, сиявшими на солнце, словно золото. Сени, размещавшиеся на втором этаже, держались на столбах и были украшены мудрёными деревянными решётками. Рядом с хоромами стояли большие резные клети для челяди и дружины, плоские кровли которых служили боевой площадкой заборов, пологие бревенчатые сходы вели на стены прямо со двора. Вдоль высоких сосновых стен были вкопаны в землю большие медные котлы для «вара». Из раскрытых окон клетей доносились громкие разговоры и звонкий смех. Двое здоровенных мужиков в одних длиннополых рубахах пилили большую чурку возле поварни, от которой разносился по всему княжескому двору приятный запах жареного мяса. Тут же, чуть поодаль, возвышалась небольшая белокаменная церковь Успения Пресвятой Владычицы Богородицы с колокольней, крытая свинцовой кровлей, от паперти которой были слышны протяжные женские голоса, певшие молитвы.
Весь другой конец княжьего двора был застроен низенькими и вытянутыми вдоль стен конюшнями с раскрытыми воротами, из которых несло смешанным запахом конского пота и затхлого сена. Несколько отроков скребницами усердно очищали конский помёт. Неподалёку дымилась густым белым дымом баня. Оттуда внезапно выскочил голый гриден[30] и бросился со всего размаху в корыто с водой, стоявшее поодаль. Послышался громкий всплеск воды и дикий крик парня.
Возле сеней княжеского терема стояло несколько доводчиков в охабнях[31] и шапках, отороченных мехом, на боку у них висели обоюдоострые мечи. Они между собой оживлённо о чём-то разговаривали.
– Здоровы были, мужички, – подойдя к доводчикам[32], проговорил десятник.
– И ты будь здоров, Микита, – прервав разговор, ответили те.
– Что за человек с тобой? Поди, в дружину к князю? – стали любопытствовать доводчики, разглядывая молодого паренька, пришедшего с десятником.
– В оную самую, догадливы…
– Тоды малость обождать придётся – князь с сыном да боярами трапезничает.
– Може и обождать, – ответил Микита.
– Почто ждать, десятник?! – выкрикнул боярин-огнищанин[33], смотревший из окна терема во двор. – Что за малец с тобой? Как величать по батюшке? Какого рода? – Из резного окна княжеского терема выглядывал здоровенный мужик.
– Отвечай боярину да знай, что молвишь с самим Терентием Игнатичем – великокняжеским боярином-огнищаниным, – проговорил вполголоса Микита, обращаясь к парню.
– Кличут мя Афонькою, – щурясь от солнечных лучей, ответил парень. – С дидом Булаткою жили бобылями…
– Погодь малость! – крикнул Терентий Игнатич и исчез в окне.
Через некоторое время тот боярин появился в сенях. Он спустился по скрипучим ступенькам вниз на крыльцо и прямиком направился к десятнику с пареньком. Доводчики, поклонившись в пояс, расступились.
Перед Афоней встал широкий в плечах чернобородый с проседью, со шрамами на лице и шее мужчина. На нём была шёлковая рубаха с застёжкой на плече, тёмные бархатные штаны и красные сафьяновые сапоги. Он внимательно оглядел Афоню с ног до головы и произнёс властно Миките:
– Ступай, десятник!
Тот, поклонившись, молча удалился, бряцая мечом и кольчугой.
– Как, молвишь, кличут твого деда? – поинтересовался боярин.
– Булатко, боярин, – ответил Афоня.
– Знавал я в старость одного Булатко, кой одним ударом ложил ворога к земле. А бился токмо булавою. Сей муж много крови пролил за князей рязанских, потому почитаем был… – задумчиво произнёс боярин, потом внимательно посмотрел в глаза парню и спросил: – Не тот ли Булатко дед тоби?
– Може, тот, а може, не тот. Почём ме знать? – пожал плечами Афоня. – Токмо мой дидусь справлялся вот сей булавой.
Афоня снял с кожаного ремня и протянул боярину рукоять с навершнем в виде куба и с острыми, как иглы, шипами.
– Аже как! – боярин поднял удивлённо брови. – Знакома мя сия надпись… Неужель жив ещё старик? Сколь воды утекло с той поры… Ведь я в детских хаживал, когда дед твой мужем премудрым был. – Боярин протянул булаву парню и добавил: – Держи крепко сие оружие, млад, да бей им так же сильно, как бил ей твой дед.
– Не сумнивайся, боярин, уже за мной не пропадёт, – грозно потряс кулаком Афоня, прилаживая булаву к ремню.
– Вот и ладно, – многозначительно ответил боярин и, повернувшись к доводчикам, повелел: – Давайте-ка, молодцы, проведите сего млада в гридницу. Да скажите посаднику Левонтию Захарычу, чтобы накормил его, одел, обул и лавку выделил под сон. – Потом боярин обхватил своими огромными мускулистыми руками парня. Через морщинистый лоб, переносицу и щёку проходил глубокий шрам, нисколько не портивший ясного и прямого взгляда с добрыми и умудрёнными жизнью глазами: – А ты, млад, слухай, что скажут делать, да не перечь. А поутру будь готов стать нашим меньшим братом, а князю-батюшке – защитой.
Княгиня Евпраксия
Афоню накормили, дали новую рубаху, портки да кожаные сапоги. Дьяк записал на бересте имя да место, откуда тот приехал. Воевода Терентий выделил лавку, рядом в одной гриднице с таким же простым людом, пожелавшим вступить в дружину к князю. Рыжего отвели в конюшню, почистили, дали корма.
Потолок низенький, лавка жестковата, а пол устлан соломой, от которой сыростью тянуло. Где-то слышно было, как пищат и копошатся мыши аль того хуже – крысы. От них никакого сна. Да рядом храпит молодь. Афоня всю ноченьку ворочался с боку на бок, да так толком и не смог уснуть.
– Подымайся, молодь! – громко крикнул вошедший в опочивальню княжий гриден. – Пора пробудиться, воевода кличет!
Он прошёлся вдоль кроватей, слегка постукивая витенем по спящим телам.
Афоня с лёгкостью вскочил и натянул на себя новенькие сапожки, ещё пахнувшие сыромятиной. Нахлобучил с отворотом шапку и накинул на плечи огромную медвежью шкуру.
На тёмном небе ещё поблёскивали меркнущие звёздочки и тускло светил месяц. Воздух был свеж и прохладен от слегка задувавшего ветерка. Во дворе суетилась челядь, слышны были разговоры бояр да звонкий смех молодых гридней. Ржание лошадей и гавканье собак перемешались с колокольным звоном, звавшим к заутрене. Из поварни шёл пьянящий запах пекущегося хлеба и жареного мяса.
– За мной следуйте! – скомандовал будивший парней гриден.
И вся молодь гурьбой, перешёптываясь и потирая спросонья глаза, повалила в сторону белокаменной церкви. В потёмках можно было рассмотреть, как возле паперти столпилось большое количество дворовых, державших зажжённые факела, женщин с детьми, гридней, бояр. Ворота ещё были закрыты. Какой-то дьяк бросал россыпью крошки, отламывая от булки, слетевшимся со всех сторон двора голубям да шустрым воробьям. Двое мальчуганов стучались палками, бегая вокруг своих матерей, мешая тем поговорить. Внезапно кто-то гаркнул:
– Посторонись… князь с княгиней да с сыновьями идёт!
Толпа мгновенно замерла и освободила каменную дорожку, ведущую к паперти храма. Афоня растолкал народ, чтобы поближе рассмотреть идущих величаво князя Юрия Ингваревича в дорогой шёлковой одежде да княгиню Агриппину Ростиславовну в расшитой золотом кумашнице с жемчужными бусами, игравшими на груди. Князь, ни на кого не обращая внимания, что-то говорил княгине в полголоса. Курчавая стриженая бородка, скулы, выдававшиеся вперёд, да строгий взгляд подчёркивали величавость его положения. Он, медленно и твёрдо ступая по каменистой поверхности, провёл свою княгиню мимо Афони к паперти с раскрывающимися воротами, оставив благовонный запах после себя. За ними так же величаво шёл приехавший на совет к отцу молодой и статный князь Фёдор Юрьевич со своею красавицей-женой Евпраксией, державшей за руку маленького Ивана Фёдоровича.
Евпраксия, одетая в расшитую золотыми нитками, длинную до земли кумашницу, расписные узоры которой играли на тускло освещённой дорожке, тихо ступала по камням маленькими малиновыми сапожками. Княгиня смотрела под ноги. Маленькая головка с длинной русой косой, в расшитом дорогом убрусе, была скромно опущена. Тонкие тёмные брови, пухленькие щёчки, маленький, немного курносенький носик и алые полураскрытые губки едва освещались огнём факелов. Статная осанка, грациозные движения тела, немного выдававшая вперёд грудь – всё было в ней прекрасно, ярко и величественно. Тонкими пальцами правой руки она вела за собой маленького пятилетнего Ваню, озиравшегося по сторонам своими полусонными глазёнками.
– Ах, наша Евпраксюшка! Ах, наша краса! – воздыхал кто-то в толпе.
– Лебедь белая!
– Краса уж… краса! Любо посмотреть!
– Что за диво-дивное!
Народ любовался и гордился своей княгиней, красота которой была известна далеко за границами Рязани.
Афоня не мог оторвать глаз от этой красоты. «Господь мой! Живот отдам за неё!» – промелькнуло у него в голове. И он сам ужаснулся собственной мысли. Как он, смерд, почти холоп, может так дерзко думать, замахиваться на княгиню?! Никогда Афоня, живя в лесу среди мха и лишайника, с медведем и вепрем, разговаривая лишь с дедом и конём, не мог себе вообразить, что не сможет устоять перед красотой самой княгини. Закружилась слегка голова. Что-то заныло у него в груди и более уж не отпускало, пока он видел перед собой её образ.
Князья прошли мимо, за ними последовали бояре в дорогой шёлковой брачине и корзно, гридь, отроки, бабы с детьми. Пошёл и Афоня.
Под сводом храма, в густой пелене благовонного ладана, стоял великий князь перед алтарём и под монотонное пение пресвитера и послушниц шептал какую-то молитву, часто крестясь. Люд княжеский стоял сзади и смотрел на архиерея, облачённого в золототканый саккос с большим омофором, чей взор был обращён к усыпанному драгоценными камнями и золотой краской иконостасу. Сквозь густую седую бороду он что есть силы пел молитвы своим старческим голосом.
– Хвалите имя Господне, хвалите, раби, Господа. Аллилуйя! – громогласил архиерей на весь храм.
Афоня пробился сквозь толпу поближе к боярам и воеводам и встал так, чтобы видна была княгиня с сыном. Ему приходилось наклоняться, когда все дружно отбивали поясной поклон вслед за архиереем, но как только выпрямлялись, он тут же обращал свой взор к ней. Её тонкий стан, приподнятая, равномерно дышавшая грудь, густая длинная коса, заплетённая голубой шёлковой лентой, белая молодая кожа – всё в ней дивно сочеталось.
Ещё никогда Афоня не видел столь величавой красы. Но вот беда – она княгиня и имеет мужа с сыном. А он низкого сословия да младше намного. «Грех се, грех большой… Матерь Божья, прости раба твого неразумного…» – прошептал сквозь губы Афоня, взывая к иконе Богоматери, висевшей слева от царских врат иконостаса. Освещённая множеством горящих свечей, Святая Мария смотрела ему в глаза и со всей материнской любовью как будто пыталась утешить его и приласкать.
– Величить, душа Моя, Господа и возрадовася, Мой, о Бозе, Спаси Моём… – разносилось по всему храму хоровое пение Песни Богородицы.
«Она за меня преклоняется пред Богом», – подумал Афоня, вслушиваясь в строки песни.
Рядом с Афоней стояла баба в холщовой кумашнице, держа младенца, завёрнутого в какую-то серую тряпицу. Малыш сладко спал, убаюканный теплом материнского тела и монотонным пением хора. Его пухлые губки иногда шевелились, а розовые щёчки мялись, образовывая милые ямочки.
Громадный детина, стоявший поодаль, заткнув левую руку за пояс рубахи, грубо шептался с другим детиной поменьше ростом. Несколько девиц в расшитых убрусах, с длинными русыми косами, потихоньку поглядывали на парней и хихикали, когда архиерей начинал громко петь молитву. Сухонький дед в рубище и лаптях при каждом слове «аллилуйя» бросался на колени и стучался лбом об пол, громко при этом кряхтя.
Бояре, гридни, смерды – все молились, слушали хор и архиерея, но каждый думал о своём и просил у Бога о мирском, о суетном.
Велено до пуза накормить…
После заутрени всю молодь повели на кухню. Посадили за широкие дубовые столы, на которых уже стояли деревянные мисы с овсяной кашей, карась свежий да окунь копчёный, огромный румяный каравай да блины с сырниками, зелёный лук и чеснок, да большие расписные братины[34], вырезанные в виде уток с наполненным до краёв квасом.
– Ото по-нашему! – воскликнул кто-то из парней и бросился, потирая руки, к первому табурету.
– Ух, мать честная… до чего ж пригож стол!
– А живот-то как урчит!
Молодь гурьбой повалила к столам, затыкая за пояса свои шапки и сплёвывая на руки, вытирали кто о портки, кто об рубахи, а кто и об волосы.
– Кушайте, гостички дорогие, – поклонившись в пояс, певуче проговорила пухлая и весёлая баба, потирая руки о мокрый серый подол. – Нам велено вас до пуза накормить…
Молодь резво принялась за еду. Застучали ложки по ендовам[35], шелестел чеснок и хрустел лук во рту. Кто-то зевал, кто-то, запив рыбу квасом, громко срыгнул. Один рыжий с пробившейся бородёнкой отрок, поковырявшись в ухе, тут же этой же рукой стал отламывать себе кусок рыбины, разбрасывая крошки в стороны. Его огромный рост, могучая грудь, мускулистые руки сразу же выделили его среди парней.
Вдруг он почуял, что кто-то смотрит за ним со стороны кухни. Он приподнял глаза и перестал жевать: через чуть отворившуюся дверь глядела молоденькая рыжеватая девонька. Её большие карие глаза так и впились в него, словно стрелы калёные. От этого ему даже не по себе сделалось. И чтобы как-нибудь отвлечься, он завёл разговор.
– Почто пошёл в дружину, сухощавый? – спросил рыжий у Афони, прожёвывая кусок рыбины. – Аль нужда заставила?
– Ловитой занимался с дедом, – проговорил новобранец, пытаясь прожевать. – Не было нужды…
– А почто тоды? Мыслишка всё же, раз приковылял? – не унимался рыжий отрок, пытаясь привлечь к разговору Афоню, а сам тайком нет-нет да бросал взгляд в сторону кухни. А девку кто-то позвал с кухни, и она прикрыла дверь. Скрип давно не смазывавшихся петель показался самым худшим из звуков для рыжего парня.
– Дед бился за князя, батька полёг в Сечи[36] – вот почто, – буркнул в ответ Афоня, запивая квас.
– А мя отдали взамен закупа батяньке мову. Налетели отроки княжьи с подлюкой-мытником[37] Жидякой да давай чинить допрос. Почто, говорит, твоя сучья морда, не привозишь на погост воск да мёд? Плети да колодок захотел? А сам скалится изгнившими клыками. А батька мой, что мог промолвить: коль прошлым летом колода[38] хвои да другого леса погорели, потому померли все наши борти[39], чем отдавать? Один Бог ведае…
– Вот туга кака… – многозначительно произнёс сидевший рядом с рыжими чернявый паренёк. – А величать тя по батюшке как, огнянный?
– Михайлом кличут… – расправив могучие плечи, пробасил рыжий, положив ложку каши в рот.
– А ты почто ко князю пожаловал? – спорил Афоня.
– Сладко дружина княжья живёт! – Чернявый облизал свою ложку и вытер рукавом рот и бороду: – Гридни серебром да народным уважением слывут. А почто сохой страдать от зорьки до зорьки, коль може есть сыто да сосать мягко? Се по мне, по моему нутру.
– А я, браты, изгой! – гаркнул русоволосый паренёк, сидевший поодаль.
– А почто так? – спросили его.
– Родитель мой холопом был у попа Луки. Ловитой промышлял. В один год он столь куна да бобра изловил, что отдал заём тому попу. Да смог выторговать и себя, и мати, и братков моих. Потом срубили избу в лесу да стали свободно поживать.
– А почто родителя оставил? – спросил мужичок по имени Захар, который был старше всех остальных на добрый десяток лет. Его курчавая русая борода и умные голубые глаза резко выделяли среди всех остальных, сидевших за столом.
– Нужда, браты… она лиходейка. Попробуй прокормить таку ораву, кака у мого родителя.
– Сколь народу-то? – продолжал спрашивать Захар.
– Во, глазей! – парубок-изгой выпятил пальцы на обеих руках.
– Ишь ты, настругал-то, словно ломтей на супец! – воскликнул удивлённо чернявый.
Все вразнобой засмеялись.
– Нехай рожают люди бо народу, и так недостать, – встряла в разговор баба-стряпуха, зашедшая с кухни убирать пустые грязные ендовы. Вместе с ней проскользнула и та девушка. – Вон сколь нехристи поугоняли молодь, житья от них нет.
Михайло так и выронил ложку изо рта, обрызгав супом стол.
Но на это никто не обратил внимания, кроме помощницы стряпухи.
– То верно молвишь, баба, – согласился чернявый, которого звали Саваской. – Много люду русского пожгли, побили ироды!
– Да коль бы только так, – задумчиво произнёс Захар. – Но не только половцы…
– А кого ж винить, ежели не энтих поганых? – не унимался Саваска, положив в рот очередную порцию каши.
– То, паре, може, ведомо только князьям да боярам нашим, – резко посмотрел на чернявого Захар.
Все парубки[40], сидевшие за столом, резко притихли и стали переглядываться между собой. Наступила мёртвая тишина, прерываемая только человеческим дыханием да шумом со двора.
– Что ж, мил человек, наговариваешь ты на нашего князя-батюшку? – разрезая резко тишину, обидчиво произнесла стряпуха.
– То правда, баба! – воскликнул тот. – Сколь люду русского полегло в междоусобицах княжьих?! Сколь сёл да городов пожгли?! Каждый свою сторону держит, а потому слабы пред погаными!
– Грех! Наговор творишь, окаянный! – перекрестилась баба. – И как язык твой бесстыжий поворачивает тако!
Афоня с удивлением стал смотреть на этого, уже с проседью в волосах, человека. Его резкость, прямой смелый взгляд, крепость мысли и слова поразили до глубины души молодого паренька. Никогда прежде ему не приходилось слышать столь смелые и правдивые речи. Да и что мог услышать в глухом лесу средь огромных елей и зубастых волков внук бобыля?!
– Почто шум подымаешь, баба? – спокойно произнёс Захар. – То правда, да и ты её не хуже мово знаешь. – После этого он также спокойно взял в руки ложку и, подвинув к себе кашу, стал есть.
– А почто ж ты, нехристь, в дружину набиваешься? – не унималась стряпуха. – Аль убить батюшку задумал? Отвечай, ирод!
– Дура ты неразумная, – ухмыльнулся в бороду Захар. – Почто мне его убивать? За хлеб да соль, что ль?
– Ну уж не ведаю… – буркнула в ответ баба и, взяв со стола пустые ендовы, скрылась за дверью.
Одна девушка осталась, отойдя в сторонку и поправляя волосы на голове.
– Как звать тебя, сладкая?! – вскрикнул Саваска, обращаясь к ней.
Но девушка не ответила, а посмотрела на Михайло и, улыбнувшись, скрылась за дверью. Опять прозвучал тот же скрип, от которого сильно защемило у него сердце.
– А всё одно, какая нелёгкая привела тебя в сей град? – смотря прямо в глаза Захара, спросил Афоня.
Тот, опустив голову, тяжело вздохнул и промолвил:
– Половцы лишили живота моих родителей и увели в полон братьев с семьями… А володимирцы убили жёнушку мою с малым дитём… Гришатка токмо от титьки отошёл, ножонками ступать стал… Избу спалили да коровёнку порубили на мясо… Так что ж мне оставалась делать?
– То правда, – подхватил Михайло. – Мой батька сколь раз за топор брался, чтоб отогнать черниговцев да володимирцев, да и киевлян тожа. Они хуже поганых: всё жгут, убивают, девок портят, храмы Божьи предают разорению и огню…
– Не было года, чтоб не подымали рязанцев на Сечу со своими же, русинами…
– Словно нехристи какие…
– Почто крамолу да смуту наводишь? – резко повернулся к Захару Саваска. – Негоже княжьи дела месить меж нами. Се нам неведомо. За князя должны горой вставать – он Богом дан нам!
Вдруг заскрипела дубовая дверь, и на пороге появился небольшого роста, но здоровенный в плечах посадник Левонтий Захарыч. Влетевший за ним ветерок заколыхал красное корзно[41] с серебряной застёжкой на плече. Он, посмотрев на образок, снял шапку с отороченным бобровым мехом, перекрестился и промолвил:
– Ну, сокольнички, пора поспешать! Неможно великому князю ожидать гридней! У него, чай, и без нас уйма дел! – громкий голос воеводы заставил молодь позабыть свои распри.
Они побросали ложки, братины, ендовы, недоеденные куски и стали, забирая свои шапки, выходить во двор. Посадник, поправив на кожаном ремне меч с серебряной рукояткой, взял братину с квасом и жадно стал пить. Забежала стряпуха и, собирая остатки на столе, неожиданно подбежала к воеводе и стала что-то шептать ему на ухо.
– Да ну тя… – нехотя промолвил Левонтий Захарыч.
– Истинный крест глаголю! – наскоро перекрестясь, пролепетала баба. – Да хошь у него самого допытай, коль сумнивашься!
Посадник допил квас, поставил братину на дубовый стол и вытер замочившуюся курчавую бороду с усами. Его морщины ещё больше скукожились от появившейся на лице улыбки. Поправив спадавший на лоб седой курчавый чуб, проговорил:
– Ты бы, старая, страдала за свои блины с пирогами, а в мужьи сплетни нос не совала – то мя касаемо. Пошла прочь, дура!
Стряпуха от таких слов прикрыла ладонью открытый рот и с выпученными от удивления или страха глазами бросилась к двери. Воевода ухмыльнулся в усы и, взяв шапку, резко повернулся в сторону выхода.
Набор в личную охрану князя
Уже совсем рассвело. В утреннем тумане, в еле заметных очертаниях, поблёскивал позолотой купол белокаменного храма. Рядом – стоявшие друг возле дружки резные теремас подклетями, отливавшиеся жёлто-розовым оттенком. Из раскрытых расписных ставень слышались какие-то житейские пересуды и разные звуки. Топились печи, дымились жаровнина кухнях, распространяя вкусный запах жарившегося мяса. Возле конюшен отроки поливали из ушата и чистили лошадей, которые от удовольствия помахивали хвостами и фыркали. Слуги в кафтанах некрашеного сукна да в лаптях подметали мётлами двор, таскали мусор; выставляли княжьи стяги и устанавливали их между расписными золочёными стульями с высокими спинками, обшитыми кожей; укладывали ковры персидские от стульев до княжеского крыльца; чуть поодаль устанавливали чучела для потешных игр. Несколько отроков привели коней оседланных и привязали к столбам. Другие носили с оружейного амбара мечи, щиты, копья, луки со стреламии складывали аккуратно возле столбов с лошадьми. За крыльцом отцветали разного вида садовые цветы, росшие на клумбах. Садовник выдёргивал увядшие и поправлял ещё цветущие. Ватага мальчишек носилась по двору меж конюшен и княжьих хоро´ м с палками и самострелами, изображаяиз себя воинов в деревянных шлемах со щитами из коры деревьев и половцев в огрызках рваной собачьей шерсти, накинутых на плечи и голову.
– Кыш отсель, пострелята! – прикрикнул на них один из отроков, нёсший ушата[42] воды для обмывания лошади. – Кыш, а то ушата вылью, будя знать, как носиться меж коней!
– Ты почто лаешься на дружину княжью, челядь?! – гаркнул в ответ один из мальчишек, самый высокий и, по-видимому, главный из этой ватаги. Он грозно помахивал деревянным мечом, насупив брови, как взрослый.
Отрок пригрозил в ответ кулаком и побрёл к лошадям.
– Почто старших не слухаешь, Гаврилка? – строго спросил Левонтий Захарыч, шедший в это время мимо двора.
– А чего он? Не видит, что на подмогу к нашим веду дружину?! На выручку! Поганые одолевают! – крикнул в ответ Гаврилка и бросился с ватагой на молотивших друг друга других мальчуганов.
– Веди, веди, пострел… Молодец! Русичи всех сильнее! – проговорил Захар, стоявший в толпе пришедших вчера парубков для вступления в дружину.

