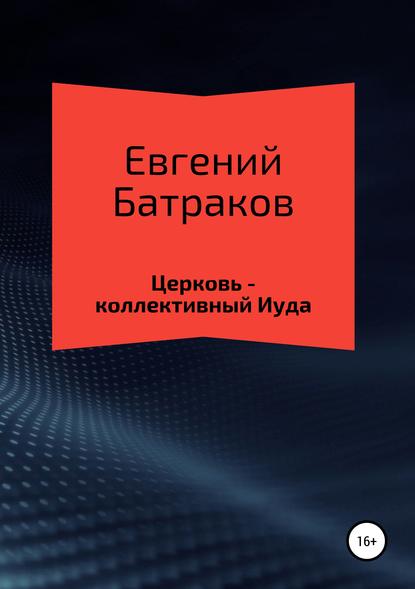 Полная версия
Полная версияЦерковь – коллективный Иуда
«1. Церковь отделяется от государства.
3. Каждый гражданин может исповедывать любую религию или не исповедывать никакой.
12. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют.
13. Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием» [300].
Все! Finita la commedia.
(Проект Декрета, кстати, был подготовлен иереем Михаилом Галкиным).
Однако важно понимать, что «Декрет о свободе совести…» не запрещал религию, как таковую, и выступал не против идеи Иисуса Христа о Церкви, как о духовном собрании людей. «Декрет о свободе совести…» лишь заявлял, что финансово-экономическая деятельность Православной российской церкви, которая, к тому же, еще и не платит налоги, – внегосударственна по своей сути, и функционально. Не содержал декрет и ничего дискриминационного по отношению к ПРЦ – она всего лишь уравнивалась в правах с остальными религиозными объединениями, существовавшими в стране: становилась сообществом, образованным на добровольных началах для удовлетворения религиозных потребностей своих членов и содержащейся за их счет. Это, к тому же, отвечало и чаяниям великого множества людей. Ведь весь XIX век, да и не только XIX, лучшие умы России, и не только России буквально клеймили церковь, как социально-экономическое, политизированное образование, претендующее на статус независимого «государства в государстве», паразитирующее на народной массе, использующее для наживы обман, мифы и всевозможные предрассудки. Вспомним, в этой связи хотя бы блестящего публициста, литературного критика В.Г. Белинского, и всем нам хорошо известное «Письмо Н.В. Гоголю. 3 июля 1857 г.»: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов – что вы делаете! Взгляните себе под ноги – ведь вы стоите над бездною!.. Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, – чем продолжает быть и до сих пор» [301].
Стоит ли после этого удивляться, что отделенных от государства, лишенных имущества и юридического лица еще и никто не собирался даром кормить?! Прекращались даже государственные субсидии церковным и религиозным организациям. Все бесплатное кануло в лету. Большевики вдруг оказались твердыми последователями «апостола», Павла, сказавшего во Втором послании к Фессалоникийцам: «…если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3:10). И, дабы до церковников скорее дошло сотворенное в те «10 дней, которые потрясли мир», большевики для пущей ясности даже внесли это положение в ст. 18 Конституции 1918 года: «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика признает труд обязанностью всех граждан Республики и провозглашает лозунг: «Не трудящийся, да не ест!»
Поэтому не удивительно, что состояние, в котором пребывало ушибленное Октябрем духовенство, весьма смахивало на состояние невменяемости и, соответственно, неадекватности. Например, когда 2 (15) марта 1917 года Николай II «отрекся» от престола, Святейший Синод счел необходимым не только заявить о своей поддержке Временного правительства и призвать «верных чад православной церкви» поддерживать новую власть, но и внести изменения в церковное богослужение: «Святейший Правительствующий Синод Российской Православной Церкви имели суждение об изменениях в церковном богослужении, в связи с прекращением поминовения царствовавшего дома. Приказали: На основании бывших рассуждений Святейший Синод определяет: во всех случаях за богослужениями вместо поминовения царствовавшего дома возносить моление «о Богохранимой Державе Российской и Благоверном Временном Правительстве ея» [302].
Подобную же позицию занял и Московский Совет благочинных, который на своем заседании, состоявшемся 7 марта 1917 года под председательством протоиерея Иоанна Восторгова (1864–1918), обсудив вопрос об отношении духовенства к текущим событиям в России, постановил:
«1. Единогласно и вседушевно, во имя пастырского и патриотического долга, подчиняться Временному Правительству и последовавшим в этом направлении распоряжениям Высшей Церковной власти.
3. Поддерживать теперь Временное Правительство, а в будущем то Правительство, которое будет дано России Учредительным Собранием, безотносительно к политическим основам…» [303].
Но почему же не было сделано подобного же, когда к власти пришли большевики? Ведь сказано же, что «нет власти не от Бога; …начальник есть Божий слуга» (Рим. 13:1, 4.).
Я не против того, чтобы церковь была бы «безотносительна к политическим основам», но… почему ж она, заявив о своей лояльности к тем, кто пришел во власть в марте, отказала в этом же тем, кто пришел во власть в октябре? Разве В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, А.И. Рыков и их товарищи, имели прав на должности в правительстве меньше, чем князь Г.Е. Львов, кадет П.Н. Милюков, эсер А.Ф. Керенский и прочие?
Хуже того, духовенство не только само стало лезть на рожон, но еще и науськивать свою паству – подбивать ее на оказание сопротивления представителям законной власти, что закономерно вылилось в трагические последствия: 7 февраля 1918 года в Киеве красногвардейцами убит митрополит Владимир (Богоявленский); 8 февраля – расстреляны крестные ходы в Воронеже, Тамбове, Шацке и Самаре; 15 февраля расстрелян крестный ход в Туле; 22 февраля расстреляна толпа богомольцев в Пермской епархии… И так по всей России!
В ту же «бутылку», т. е. в политику вдруг полез и патриарх Московский и Всея России Тихон. В частности, после того как IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов 16 марта большинством голосов ратифицировал Брест-Литовский мирный договор, 18 марта 1918 года патриарх Тихон выпускает Послание, в котором даёт оценку данному действию Советского правительства: «Но тот ли это мир, о котором молится Церковь, которого жаждет народ? – вопрошал патриарх. – Мы призываемся совестию своею возвысить голос свой в эти ужасные дни и громко объявить перед всем миром, что Церковь не может благословить заключённый ныне от имени России позорный мир» [304].
Мир, конечно, позорный – «похабный», как тогда говорили – этого никто и не скрывал, но… благодаря ратификации Брест-Литовского мирного договора, люди прекратили убивать людей?!.. Почему же не это было главным для патриарха Тихона?! И он, игнорируя 12-е Правило Первого Вселенского Собора 325 г., и напрочь запамятовав, что «худой мир лучше доброй ссоры», настырно призывал к войне до победного конца – «За Веру, за Церковь Святую, Православную!»?!.. Между тем, потери России в войне 1914–1918 гг. составили 1 миллион 800 тысяч человек [305]. Но патриарха волновали не людские потери, но то, что в России – большевики. И для того чтобы устранить «красную угрозу» своему, давно и хорошо налаженному существованию, патриарх Тихон и выбрал в качестве союзника – кайзера Вильгельма II. Через 20 лет подобное же – устранить Сталина с помощью Гитлера – попытается сделать генерал-лейтенант Власов.
И все же большевики остановили бессмысленную бойню – которую не они начали, а помазанник Божий Николай II в союзе с Синодом – и Советская республика не только получила возможность сравнительно безболезненно выйти из неимоверно тяжелого экономического положения, но и приступить к восстановлению народного хозяйства, разрушенного войной и двумя государственными переворотами.
К сожалению, в эти исторические времена церковники озаботились не общей судьбой России и не своим участием в строительстве жизни по-новому, на христианских принципах справедливости, равенства и братства. Нет, они, утратив возможность безбедно паразитировать на теле народа, воспылали гневом, заскорбели в связи с потерей прав на собственность, которую столетиями создавали рабы – рабочие и крестьяне, а присваивало духовенство… Более того церковники не только отказались сотрудничать с представителями новой власти, но и призывали верных чад сплотиться в противодействии происходящим переменам, пострадать за дело Христово, организовывали «всенародное моление» за гонимую церковь. На Соборе ПРЦ 20 января 1918 года даже было зачитано послание патриарха Тихона, в котором он обратился к извергам рода человеческого, к тем, кто воздвиг жесточайшее гонение на Святую Церковь с грозным словом обличения и, властью, данной от Бога, анафематствовал их, и запретил им приступать к Тайнам Христовым.
Я не выскажу ни одного доброго слова в защиту зверствующих большевиков, в защиту зверствующих ниспровергателей старого мира и тех, кто был на их стороне, но… не могу промолчать и в осуждение церкви, не могу не сказать: крест, что лег на плечи духовенства, не отвергать надобно было, но принять. Принять со смирением, по-христиански.
Вспомним поразительный эпизод из Нового завета: «Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных», и «один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26:47, 51–52).
Так поступал Христос, учением Которого прикрывалась на протяжении столетий церковь – коллективный Иуда, отвергающая Учителя, и предающая Его.
И второй эпизод. Сын Человеческий в оправдание тех, кто раздел Его и поделил Его одежду, кто возложил на Его голову колючий тёрн и тростью бил Его по голове, Сын Божий, уже распятый на Кресте, избитый, оплеванный, оболганный и преданный своими учениками – а Петром аж трижды за одну ночь – Иисус, истекающий кровью, произнес: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34).
Вот, как должно поступать каждому, кто наладил стопы свои на путь, ведущий в Царствие Небесное, и кто называет себя истинным христианином!
Размышляя на тему времен столь далеких, но близких по вечнозеленой теме этики, я, конечно же, не мог оставить за пределами своего внимания вопрос: почему же, когда к власти в России пришли большевики, духовенство так круто взбудоражилось, ощетинилось и возмутилось, а вот когда Русь подпала под власть кочевников, – оно не просто смолчало, но, фактически, встало на их сторону? И это несмотря на то, что – куда там большевикам – монголы разрушили и разграбили почти все города Руси, истребляя при этом и детей, и стариков, что подтвердили археологические раскопками, сжигая монастыри, опустошая сельскую местность… Во Владимире озверевшие кочевники Батыя сожгли соборную церковь вместе с укрывшейся в ней великокняжеской семьей, боярами и простыми жителями. 6 декабря 1240 года монголы сожгли киевскую Десятинную церковь, в которой укрылись последние защитники города… И не анафематствовал гневно, насколько нам известно, тогдашний митрополит Киевский и всея Руси Иосиф?..
Какими же убеждениями церковники так тогда поступающие были замотивированы? И каковы причины, породившие подобные убеждения?
Наш современник церковный историк, кандидат богословия, профессор В.И. Петрушко в качестве причины № 1 самого явления – нашествие монголов – выдвигает разобщенность, а в качестве очередной – беззаконное бытие: «Вслед за распадом (здесь и далее выделено мной. – Е.Б.) Киевской державы и кровавыми усобицами русских князей очень скоро последовало и вразумление русскому народу. Совсем недавно он принял в сердце свое проповедь Евангелия. Но далека была от христианского идеала евангельской любви жизнь русского народа в эпоху раздробленности и кровавых княжеских усобиц. Поэтому, когда летописец говорит, что «по грехам нашим навел на нас Господь безбожных агарян» или, например, автор «Повести о разорении Рязани Батыем» отмечает: «И была сеча зла и ужасна… Все это навел Бог грехов наших ради…», то ясно, что между страшным бедствием, ниспосланным Руси, и ее беззаконным бытием имеется самая непосредственная связь. Летописцы признают греховность своего народа как причину беды» [306].
Вот именно эту дичь именно в таком виде тогдашние церковники и вколачивали в умы русских людей! И, тем самым, оправдывали кочевников – виноваты, стало быть, сами же русские люди, коим и покаяться непременно надобно!
«Другой духовно-нравственной причиной катастрофы, постигшей Русь в середине XIII в., – пишет В.И. Петрушко, – было то, что более чем за два с половиной века, которые минули со времени крещения Руси, наш народ в полной мере так и не воцерковился. <…> А кое-где просто еще продолжали поклоняться идолам». [306].
Как вам, уважаемы читатель, такое?! Не воцерковился народ и – на тебе, наказанье Божье – орда монголов, как реакция на житие славян в язычестве. И виноваты, стало быть, не алчные хищники-завоеватели – нечего искать врагов на стороне, и не доморощенные князья-бездари, не сумевшие организовать защиту своего Отечества – виноваты сами же ограбленные, униженные, искалеченные, убитые…
Впрочем, вопрос-то у нас не о том, кто виноват, кто что не делал или же делал, да не так. Наш интерес в совершенно иной плоскости: почему духовенство, когда в стране установила свою гегемонию «красная орда», возроптало, выставив гегемона, как гонителя, и даже восстало на борьбу с теми, кто вознамерился демонтировать традиционный уклад Руси и Русской церкви, а вот когда случилось нашествие «желтой орды», то рясоносцы не только сами против пришлых иноверцев не выступили, но и народу внушали надобность склонить пред врагом свои головы, и даже требовали от народа покаяния за то, что жил он во грехе.
И, похоже, желтокожие интервенты услужливость оценили. Известно, что митрополит Киевский и всея Руси Кирилл III в 1261 году при содействии Александра Невского учредил в Сарае православную епархию, а спустя несколько лет – в 1267 году, получил и жалованную грамоту (ярлык) на освобождение от налогов, повинностей и чрезвычайных сборов, закрепляя, тем самым, юридически дарованное ордынцами и недоступное другим слоям населения, право духовенства на защиту от посягательств монгольских чиновников, право на охрану земельного и прочего имущества церкви. (Вместе с тем, я принимаю и уточнение замечательного ученого-тюрколога А.П. Григорьева: «Жалованная грамота, выданная Кириллу в 1267 г., вряд ли была первой. Русская церковь уже пользовалась налоговым иммунитетом» [307]).
Церковь получила также право на защиту от богохульства – оскорбительного и просто непочтительного действия, слова в отношении Бога или святыни. Архиепископ Харьковский Макарий (1816–1882), рассуждая на эту тему, в своей работе «История Русской церкви» привел цитату из доступного ему ярлыка: «…кто будет хулить веру Русских или ругаться над нею, тот ничем не извинится, а умрет злою смертию» [308].
Известно, что толерантное отношение монголов к чужой религии, в данном случае к православию было обусловлено соответствующим предписанием «Великой Ясы» – своего рода кодексом правил и табу, установленных Чингисханом. Толерантное отношение – это понятно, но… никакая веротерпимость не обязывает, вместе с тем, освобождать еще и от необходимости платить дань. Я подозреваю, что попы очутились в столь льготных условиях существования только потому что были пригодны функционировать, как инструмент идеологического воздействия на население. Именно эта ж функция и была им вменена – прописана, в частности, в ярлыке хана Менгу-Тимура митрополиту Кириллу: «Чингис-хан и последующие ханы, наши старшие братья, говоря: ”Священники и монахи, каких бы то ни было налогов не видя, пусть богу за нас молятся, благопожелания нам возносят!”» [309].
Вот оно – «пусть богу за нас молятся, благопожелания нам возносят!»
И попы благопожелания возносили, молились…
И… правильно!
Вспомним, Господь говорил: «любите врагов ваших» (Мф. 5:44). Чтобы выделить суть данного высказывания, усилим его: любите тех, кто поднял на вас меч, кто поднес горящий факел к вашему жилищу, кто увозит ваше имущество… Выходит, что любить врага – это любить насильников, грабителей и убийц. Конечно, любить врага можно, и любить его не сложно, как врага потенциального, как еще не начавшего действовать, т. е. любить эдак теоретически, дистанционно, умозрительно. Но как любить, когда он уже рядом, когда он насилует вашу жену, убивает вашего ребенка и уже готов убить вас самих?
Как тут быть?!..
А никак! Буквально: никак. И это не скотское равнодушие, но – христианское смирение.
Вспомним историю, произошедшую с Серафимом Саровским.
12 сентября 1804 года отец Серафим в лесу недалеко от своей кельи рубил дрова. В это время, три разбойника выскочили из кустов и, подступив к нему, потребовали денег, полагая, коль мирские люди к старцу захаживают, так и деньги приносят. На это отец Серафим отвечал: «Я ни от кого ничего не беру». Разбойники не поверили и набросились на Серафима.
Отшельник физически был крепок, да еще и вооружен топором, и мог бы не без надежды на успех обороняться, однако он этого не сделал. Напротив, спокойно опустил топор на землю, сложил крестообразно руки на груди и кротко произнес: «Делайте, что вам надобно».
Тогда один из разбойников, схватив топор, обухом ударил отца Серафима по голове. Старец упал. Его поволокли в сени отшельничьего жилища, продолжая поколачивать, кто чем сподобился. Когда же увидели, что старец почти мертв, то связали ему руки и ноги, и бросились в его жилище. Увы, но, кроме старой иконы и нескольких картофелин разбойникам ничего ценного обнаружить не удалось, хотя они тщательно обшарили все углы и закоулки, и даже разломали печь и разобрали пол. И тут на злодеев не только снизошло понимание, что они понапрасну избили одинокого человека, но и страх охватил их, и они бежали вон.
Некоторое время спустя, разбойники были опознаны и арестованы, но отец Серафим простил… [310].
Так вот, христианство – это смирение, как составная часть любви. Христианство – это отказ от бегства, от борьбы, от самозащиты с помощью оружия. Конечно, каждый волен сделать и иной выбор – взять в руки меч, объявить войну, разместить на своих знаменах ветхозаветный девиз «Око за око, зуб за зуб!», но… тогда не называйте себя христианином.
Быть христианином – это не только принять к сведению сказанное Христом: «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44), но и возведение в принцип своего ежесекундного существования элемент Нагорной проповеди «не противься злому» (Мф. 5:39).
Немыслимо?!.. Но ведь Христос же ясно сказал: «Кто не со Мною, тот против Меня» (Мф. 12:30)? Как же вы, желающий попасть в Царствие Небесное, можете там оказаться, если идете вы не с Христом, идете в сторону противоположную?
Например, некто вам говорит, что вы – допустили ошибку. Будете ли вы противиться – отрицать ее явное наличие? (А само наличие критикующего, даже несущего полную напраслину – уже есть реальное свидетельство существования ошибки, вами допущенной). Признать ошибку – первый шаг к ее исправлению. Не признать – очередной шаг к очередной ошибке, т. е. движение не в ту сторону, которая для вас желательна.
Если перед нами – враг, а мы не признаем причиной его появления «ошибки», допущенные нами в прошлом, и, соответственно, отрицаем право врага на «критику», совершаемую в форме насилия – интеллектуального, психологического, морального, физического, идем ли мы, в таком случае, в сторону совершенства или же консервируем свою дефективность, если не сказать хуже?
Враг, в том числе, такой, как недоброжелатель, конкурент, критик – это не наказание, но – доктор. И хорошо, если «врага» мы распознали именно как доктора гораздо раньше, нежели он появляется пред нами уже в халате хирурга или же в рясе священника, пришедшего принять от нас последнюю нашу исповедь и совершить последнее причащение.
Происходящее с нами – это результат нами же в мире ранее посеянных семян. Но мир – не хаос случайностей, мир – господство в динамике протекающих причинно-следственных процессов, изменение в которые способен вносить человек, Творцом наделенный свободой воли. И этот человек волен искать Царствия Небесного, и для этого – становиться христианином. Христианин же – это не крестик на груди, посты да свечки. Свечки, посты да кресты – всего лишь внешние атрибуты, причем, далеко не всегда благочестия и принадлежности к Церкви Христовой. Христианин – это любовь и смирение, ежесекундно свершаемый духовный подвиг, ибо как еще обозначить того, в чьем сердце пульсирует – «не противься злому»?
Редчайший человек, который эту истину понял и принял – великий русский писатель Лев Николаевич Толстой: «Движение к добру человечества совершается не мучителями, а мучениками. Как огонь не тушит огня, так зло не может потушить зла. Только добро, встречая зло и не заражаясь им, побеждает зло» [311].
Православная русская церковь врагов, в частности, в лице представителей советской власти, не любила, молиться за них и не противится им – не желала, т. е. христианской по своей сути она не была. К тому же еще и сокровищам на небесах предпочла собственность на земле. А ведь Господь ясно сказал: «Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6:24).
Таким образом, между служением Богу и служением маммоне, церковь выбрала последнее.
Хуже того, свой антихристианский выбор братия патриарха Тихона 2 декабря 1917 года пыталась навязать еще и большевикам с помощью Соборного постановления «О правовом положении Церкви в государстве»: «Священный Собор Православной Российской Церкви признает, что для обеспечения свободы и независимости Православной Церкви в России при изменившемся государственном строе должны быть приняты государством следующие основные положения…» [312].
Однако ж дерзкое государство не только позволило себе ослушаться того, что директивно предписывала ПРЦ, но еще и ответило 20 января (2 февраля) 1918 года собственным декретом – «О свободе совести и церковных и религиозных обществах». И не только этим декретом. Но и церковь в долгу не осталась – на своем заседании 27 января 1918 года Собор ПРЦ, принимает «Воззвание Священного Собора Православному народу (по поводу декрета народных комиссаров о свободе совести)». Очевидно не будет большим преувеличением, если мы скажем, что данным «Воззванием» была предпринята попытка мобилизовать и поднять православных на борьбу против советской власти. Вот, лишь несколько фрагментов: «Объединяйтесь же, православные, около своих храмов и пастырей, объединяетесь все, мужчины и женщины, и старые и малые, составляйте союзы для защиты заветных святынь. <…> Громко заявляйте всем, забывшим Бога и совесть, и на деле показывайте, что вы вняли голосу Отца и Вождя своего духовного, Святейшего Патриарха Тихона. В особом послании он зовет вас последовать за собою, идти на подвиг страдания, в защиту святынь. <…> Лучше кровь свою пролить и удостоиться венца мученического, чем допустить веру православную врагам на поругание» [313].
Это ли не явная провокация? Это ли не очевидное науськивание? Это ли не образчик антихристианского несмирения?
Хуже того, 7 ноября 1918 г. патриарх Тихон выступил еще и с «Обращением к СНК в связи с первой годовщиной Октябрьской революции» [314], в котором обвинил вершителей судеб Отечества, называющих себя «народными» комиссарами, в том, что по их призыву были пролиты «реки крови братьев наших», и в том, что «разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство», и в том, что «все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела», и в том, что по наущению комиссаров «разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду»…
Выступить-то с «Обращением…» патриарх выступил, но… в результате стало очевидным лишь то, что у ПРЦ нет ни одного рычага для сколько-нибудь ощутимого воздействия на государство – она совершенно бессильна пред этим Левиафаном, пред этой махиной, вооруженной маузерами, винтовками и правом диктовать свою волю. И это бессилие Православной церкви, объявленной декретом «О свободе совести…» вне закона, самым красноречивым образом показали сведения, изложенные в Отчете VIII-го (ликвидационного) отдела Наркомата юстиции, и опубликованные в журнале «Революция и церковь»: «…в 1920 году почти закончена ликвидация церковных и монастырских денежных капиталов и фондов. <…> Общая сумма капиталов, изъятых от церковников, но приблизительному подсчету, исключая Украйну, Кавказ и Сибирь, равняется – 7.150.000.000 руб.



