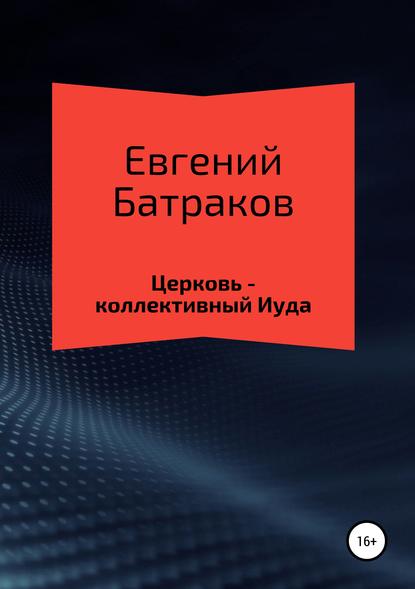 Полная версия
Полная версияЦерковь – коллективный Иуда
Не любили помещики: Петр III 25 февраля 1762 года принял указ «О ссылке Поручика Нестерова, на поселение, за жестокие побои, его человеку причиненные, от которых он умер, и об отдаче имения его Нестерова родственникам» – данным указом помещикам было совершенно внятно сказано, что безнаказанно убивать своих крестьян отныне недопустимо – вас ждет пожизненная ссылка на поселение в Нерчинск.
Не любили церковники: Петр III не только прекратил преследование старообрядцев – принял указ, в соответствии с которым им, кто пожелает, позволялось возвратиться в отечество, молиться по их обыкновению и пользоваться старопечатными книгами, но император указом от 21 марта 1762 года еще и решился реализовать задумки своей тетки Елизаветы Петровны, обогатив их целым рядом своих собственных. В частности, в соответствии с указом, было предписано: все синодальные, архиерейские, монастырские вотчины передать в ведение Коллегии Экономии; на крестьян, работающих в этих вотчинах, «положить единственной сбор с написанных по последней ревизии мужеска пола душ, с каждой души по рублю», что же касаемо «до властей духовных, оным по Всемилостивейшему Нашему соизволению, уважая благосостояние чина, к совершенному их удовольствию, повелеваем, из генеральной суммы Архиерейских и монастырских вотчин доходов на содержание их положить, по знатности мест» [285].
Таким образом, государство, изъявшее земельную собственность, брало церковников на содержание, т. е. ставило их в полнейшую зависимость от своего произвола. И весь этот имущественно-финансовый «погром» предписывалось по вышеозначенному указу совершать, «зачиная со второй половины сего 1762 года».
Могло ли с подобным «наездом» смириться в чванстве погрязшее духовенство, привыкшее за многие столетия безбедно паразитировать на трудовом российском народе? Могло ли оно подставить вторую щеку? Мол, «Бог дал – Бог взял», и – «на все воля Божья», и – власть, коль она от Бога, всегда права, даже если не права, а потому и следует сносить все покорно, с благодарностью принимать и т. д., и т. п.?
Нет, смирение – это для пасомых, а духовенство – пастырь, оно же – посредник между Спасителем и питающимися от трудов своих в поте лица своего…
Хорошо известно, что указ Петра III о церковном землевладении, возбудил наисильнейшее негодование священнослужителей. Прусский посол в Петербурге – Бернгард Вильгельм фон дер Гольц в своем донесении королю Фридриху II от 25 мая 1762 года отмечал: «Духовенство подало императору представление на Русском и Латинском языках, где жалуется на насилия и странные поступки с собою вследствие указа об отобрании церковных имуществ; таких поступков духовенство не могло ожидать и от варварского правительства, а теперь принуждено терпеть их от правительства Православного, и это тем горестнее, что духовные люди терпят насилие потому только, что они суть служители Божии. Эта бумага, подписанная архиепископами и многими из духовенства, составлена в чрезвычайно сильном тоне: это – не просьба, а скорее протест против государя. Донесения, полученные вчера и третьего дня от воевод отдаленных областей, говорят о старании духовенства подустить народ против монарха. В донесениях говорится, что дух мятежа и неудовольствия стал до того всеобщим, что они, воеводы, не знают, какие меры предпринять, а потому требуют наставлений от правительства» [286].
Таким образом, старт кампании подстрекательства против монарха был дан и, заметим, дан он был церковниками. Они же этот «дух мятежа» и подпитывали, как могли. Именно так данную тему и подавал в своих письмах современник государственного переворота 1762 года А.Т. Болотов, адъютант Санкт-Петербургского генерал-полицеймейстера Н.А. Корфа. Однако же, читая мемуары данного писателя, мне по крайней мере, было трудно освободиться от возникающих претензий.
Ну, посудите сами. В начале Болотов формулирует весьма смелый тезис: император Петр III «вознамерился было переменить совсем религию нашу» [287], т. е. упразднить православие, и на очень даже не пустом месте насадить лютеранство – христианство католического разлива. И далее истинность утверждаемого Болотов пытается обосновать весьма странным аргументом: «Начало и первый приступ к тому (к перемене религии. – Е.Б.) учинил он изданием указа, об отобрании в казну у всех духовных и монастырей все их многочисленные волости и деревни, которыми они до сего времени владели, и об определении архиереям и прочему знатному духовенству жалованья, также о непострижении никого вновь в монахи ниже тридцатилетнего возраста».
Ну, во-первых, вопрос о секуляризации церковных земель ставила и Елизавета Петровна, и Петр I, и почему-то ранее данные намерения не воспринимались, как попытка «переменить религию». Во-вторых, решительно не понимаю, как связана передача земельной собственности в ведение Коллегии Экономии и «перемена веры»?!..
Очевидно, чувствуя зыбкость своих заявлений, мемуарист Болотов тут же привлек в свои союзники новгородского архиерея Димитрия – того самого, который еще полгода тому назад держал весьма хвалебную речь, адресованную не кому-нибудь, а – Петру III: «Христос Господь, в день радости… <…> Возвел на самодержавный наследный престол российский самодержавного, давно уготованного, давно возделанного, дражайшего Государя Императора Петра Федоровича, и именем и делом Петру Великому подобного. <…> Мы, видевши и светлое лицо твое и слышавши твой глас, не можем от радости отверсти устен, но отверзаем пламенем любви и в верности горящие сердца» [288].
Через несколько месяцев архиерей Димитрий (в миру Сеченов Даниил Андреевич), первенствующий член Синода отверз, наконец-то, свои «устены» и вот как об этом – о состоянии умов после принятия императором указа об отторжении церковных вотчин – повествует наш мемуарист: «Легко можно всякому себе вообразить, каково было сие для духовенства и какой ропот и негодование произвело во всем их корпусе; все почти въявь изъявляли крайнюю свою за сие на него досаду, а вскоре после сего изъявил он и все мысли свои в пространстве, чрез призвание к себе первенствующего у нас тогда архиерея Дмитрия Сеченова и приказание ему, чтоб из всех образов, находящихся в церквах, оставлены были в них одни изображающие Христа и Богородицу, а прочих бы не было; также, чтоб всем попам предписано было бороды свои обрить и, вместо длинных своих ряс, носить такое платье, какое носят иностранные пасторы. Нельзя изобразить, в какое изумление повергло сие приказание архиепископа Дмитрия. Сей благоразумный старец не знал, как и приступить к исполнению такового всего меньше ожидаемого повеления и усматривал ясно, что государь не иное что имел тогда в намерении своем, как пременение религии во всем государстве и введение лютеранского закона. Он принуждён был объявить волю государеву знаменитейшему духовенству, и хотя сие притом только одном до времени осталось, но произвело уже во всех духовных великое на него неудовольствие, поспешествовавшее потом очень много к бывшему перевороту» [287].
Конечно, читая выше утверждаемое, нельзя отделаться от назойливого вопроса: почему же император изъявил «все мысли свои в пространстве, чрез призвание к себе первенствующего у нас тогда архиерея Дмитрия Сеченова», изъявил, прямо скажем, келейно, а не через Сенат и Синод? Почему, наконец, государь вдруг перешел на «ручное управление», начал свою акцию вразумления церкви через архиерея, а не посредством правового акта? Ведь в то время Петр III и по менее значимым вопросам так не поступал. Например, 27 декабря 1761 года он подписал указ – не желаю преумалять, но все же по частному вопросу – «Форма церковным возношениям»…
Представляется совершенно очевидным, что утверждаемое архиереем возможно и занимало некоторое место в действительности – дым без огня не бывает – но похоже, что оно и не без предвзятого истолкования, произведенного воспаленным умом церковника, да еще и претерпевшее трансформацию в живом воображении писателя.
Впрочем, для нас важно иное – признание А.Т. Болотовым того, что информация архиерея Димитрия, первенствующего члена Синода – не столь важно истинная или же фейковая – повергла духовенство в состояние неудовольствия, которое способствовало государственному перевороту 1762 года. Конечно, недопустимо утверждать, будто бы церковь была единственным идейным вдохновителем и организатором переворота, но также невозможно отрицать и то, что ее роль в общей структуре заговора была весьма существенной. Более того духовенство накануне переворота не представляло собой фронду, напротив, оно активно действовало, но… за спиной исполнителей, в числе которых хорошо известные – Г.Г. Орлов, М.Е. Ласунский, Н.И. Рославлев, П.Б. Пассек, Н.И. Панин, М.Н. Волконский… Совершенно прав был король Пруссии Фридрих II, когда утверждал: «Лица, на которых смотрели, как на заговорщиков, всего менее были виноваты в заговоре. Настоящие виновники работали молча и тщательно скрывались от публики» [289].
Скрывались, хотя и были на виду у всех.
Вот рассказ императрицы Екатерины II о первом дне переворота.
«В шесть часов утра 28-го, Алексей Орлов входить в мою комнату, будит меня и говорить с величайшим спокойствием: «Пора вставать, все готово чтоб вас провозгласить». Я спросила у него подробности, он отвечал: «Пассек арестован». Я не мешкала более, но скоро оделась, не делая своего туалета, и поехала в его экипаже. Другой офицер лакеем; третий прискакал мне на встречу в нескольких верстах от Петербурга. В пяти верстах от городу я встретила старшего Орлова с князем Барятинским меньшим. Последний уступил мне свое место в карете, потому что мои лошади были совершенно измучены, мы остановились в казармах Измайловского полка, тут было только двенадцать человек и барабанщик, который пробил тревогу. И вот солдаты собираются, целуют мои ноги, руки, платье и называют меня их спасительницей. Двое из них ведут под руки священника с крестом и начинают мне присягать; когда это было кончено, меня попросили сесть в карету. Поп с крестом шел впереди» [290].
Согласитесь, никакой поп, в данном случае – священник Измайловского полка, выполняющий свои пастырские обязанности, как лицо, уполномоченное на то епископом и строго в определенных границах, решительно не мог по собственному произволу приводить солдат и офицеров к присяге. Тем более что это прямо запрещало правило 39-е «Святых Апостолов»: «Пресвитеры и диаконы без воли епископа ничего да не совершают». Но если полковой священник все же совершал – приводил пасомых к присяге, значит, воля епископа уже заранее была явлена, инструкции – выданы, благословление – получено?
Далее вся процессия – Екатерина Алексеевна, поп с крестом, измайловцы и присоединившиеся к ним семеновцы – прибывает в Казанскую соборную церковь, «где была встречена архиепископом Димитрием; начался молебен; на эктениях возглашали самодержавную императрицу Екатерину Алексеевну и наследника великого князя Павла Петровича. Из Казанского собора Екатерина отправилась в новоотстроенный Зимний дворец» [291].
Обратим внимание: новгородский архиепископ Димитрий, первенствующий член Синода – как «рояль в кустах» – заранее оказался в нужное время, в нужном месте. Могло ли подобное произойти без предварительного сговора с членами государственного переворота? Ответ очевиден. Кроме того, важно понимать, что Синод – это коллегиальный орган, в котором один, даже если он первенствующий, не мог решать за всех, не мог совершать ничего такого, что превышало бы власть отдельных иерархов. Тем более что это прямо запрещало правило 34-е «Святых Апостолов»: «Епископам всякого народа подобает знать первого в них, и признавати его яко главу, и ничего превышающего их власть не творити без его рассуждения: творити же каждому только то, что касается до его епархии, и до мест к ней принадлежащих. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех». Но если архиепископ Димитрий, первенствующий член Синода провозглашал Екатерину Алексеевну самодержавной императрицей, значит, он действовал не по собственному произволу, а уже заблаговременно состоялось «рассуждение всех», уже состоялся сговор, и Синод, как того и требуют каноны, пришел к согласию?
Итак, из Казанского собора императрица Екатерина Алексеевна перемещается в Зимний дворец, окруженный Семеновским и Измайловским полками, где обнаружила пребывающих в томительном ожидании членов Сената и Синода!? Не одного архиерея, а – Синод, как свидетельство и демонстрацию ранее состоявшегося сговора! И все это, не будем упускать из виду, на протяжении одного дня 28 июня 1762 года, когда Петр Федорович еще похаживает по Ораниенбауму, еще наслаждается обществом своей любовницы – графини Воронцовой, играет на скрипке, попивает «заморское» вино, гладит свою любимую собаку, пребывая в полном неведении о том, что он уже не муж, не царь и не жилец.
А в это время в Зимнем дворце происходит, быть может, самое интересное: почётный член Императорской Академии наук и художеств, действительный статский советник Г.Н. Теплов зачитывает манифест «О вступлении на Престол Императрицы Екатерины II», где в первом же абзаце дана одна из причин государственного переворота – страх того, что Петр, якобы, собирался, реформировать православную церковь по лютеранскому образцу, и, соответственно, указан один из заказчиков низложения и убийства Петра III – церковь: «Всем прямым сынам Отечества Российского явно оказалось, какая опасность всему Российскому Государству начиналася самым делом, а именно: закон Наш Православный Греческий перво всего возчуствовал свое потрясение и истребление своих преданий церковных, так, что Церковь Наша Греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности переменою древнего в России Православия и принятием иноверного закона» [292].
Что было далее, нам хорошо известно: 29 июня 1762 г. Петр III был арестован, в надежде спасти свою жизнь, подписал текст отречения от престола, составленный Г.Н. Тепловым, затем отвезен в Ропшу – загородный дворец, и там убит. По одним данным 3 июля 1762 года, по другим – 6 июля.
И – наступило время воздаяния за заслуги. Очевидные участники событий 28 июня были щедро награждены: ордена, должности, чины, имения, денежные суммы, солидные пенсии…
А какую ж награду от императрицы за свое активное участие в государственном перевороте получила православная церковь?
Как повествует С.М. Соловьев в своей «Истории…», в самом начале июля случилось Екатерине II лично присутствовать на заседании Сената: «…на очереди было дело о позволении Евреям въезжать в Россию, и это дело привело императрицу в большое затруднение: «Не прошло еще осьми дней», думала она, «как я вступила на престол и была возведена на него для защиты Православной веры; я имею дело с народом религиозным, с духовенством, которому нечем жить вследствие отобрания имений, – меры необдуманной; умы в сильном волнении, как обыкновенно бывает после такого важного события; начать царствование указом о свободном въезде Евреев было бы плохим средством к успокоению умов; признать же свободный въезд Евреев вредным было невозможно». Из этого затруднения вывел Екатерину сенатор князь Одоевский, который встал и сказал ей: «Не угодно ли будет вашему величеству, прежде решения дела, взглянуть, что императрица Елисавета собственноручно написала на полях подобного же доклада». Екатерина велела принести дело и прочла: «От врагов Христовых не желаю корыстной прибыли». Прочитавши, Екатерина обратилась к генерал-прокурору Глебову и сказала ему: «Я желаю, чтоб это дело было отложено» [293].
?!..
И это при том, что в стране катастрофически не хватало денег. Впрочем, как и людей. Но… кто, прознав о данном решении императрицы, прежде всех и более всех иных возликовал? Конечно же, церковные иерархи. И, вне всякого сомнения, ценность подарка, что поднесла императрица православным церковникам, рублями не измерить и словами не описать. Причем, решение Екатерины II явилось не следствием некоего минутного наваждения, на эмоциональной волне оформленное. Отнюдь! Это видно из того, что свою позицию по вопросу иудеев государыня подтвердила и 4 декабря 1762 года, подписав манифест «О позволении иностранцам, кроме Жидов, выходить и селиться в России и о свободном возвращении в свое отечество русских людей, бежавших за границу».
Конечно, в данном вопросе Екатерина II не стремилась оригинальничать. Подобную же, традиционную позицию по отношению к иноверцам и к инаковерцам занимали и прежние правители России – Екатерина I, Петр I, Иван IV, Владимир Мономах… Вспомним и времена, когда в Москве свистали кнуты на торгу, где подвергались лютой «градской казни» за надругательство над иконами, а рядом полыхали костры, на которых живьем сжигали приверженцев ереси жидовствующих, ереси, под чье влияние подпали не только рядовые прихожане, но и священники, и даже глава Русской церкви митрополит Зосима, и государственные деятели из окружения Ивана III, да и сам государь некоторое время пребывал под очарованием иудействующего жидовина Схарии.
Вторая награда Екатерины II, ниспосланная духовенству за соучастие в государственном перевороте – указ от 15 июля 1762 года «О позволении иметь домовые церкви», коим было определено: «…запечатанные в правление бывшего Императора Петра Третьего в разных домах церкви Божии распечатать» [294].
И, наконец, третья награда, из тех, что можно отнести к весьма существенным, – долгожданный указ от 12 августа 1762 года «О возвращении имений, отобранных от монастырей по прежнему в управление Духовных властей и об уничтожении Коллегии Экономии» [295].
Вот так, достаточно щедро императрица отблагодарила православное духовенство за участие в государственном перевороте.
Ах, чуть не забыл! Еще ж столько сил положивший на то, чтобы оболгать Петра III, инспирировать в обществе недовольство его, якобы, антицерковной политикой, архиепископ Димитрий (Сеченов), совершив 22 сентября 1762 года обряд коронации императрицы Екатерины II, был 8 октября возведён в сан митрополита.
Таким образом, духовенство не только получило желаемое, но и показало, что оно способно решительно отстаивать собственные интересы, и даже, если потребуется, устранить царствующую особу. Между тем не нужно думать, что с тех пор настрой церковников претерпел изменения. Ничуть! Вот, что заявил Архиерейский Собор 2000 г. в своем документе «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»: «III.5. Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении. (Здесь и далее выделено мной. – Е.Б.). Христианин, следуя велению совести, может не исполнить повеления власти, понуждающего к тяжкому греху. В случае невозможности повиновения государственным законам и распоряжениям власти со стороны церковной Полноты, церковное Священноначалие по должном рассмотрении вопроса может предпринять следующие действия: вступить в прямой диалог с властью по возникшей проблеме; призвать народ применить механизмы народовластия для изменения законодательства или пересмотра решения власти; обратиться в международные инстанции и к мировому общественному мнению; обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскомунеповиновению» [296].
Конечно, церковники в вышеприведенном документе используют довольно лукавые фразы. Например, «призыв к мирному гражданскому неповиновению». Россия – не Индия времен Махатмы Ганди. В России гражданское неповиновение – это мятеж, демонстративное, массовое, сознательное нарушение действующих законов, а любое нарушение закона, пусть даже антинародного, всегда и неизменно выливается в репрессии со стороны государства. К тому же возникшее социальное напряжение естественным образом рестимулирует, «пробуждает» потенциал оппозиционных структур и отдельно социально встревоженных индивидов; а далее, и к сожалению, к общей буче подключаются еще и зарубежные спецслужбы. И начинается, как сегодня принято говорить, очередная «цветная революция» – хаос, уже никак неуправляемый церковниками.
Конечно, сам по себе народный протест, и даже его результат – смена режима, может осуществляться и вполне организованным образом, и представлять собой вполне прогрессивное явление. Совсем ведь не обязательно, чтобы «майдан» заканчивался приходом к власти фигуры, отличающейся от ушедшей лишь фамилией да физиономией. Люди принимают участие в «перевороте» исключительно для того чтобы достичь социально-экономического и политического положения гораздо более лучшего, чем то, в котором они существовали до «переворота». В этом же и смысл.
Очередной удар по антихристианскому, настырному стяжательству Русской церкви был нанесен в начале XX века, когда к власти пришли не просто атеисты – воинствующие безбожники. Они не запрещали саму деятельность духовенства, они лишь приняли «Декрет о земле»: «Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные со всеми их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение волостных земельных Комитетов и уездных Советов Крестьянских Депутатов впредь до Учредительного Собрания. <…> Вся земля: …монастырская, церковная… отчуждается безвозмездно, обращается в всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней. <…> Наемный труд не допускается [297].
Однако до духовенства, похоже, далеко не сразу дошел смысл произошедшего в стране – оно еще долго цеплялось за старорежимное, за уже умершее, принадлежащее прошлому, навсегда ушедшему, оно не сразу поверило – тысячелетнее господство церкви в России низложено, – иначе как объяснить логически не стыкуемое: «Декрет о земле» принят на II Всероссийском съезде Советов 26 октября (8 ноября по новому стилю) 1917 года и 28 октября опубликован в газете «Известия», 2 (15) ноября 1917 г. Совет народных комиссаров принял «Декларацию прав народов России» [298], в которой решительно заявлялось об отмене «всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений», а Поместный собор Православной российской церкви, как бы не обращая ни малейшего внимания на уже случившееся, 2 декабря 1917 года принимает на пленарном заседании доклад «О правовом положении Православной российской церкви»?!..
Ау, священнослужители, о каком правовом положении вы рассуждали на своем Соборе, если уже и «де-юре», и «де-факто» вы – вне правового поля?!..
Впрочем, меня лично даже не столь этот нюанс озадачил, но то с какой спесью, с каким высокомерием излагается позиция церковников – они не просят, не предлагают, не приглашают к совместному обсуждения, они – диктуют свои условия, свои требования, они предписывают желаемое для церкви. Ну, посудите сами:
«2. Православная Церковь в России в учении веры и нравственности, богослужении, внутренней церковной дисциплине и сношениях с другими автокефальными Церквами независима от государственной власти и, руководясь своими догматико-каноническими началами, пользуется в делах церковного законодательства, управления и суда правами самоопределения и самоуправления.
3. Постановления и узаконения, издаваемые для себя Православною Церковию в установленном ею порядке, со времени обнародования их церковною властью, равно и акты церковного управления и суда признаются Государством имеющими юридическую силу и значение.
4. Государственные законы, касающиеся Православной Церкви, издаются не иначе, как по соглашению с церковною властью.
5. Церковная иерархия и церковные установления признаются Государством в силе и значении, какие им приданы церковными постановлениями.
<…>
7. Глава Российского Государства, Министр Исповеданий и Министр Народного Просвещения и Товарищи их должны быть православными.
8. Во всех случаях государственной жизни, в которых государство обращается к религии, преимуществом пользуется Православная Церковь.
9. Православный календарь признается государственным календарем» [299].
Церковникам, когда они очутились вне правового поля, превратились во внутренних эмигрантов, существующих, фактически, на нелегальном положении, все еще мнилось, будто бы они, как и прежде, имеют полное право диктовать свои условия, устанавливать правила, помыкать христианствующей массой, вдалбливая всем и каждому, что «Вне Церкви нет спасения» и что только церковь – «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15).
Удивительно, но церковников не отрезвил даже принятый Советом Народных Комиссаров 20 января (2 февраля) 1918 года «Декрет о свободе совести и церковных и религиозных обществах», которым было определено:



