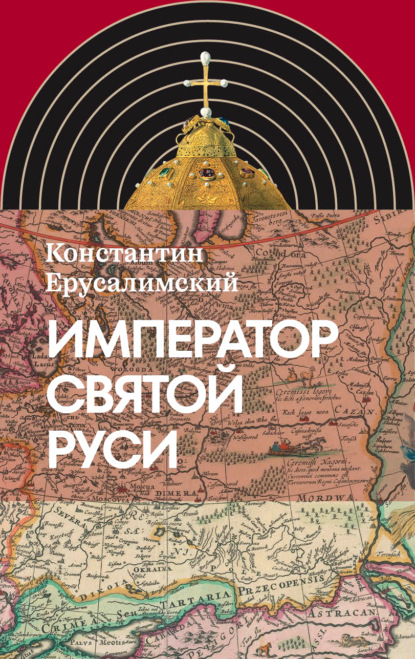
Полная версия:
Император Святой Руси
В конце концов, области умолчания требуют постоянного перемещения по дипломатическим формулам в их различных контекстах. Так, послы Ивана IV, прибыв в Вильно и проведя переговоры по наказу, услышали, что решение о выдаче сестры короля замуж в Москву может быть принято только при участии Коронного Сената («Панов Рад Коронных»). На это послы отвечают развернутой речью, в которой вновь звучит «весь народ от мала и до велика»:
А мы Бога просим, да и весь народ от мала и до велика того желают, чтоб Бог дал со господарем вашим доброе дело ссталося, а вам пригоже господарю своему на то радити, чтоб меж господарей совершенная любовь на покой христьянский на веки утвердилась294.
В данном высказывании сняты все экивоки. Контекст и употребление личного местоимения мы исключают возможность единого народа христианского: мы и весь народ – это послы и все подданные московского государя.
Обратимся теперь к примеру из посольской книги того же, польско-литовского, дипломатического направления, но 20 лет спустя, когда решался исход войн Москвы и Речи Посполитой за Ливонию. В грамоте Боярской думы к Панам радам от июня 1581 г., составленной накануне Псковского похода короля Стефана Батория, первые после протокола слова звучат:
Ведомо вам, братье нашей, да и всему народу хрестьянскому то не тайно…295
В следующих затем словах о мирных инициативах понятие народ раскрывается как обозначение христиан, населяющих Россию и Речь Посполитую, и заканчивается послание призывом к восстановлению мирных отношений «всему народу хрестьянскому к прибытку и к покою»296. В октябре 1581 г. царь планировал вывод своих войск, оружия и запасов из Ливонии. В посольском наказе предусмотрено, что не все московские люди сразу покинут ее территорию:
А что останетца в неметцких городех народу и запасов всяких, а со государскими людми чего не подоимут, то и после вывозить297.
В данном случае в народ обобщены не все люди вообще, населяющие ливонские замки, а именно подвластные царя Ивана IV, которые должны покинуть свои места не сразу, не в первую очередь298. Как можно видеть, и семантические поля, и области умолчания, и контекстные сдвиги значений народа в посольской документации 1560 и 1581 гг. совпадают, и можно было бы говорить об особой дискурсивной модели, в которой понятие народ бытовало в российско-польско-литовских дипломатических отношениях. Впрочем, эта модель не может быть изучена без сопоставления с ее польско-литовскими аналогами.
Как и можно было ожидать, христианский народ в московской посольской риторике раскладывался при необходимости на два христианских народа. Посланник Д. И. Истленьев в июне 1584 г. получил наказ прославлять венчанного на царство Федора Ивановича за его «милосердье… к народом к обоим крестьянским»299. Речь в данном случае идет не о политических народах Короны Польской и Великого княжества Литовского. Оба народа в данном случае обозначают православных и католиков. Однако узкий практический контекст позволяет и здесь избежать терминологических упрощений: милость царя касалась одиннадцати пленных, отпущенных после венчания Федора на царство, и среди них могли быть только представители именно этих двух конфессий.
Нигде в переговорном процессе между двумя русскими господарями – российским царем и великим князем литовским – мы не обнаружим в качестве подвластных той и другой стороны русский народ. Он не выступает ни как единый субъект, ни как разделенный. Выражение «на Москве» из наказа Канбарову 1570 г. обращено к другому устойчивому топониму, который к середине XVI в. вышел из делового употребления, – Русская земля.
Обратившись к категории Русской (или Руской) земли, попытаемся выявить особенности формирования «религиозного социального» в московской культуре XVI в. В связи с этим интерес представляют поздние рефлексы этого термина, бытование сказаний и повестей, мобилизационные дискурсы (воззвания, речи, видения и т. п.), бытование идеалов земли при посольском обмене с партнерами и особенно с ближайшими соседями. Вряд ли оправдан взгляд на посольский дискурс как на источник более точный по сравнению с летописями или индивидуальной рефлексией авторов уровня князя А. М. Курбского, Ивана Тимофеева или Сильвестра Медведева: в задачи посольского ведомства входило в равной мере прагматичное ведение дел, прибавление новых титулов и титульных определений к имени господаря и устранение из актуальных дискурсов оскорбительных и травматических форм при помощи войны, церемониальных споров и искусственно организованного забвения (damnatio memoriae)300.
В качестве носителя идеи (или идей) коллективной солидарности неоднократно изучался термин Русская земля. У него нет стабильных географических референтов. В домонгольский период его значения не охватывают все русские земли, а локализуются в зависимости от контекстов в ее центральных частях, близких к Киевскому княжеству Рюриковичей и Поднепровью. В наименьшей степени он характеризует территориальное этническое сообщество. Сравнивая бытование этнических («племенных») идентификаций с тем, как в русских летописях применяется термин Русская земля, можно было бы считать Русь состоявшейся христианской нацией, а ее народ – народом Русской земли301.
Карл-Фердинанд Вернер, Фриц Гешницер, Райнхарт Козеллек и Бернд Шёнеман, авторы монографического исследования «Народ, нация, национализм, масса», выполненного в рамках «Словаря основных исторических понятий» в конце XX в., приписывают основную роль в становлении христианских наций имперской и высшей церковной власти, добившихся легитимации нового национального языка благодаря объединению политико-этнических лексем Античности и библейской книжности:
«Если сначала император был единственным источником легитимации в вопросах ранга, подобающего тому или иному народу и властителю, то теперь на Западе эту функцию наряду с ним и даже вместо него стал исполнять римский епископ». И далее: «Папа сыграл важнейшую роль в обращении арианских народов (вестготов, лангобардов) и язычников (англосаксов, позже – хорватов, венгров, поляков) и легитимировал их ранг автономных христианских народов и королевств, последствия чего сохраняются до сегодняшнего дня»302.
Было бы логично продолжить данный ряд концепцией возникновения церковно-политической нации Русская земля благодаря утверждению христианизированной княжеской власти Рюриковичей из скандинавской руси среди местных этносов Восточной Европы и общей для региона исторической памяти, сформированной при активной поддержке православной церкви и епископального интеллектуализма. Однако Русская земля, даже учитывая множество ее упоминаний в источниках, не стала самоназванием государства и рамочным названием для русской нации. Вокруг этого термина вплоть до модерной эпохи не возникло интеллектуальных усилий по его заселению и обустройству, обживанию и превращению в предметную данность. Согласно авторам «Словаря основных исторических понятий», одна из причин выработки модерной концепции нации – в появлении институтов представительства, поскольку европейские парламенты, поддерживая разобщенность и самобытность низовых представительств, на уровне сеймов, рейхстагов, генеральных штатов, кортесов и т. д. брали на себя функцию выступать от лица наций и полноправно их воплощать перед монархами. В европейских государствах этот процесс – поздний, отчасти выходящий за хронологические рамки нашего исследования. В русских землях парламентско-представительные учреждения до конца XVI в. не возникли, но и в годы Смуты, а также после ее завершения не выступали перед властью от лица всей земли303.
В отличие от ряда других христианских наций в России не состоялся переход от не-модерных, в данном случае христианских, идентичностей к модерным. Точнее было бы говорить о том, что подобный переход произошел, но за пределами Российского государства, претендовавшего не меньше своих конкурентов на «Киевское наследство» (то есть и на то, чтобы быть Русской землей). В связи с этим необходимо очертить перемены, происходящие в историческом самосознании русских земель XV–XVII вв.
1) В качестве исходного наблюдения должно быть принято, что государства с самоназванием Русская земля к XV – началу XVI в. не существовало.
2) Невозможно выявить «этническую основу» в сообществах русских земель, где превращение в «своего» происходит независимо от «места рождения», «крови» и т. п. Русь не была населена народом русь, а этноним русские так и не стал сколько-нибудь весомым определением населения, охваченного церковно-политической нацией, именуемой Русская земля304.
3) Наименование Русская земля приобретает повсеместно в кириллической книжности – а также в латинских культурах – историческое значение. В Московском государстве отсылка к правам на Русскую землю с рубежа XV–XVI вв. имеет мобилизационный смысл, означая притязание великих князей московских на очищение своей будто бы исконной «господаревой отчины».
4) К XVI в. с приходом ряда новых самоназваний («Росїа», «Руское господарство» и др.) архаизм Русская земля теряет свои топографические очертания и одновременно наполняется семантикой богоспасаемой империи305.
5) Один из неизбывных парадоксов посольских исторических дискурсов: убеждение московских государей, что их власть распространяется не далее их «отчины» и не касается подлинных «отчин» их соседей, и в то же время – стремление править «всей вселенной» или «всей поднебесной»306.
Категории Русская земля и русаки встречаются в XVI в. не только в исторических текстах, но и в таком актуальном языке, как дипломатический. Датских послов Клауса Урне «со товарищи» в ходе московских переговоров в апреле 1559 г. переводят, упоминая под властью царя «русаков», а также датских купцов, приходящих «в Рускую землю» в том же значении – то есть в землю царя и его подданных «русаков»307. Интересно, что в царском ответе А. Ф. Адашев «со товарищи» отвечают о межгосударственной торговле следующим образом:
А его б люди королевские потому же наши господарьства к Москве и в ыные наши господарьства ездили торговати безвозбранно308.
Слово «русаки» в ходу в Посольском приказе и встречается в одном ряду со словом «немцы» не только в переводах, но и для «внутреннего пользования» в значении также бытующего в этих текстах выражения «русские люди»309.
Эпитет русский в посольском дискурсе имеет три несходные сферы значений.
1) Он маркирует претензию московских государей на «Киевское наследство», и в этом качестве его территориальный референт охватывает к 1560‑м гг. Поволжье вплоть до Каспийского моря, на юге и западе Киев, Волынь, Полоцк, Витебск и др.310
2) Он определяет сообщество православных христиан, в которое может вступить человек любого происхождения, приняв крещение. Наиболее прямолинейно эту мысль выражает Иван Грозный в полемике с римским посланником Антонио Поссевино. Он сравнивает «русскую веру» с «рымской» и уточняет наиболее спорный вопрос: «И мы веру держим истинную хрестьянскую, а не греческую»311.
3) Он относится к «нашему обычаю», «языку прямому московскому», и в этом смысле очерчивает круг «культурных» различий «своего» и «чужеземского»312.
Во всех этих коннотативных группах эпитет «русский» обозначал предмет притязаний, а не сложившуюся практику словоупотребления, признанную, например, Речью Посполитой, Константинопольским патриархатом и носителями других русских языков и других русских обычаев. Исконность русского как греческого и православного в Москве толковали как более древнее состояние, чем империи, в том числе (Святая) Римская. Рим не установлен Богом, а был империей, современной Воплощению Бога, и ход мысли псковского старца Филофея о переходе Римского царства не направлен на то, чтобы выстраивать оптимистический сценарий. Упоминание Рима в России начала XVI в. связано с образом ветхости в противовес исконности и извечности.
С одной стороны, Русская земля, как вселенская империя в вотчинном самосознании московских государей, признает равенство себе только двух современных империй – Рима Ветхого (Священной Римской империи) и Рима Нового (Османской империи). Ветхий, Новый и Последний Рим – это и одна перемещающаяся империя, и единство христианских учений, в первых двух случаях поверженных. Но в то же время это единство доказывает преходящий и временный характер, хрупкость любой империи. В текстах того времени учения о Третьем Риме, Новом Израиле и доктрина translatio imperii существуют параллельно, только изредка пересекаясь (причем доктрина «перенесения» Царства Ромейского на Русскую землю до конца XVII в. была в дискурсах приглушена)313. Посольский церемониал озвучивает их и обеспечивает им то единство, которое недостижимо, если читать только то, что написано в посольских книгах, исторических текстах, посланиях и чинах. Тексты служат лишь путеводителем по пространству кремлевской визуальной репрезентации, которое к середине XVI в. было насыщено имперской сотериологией и эсхатологией314.
С другой стороны, право московских государей XVI в. на «свои» земли имеет иное хронологическое измерение. В отличие от имперской доктрины государи на Руси правят больше 600 лет, они извечные господари:
Господарю нашему царское имя Бог дал от прародитель его, а не чюжое, а не от колких лет господари наши господарили – болши штисот лет. И что Бог дал господарем нашим, и то у господарей наших хто может отняти? А и папину послу Антонью Посевинусу то ведомо, что господаря нашего прародителей и его грамоты у папы и у цесаря с цесарским именованем есть. А коли господарь ваш не велел нашего господаря царем писати, и господарь наш для покою хрестьянского не велел себя царем писати. А которого извечного господаря, как его ни напиши, а ево господаря во всех землях ведают, какой он господарь!315
Восходя к истокам, искомый статус или право наделяется «искони вечной» неизменностью, постоянством и получает абсолютное оправдание тем, что существует «изначала», «от прародителей», «по прародителей обычаю», «по старине», «из давних лет», «за много лет»316. Исконность для христианского сознания прямо соотносится с понятием богоустановленного постоянства. Достаточно того, что евангельское чтение Пасхальной литургии в древнерусском апракосе начинается словом «искони» из Евангелия от Иоанна (Ин. 1:1)317.
Посольское представление о вечности государства обращено также в будущее:
Такожде, приехав, и царь Шигалей здравствует господарю: – Буди, господарь здрав, победив съпостаты и на своей вотчине на Казани в векы318.
Из этой дипломатической перспективы не вполне правомерна «пессимистическая» интерпретация слов Филофея о том, что четвертому Риму «не бывать». Допуская вслед за П. Ниче учительный подтекст этих слов и содержащийся в них призыв очиститься от грехов, мы тем не менее считаем, что оптимистическая интерпретация «Росии» как праведного христианского царства заложена в тех же самых словах, однако интенциям самого старца Филофея она, конечно, не отвечала. Соединение regnum (царства) и sacerdotium (священства) в той православной традиции, которая сформировалась к XVI в. в русских землях, было невозможно, поскольку царства (то есть империи) считались по своей природе тленными и преходящими, тогда как божественная природа духовной власти не подвергалась сомнению светской властью, а лишь присваивалась как право на свою землю. Сакральность права не вела вплоть до конца XVI в. к сакральности самой земли.
В канун утверждения патриаршества в Российском царстве в 1589 г. учение о России как Третьем Риме впервые звучит в официальной посольской документации как сугубо оптимистическое выражение доктрины наследования империи и церковного престола, а вскоре после этого в поздней редакции послания Филофея Василию III появляется в виде интерполяции образ Великой и Святой Росии. За идеей, по всей видимости, кроется практическое административное решение, вызванное стремлением московских властей переманить патриарха из Царьграда в Москву. Для этих целей и понадобилось поменять схему «наследования» царства диаметрально на 180 градусов и из эсхатологического поучения смастерить заманчивую картину цветущей исконной империи.
В 1625 г. патриарх всея Руси Филарет поручил князю Семену Ивановичу Харе Шаховскому составить послание шаху Аббасу. Письмо содержало ответ на присланный далеким персидским шахом-мусульманином дар (Ризу Господню). Шах искал поддержки Москвы и выражал в своем послании уважение к православию. В задачи князя Семена Ивановича входило не только создать противовес иезуитской миссии в Исфахане, но и кратко изложить основы православия, что могло бы склонить шаха к крещению. Это нетипичная ситуация, однако и само сочинение Шаховского содержит только те представления, которые могли пройти цензуру высшего главы московского православия. В иных контекстах христианско-мусульманской переписки в Москве прекрасно понимали, что в прагматичной дипломатии необходимо исходить из невозможности прямо апеллировать к православной и раннехристианской традиции. Посольская документация служит ценным источником, чтобы проверить, как идентичности, и среди них такая, как «народ», меняли свои значения и даже формы в зависимости от внешней направленности посольского дела и малых контекстов практической переговорной практики.
К 1620‑м гг., когда в Москве неоднократно прозвучали высказывания о Святорусской земле, Святая Русь мыслилась близкими к посольскому ведомству интеллектуалами как одновременно Третий Рим или Второй Рим (то есть буквально – Новый Царьград) и как Новый Израиль. В послании от лица патриарха Филарета Никитича шаху Аббасу, составленном в начале 1625 г. князем С. И. Шаховским, Москва названа
Великопрестольнейшим словенскаго языка Новым Израилем, Вторым Римом… прекрасно цветущим… градом Москвой319.
Формула обновления Израиля и Рима была к тому времени принята и допустима на межгосударственном уровне в переписке с нехристианским государством – впрочем, в христианском контексте, поскольку царь и патриарх выступили этим письмом против иезуитов в Персии и выражали надежду на обращение шаха в православие. Его в духе той же этикетной традиции призывают стать «вторым Владимиром» и «древним Константином». Это приравнивает Израиль и Второй Рим еще и к Киеву. Наряду с великими христианскими правителями прошлого в послании упоминается их народ:
Приими веру, ея же благоверный великий князь Владимер многими снисканями изыскав и возлюби паче всех вер и приат от Карсунскаго епископа святое крещение в купели во имя Отца и Сына и Святого Духа в три погружения… и крести неисчитаемыя тьмы народа!320
Как установил Э. Л. Кинан, этот отрывок близко цитирует обращение патриарха Гермогена к королевичу Владиславу Вазе в послании, в котором московский патриарх призывал польского наследника принять православие и спасти Московское царство. В начале XVII в. подобные представления стали стереотипными. Православное царство символически наследовало Святой земле и сакральному царству, а населено было принявшими при Владимире Великом в Киеве «неисчитаемыми тьмами народа».
Христианский народ выступает и в риторике Короны Польской и Великого княжества Литовского321. Вместе с тем прямые параллели с московскими церемониальными сообществами не должны дезориентировать. В отличие от московских преломлений единого христианского кругозора польско-литовский взгляд предполагает существование христианского народа не в качестве реального, здесь и сейчас данного, сообщества или временной общности, а лишь в узких контекстах, когда проводится сравнение прав местных христиан и нехристиан, особенно татар и евреев.
Уже в XV в. в источниках польского и литовского происхождения встречается понятие народ в значении правоспособные люди, представители знати. Киевский князь Олелько Владимирович в феврале 1441 г. объявил в грамоте митрополиту Исидору о неприкосновенности митрополичьих имений и дарах, которые
великие господья бояре и боярыни, и все именитые народы… давали… у поминок себе и за спасение своей души и своему роду всему322.
В политическом тезаурусе Речи Посполитой XVI в. были допустимы и приемлемы как выражение русские народы («narody ruskie»), так и образованная по той же модели формулировка московские народы («moskiewskie narody»). Оба примера встречаются в хронике Мацея Стрыйковского323. Показательно множественное число, охватывающее под этническими маркерами неоднородные группы. В посольской практике Речи Посполитой московскими народами считались не только христиане, но и, например, московские орды («ordy moskiewskie») – подвластные Московскому государству мусульмане324.
Благодаря элекционной практике в Речи Посполитой 1570‑х гг. утвердилось представление о вольных народах, избирающих короля Короны Польской и Великого княжества Литовского. В Москву тогда же были завезены многочисленные образцы новой риторики соседей. Посольство Станислава Крыйского вело в январе 1578 г. переговоры с Никитой Романовичем Юрьевым и другими боярами Ивана IV. Рассказывая об избрании Стефана Батория, послы неоднократно возвращались к решению «народу волного Короны Полское и Великого княжства Литовского» и называли выбор короля волеизъявлением, основанным на правах, вольностях и обычае свободных народов («водлуг прав, волностей и звычею тых волных народов»)325.
Один из этих свободных народов Речи Посполитой – русские (руськие)326. Формулировка русский православный народ использовалась в религиозной полемике XV в. Виленский съезд 1451 г. признал митрополитом киевским и всея Руси московского иерарха Иону и призвал «весь посполитый народ христианьства рускаго» признать его. Как отметила Е. В. Русина, среди подписавших воззвание не было православных епископов. Когда чаша весов в политике качнулась в сторону Рима, та же паства была воссоздана под управлением папского ставленника униата Григория Болгарина, что привело к расколу московского и литовского православия в 1460 г.327 Риторика унии в изученном украинской исследовательницей послании киевского митрополита Мисаила и русской элиты Великого княжества Литовского папе Сиксту IV сочеталась с полным убеждением, что сторонники Флорентийского соглашения – российские словяне и истиннии христьяне328.
Униаты Брестского договора отстаивали сходный тезис, опираясь на доктрину народного единства, общей крови, общей памяти всех русских (не всегда отличая их от московитов). Православные Речи Посполитой не уступали униатам. Львовское братство в конце XVI в. маркировало себя российской и росской терминологией, не имевшей тогда промосковских коннотаций:
Мы все вместе один за одного народ росский религии греческой
[Мы все веспол еден за едного народ росский релеи кгрецкое]329.
Категория народы в латинизированной правовой традиции означает этнополитические сообщества, обладающие в рамках республики языковой спецификой, территориальным суверенитетом, правом представительства на сейме. Они образуют в Речи Посполитой объединенный народ, состоящий из двух народов, о чем и говорится в документах Люблинской унии и в завещании короля Сигизмунда II Августа330.
В Российском царстве «русский народ» появляется в дискурсе лишь в пересказах посланий патриарха всея Руси Гермогена конца 1610–1611 гг., и достоверность этих грамот вызывает у исследователей вопросы331.
Как отметил К. Гжибовский, ведущим термином, обозначающим публичное целое в польской правовой традиции с XV в. стал populus, включающий «и шляхту, и нешляхту, высших и низших», притом что для различения высших и низших сословий действовали иные понятия – plebs и communitas; общей для Речи Посполитой правовой тенденцией второй половины XVI в. было усиление социально-политической основы понятия populus за счет исключения из его семантического поля нешляхтичей и неправоспособных332. Генезис нации по магистрали дискурсов «шляхетской демократии» и «благородной нации», изученный многими историками культуры, вызвал критику Д. Альтена, который доказывает, что сама данная магистраль является изобретением историографии XIX в. и новейшего времени, неизвестного источникам XV–XVIII вв.333 Торпедировал доктрину «благородной нации» и мессианский национализм, озвученный в Центральной Европе, например, Иеронимом Пражским в троичной формуле sanguis, lingua, fides (то есть кровь, язык, вера). Единство чешского народа по вере, крови и языку дополнялось в речах мастера Иеронима убеждением в спасительной богоизбранности, чистоте и святости чешского общества («sacrosancta communitas Boemica»), а в проповедях Якубека из Стржибра к «чешскому народу»334. Ранний реформационный национализм был слабо распространен, а влияние этого или подобных ему учений на русские земли Речи Посполитой и Российского государства не могло быть сколько-нибудь значительным. Вряд ли в посольских текстах или в московских повестях XVII в. где-то отражена идея «крови, языка и веры», хотя бы как в устах героев «Дон Кихота», которые одобрительно отзываются о себе и своих родителях, что они чистокровные христиане. Было бы преувеличением за идентичностями церемониальных источников не видеть в московских памятниках классических библейских и античных понятийных реалий. Но было бы не меньшим преувеличением, и вместе с тем не меньшей ошибкой, автоматически переносить понятийные реалии на воображаемые и материальные географические карты.



