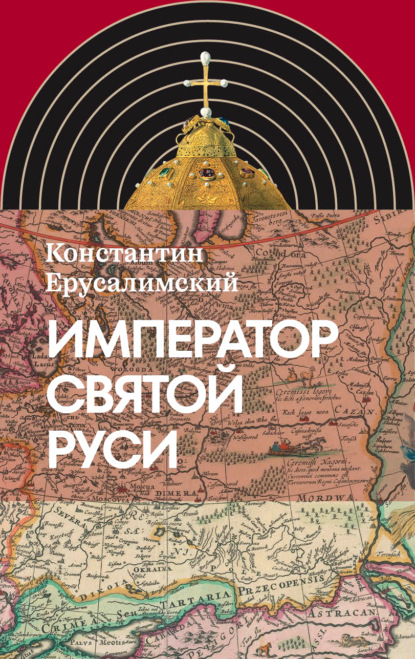
Полная версия:
Император Святой Руси
Понятие народ, иногда встречающееся в московских текстах данного периода (в первых десятилетиях XVII в. – К. Е.), не используется в значении «нация» или «этнокультурное сообщество», как на Украине и в Беларуси того же времени, но значит только «множество людей». Существительные, которыми пользовались московиты для обращения к своим соотечественникам, обычно носили характер не этнонациональный (этноним русь редко применялся в этом значении), а политический (москвич) или религиозный («православные», «христиане»)265.
Категория «православных» в годы Смуты сузилась, тогда как образ «изменников» получил многостороннее развитие. Открыт был феномен изменников-коллаборантов и «русских» изменников-воров. Однако гибкость понятия «народ» заключалась все так же в том, что его границы пульсировали в диапазоне от городского сообщества до всего православного христианства. Так что, несмотря на временное торжество в стране «измены», летописцы не мыслили кризис страны как кризис идентичности. Церемония встречи мощей царевича Дмитрия, состоявшаяся в 1606 г., описана тем же языком, что и многочисленные процессии XV – первой половины XVI в.:
И егда бысть (нетленный царевич Дмитрий. – К. Е.) близ града Москвы, всрете ево сам царь Василей и с патриярхом, и со всеми властьми, и з боляры, и со всем народом Московского государства со умилением и со слезами, и с рыданием266.
Церемониальный подтекст, почерпнутый из практик народных шествий XIV–XVI вв., не приняли многие города «Московского государства». Идеологема всего народа призвана была снять недоверие к новой власти и добавить легитимности царю и патриарху. Церемония имела обратный эффект. Навязчивое внушение, что царевич мертв, а убитый царь Дмитрий Иванович – самозванец, вызывало еще большее недоверие. Как следствие – «ноипаче городы начаша изменяти»267. Народная общность мыслилась все еще в рамках прежней церемониальной доктрины. Отпадение от процессии вело к измене. На горизонте мысли возникла перспектива коллективной и всенародной измены, и язык церемониального единства повлек за собой новые практики демонизации.
Эти практики воплотились в повестях Ивана Тимофеева и Авраамия Палицына. Допустить крушение всего государства было нетрудно и авторам предшествующих столетий. Однако новацией в названных повестях оказывается «включенное наблюдение», взгляд изнутри «нас», потерявших Божью милость и наказанных за свое неразумие. Для Тимофеева и Палицына в равной мере преодоление Смуты представляется возможным только по Божьей милости. Ни христианского народа, ни Святой Руси оба автора в войнах Смуты не прослеживают, а пастыри, лишенные своей паствы, лжецари и нелегитимные (не прирожденные) цари лишают города и чины самой возможности объединения, обрекая Московское государство на измену, нашествие иноверцев и разрушение православия. К 1610 г. идеалу народного пасторства противостоит совещательное действие «всей землей» и ритуальное воссоединение без религиозной основы. Этот идеал находит параллель не только в польско-литовском политическом устройстве, но и в отмечавшемся выше в нашей работе «народном избрании царя», запечатленном в Лицевом своде Ивана Грозного.
Риторическая общность вокруг умершего полководца возникает в «Писании о преставлении и погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, рекомаго Скопина» (ок. лета–осени 1612 г.). Здесь ощущение массовости возникает не только за счет упоминания женщин с детьми и перечисления военных чинов, но и благодаря цитате из Псалтири юноши и девушки, старцы и юнцы. Этот эмоциональный кадр усилен за счет сцены плача всех собравшихся. Они оплакивают смерть их заступника и сравнивают себя со скотами бессловесными, овцами, не имеющими «пастыря крѣпкаго»:
И тогда убо стекаются ко двору его множество войска, дружины и подручия его хоробраго, и множества народа, по писанному: юноша с дѣвы и старцы со юнотами, – и матери со младенцы, и всяк возраст человѣчь, – со слезами и с великим рыданием. От войска же его и дружины хоробрыя князя Михаила Васильевича ближние его подручники, воеводы и дворяне, и дѣти боярские, и сотники, и атаманы прихождаху во двор его, и ко одру его припадая со слезами, и со многим воплем и стонанием268.
Плачущих поддерживает Якоб Делагарди («Яков Пунтусов»), обращаясь к народам московским от лица своей Немецкой земли и шведского короля с похвалой в адрес умершего воеводы, своего соратника. Следом князя Михаила Скопина-Шуйского оплакивает освященный собор со множеством народа («и не бѣ мѣста вмѣститися от народнаго множества») и воеводе делают огромный каменный гроб, который вписывается в картину всенародного горевания, затем еще усиленную за счет всенародного плача и рыданий («кричания и вопля тяшка гласа»)269. Плачет не только «Русские земли народ», но «и всему миру плакати, но и иноземцем, и немецким людем», – вновь и вновь к московским людям обращается Якоб Делагарди. Царь Василий Иванович оплакивает юного воеводу на погребении и после него, вернувшись «в полату свою»270. Продолжая сравнение с «летописным народом», можно заметить, что в состав «народа» церемоний иноземцы не входят ни в XIV–XV вв., ни в обильном на коллективные репрезентации XVI в.
Царь, согласно «Писанию», участвует во всенародном трауре, но не является его центром, на скорби царя сосредоточено внимание, чтобы показать его искренность и непричастность к гибели заступника. Коллективная воля не возглавлена здесь ни первоиерархом, ни царем. Они не возглавляют процессию и не воплощают ее, но причастны к народному множеству наряду с другими. Никто не в силах удержать царство, но прямо сказать это автор «плача» не может, не имеет права обвинять царя, который вне подозрений, но бессилен спасти свою власть. «Писание» заканчивается притчей-видением анонимного москвича, который в ночь того пира, на котором князь Михаил Васильевич был отравлен (8 апреля 1610 г.), будто бы видел, проходя между Успенским и Архангельским соборами, как столп за столпом валятся царские палаты. Апокалиптическая сцена предвещает падение Шуйских271.
По мысли Авраамия Палицына, только общее стояние «всей земли» против защитников Кремля Миколая Струся и Федора Андронова, поляков, немцев, «латин», «люторов» и «хрестоненавистных руских изменников» позволило отвоевать Москву в октябре 1612 г. Когда Кремль сдался, в воскресный день сошлись архимандриты, игумены, весь освященный чин, все христолюбивое воинство и все множество православных христиан, первые ополченцы князя Д. Т. Трубецкого в церковь Казанской Богородицы «за Покровскими вороты», вторые ополченцы князя Д. М. Пожарского в церковь Иоанна Милостивого на Арбате:
И вземше честныя кресты и чюдотворныя иконы, поидошя во град Китай, койждо своими враты, последующим им всему множеству воиньства и всем народом Московского государьства, благодарственыя и победныя песни Господеви воздааху. И сшедшеся вси вкупе на место Лобное, молебнаа совершающе, в них же бысть первый троицкой архимарит Деонисей272.
К процессии на Лобном месте присоединился Арсений Элассонский, во главе освященного собора вынесший икону Владимирской Богоматери, Честные Кресты и прочие иконы. Перед иконой Богоматери бояре, воеводы «и все воиньство, и вси православнии христиане» припали в слезах, лобызали образ и прославляли Богородицу, умолившую Христа об освобождении града и всех людей «от работы» (речь в «Сказании» Авраамия передана как общий вопль перед иконой). Войдя после общего молебна в Кремль, участники процессии узрели чудовищные сцены разрухи, повсюду мертвые тела. Авраамий сравнивает увиденное с осквернением Иерусалима иудейскими царями-идолопоклонниками и его храма Воскресения – сарацинами («но никако же отступи от него Господня благодать»)273. Кульминация процессии – вход в Успенский собор, где была проведена литургия, после чего все разошлись восвояси. Авраамий неоднократно проговаривает все части и чины процессии, как если бы ему было важно ни о ком не забыть. Сакральная общность возникает из разобщенных людей и лагерей ополченцев, духовных лиц, бояр и воевод и всего православного народа. Как и в византийских хрониках и в российских ритуальных шествиях конца XVI – начала XVII в., в этот миг важным было единение уже не с одним православным народом, но и с небесным воинством, прототип которого был изображен на иконе «Благословенно воинство Небесного Царя», а заступничество Богородицы перед Христом – на иконе «Богородица Моление о народе».
В правление Михаила Романова общая православная семантика «народа» в полной мере сохранялась. М. В. Дмитриев отмечает, что в «Летописной книге» (так называемой Повести князя И. М. Катырева-Ростовского, ок. 1626) идея русского и православного едина. Здесь «народи московстии» и «весь народ» все так же сходятся в толпы и расходятся по домам, а «русские люди» меняются местами и «народами». Идея русского неотъемлема от православной процессии. По мысли исследователя, подобное представление о народе прочитывается и у православных иерархов Речи Посполитой, где этнический язык имел обширное бытование. Например – в упоминаниях «старой Руси», «православных» и «народа руского» в сочинениях митрополита Сильвестра Косова274. Выбранный М. В. Дмитриевым для сравнения российский источник своей структурой и риторическими ориентирами, как показали А. С. Орлов и И. Ю. Серова, близок к «Троянской истории» («Истории разрушения Трои») Гвидо де Колумна. Этнический язык навеян в повести аналогиями сражений ахейцев с троянцами. При этом парадоксально, что образец для описания событий Смуты в повести далек от православия275.
На фоне «смут» и «шатаний» в церковных верхах во время реформ середины XVII в. зазвучали тревожные ноты в оценках народа со стороны духовных властей. Так, пятилетнее отсутствие патриарха Никона на престоле вызвало озабоченность комиссии по его низложению: «…и от того ныне в народе многое размышление и соблазн, а в иных местех и расколы»276. Понятие «размышление» здесь семантически сближается с разностью мышления, разномыслием. Это несомненные пороки, как и еще более опасные «соблазн» и «раскол», и церковь взывала к восстановлению действующего патриаршества, без которого единству народа грозили несчастья. Ибо, как мы уже видели выше, по словам греческих патриархов и их русских переводчиков, «царь есть твердь народов»277.
Сильвестр Медведев в «Созерцании кратком» так характеризует участие народа в венчании на царство Ивана и Петра Алексеевичей 25 июня 1682 г.:
В то время идоша Царскаго Величества бояря, околничие и думные люди, и весь сигклит, и многое множество служилых и всех чинов людей, и несоша на Их царское венчание всякое лепотственное царскому величеству достойное украшение в соборную церковь дражайшим вещем. Им же благочестивейшим Государем Царем по совершении божественнаго священнослужения весь народ, вси людие весело возгласиша: «Многая лета Царем нашим!», – и паки: «Да живут благочестивейшии Царие и православнии в божественной благодати во веки мирно и счастливо!», – и радующеся, людие в той день благодариша Господа Бога, величаша же и пренепорочную Богоматерь Деву Марию, восхваляюще и всех святых Божиих угодников278.
Венчание происходит в кремлевском храме Успения. Чин венчания и литургию ведет патриарх Иоаким, о чем С. Медведев пишет выше, подчеркивая полную легитимность церемонии. Впрочем, «народ» собирается и без участия церковного главы. В том же году 17 сентября приговор князю Ивану Хованскому и его сыну князю Андрею зачитывался в селе Воздвиженском «при всем царском сигклите и при всем тамо народе на площеди»279. Церемониальный народ, руководимый церковным иерархом, сохраняет свое исконное значение в конце XVII в. Соучастие этой общности в светских церемониях требуется как легитимация политических деяний всеобщим признанием. Отметим и отличие от библейско-летописного восприятия народных масс. Слова «весь народ, вси людие» в «Созерцании кратком» не содержат привычных для московского летописания иерархических подтекстов и занимает место не в перечислении чинов, где собирательной конструкцией служат слова и всех чинов людей, а в самой гуще событий во время аккламации в контексте, где полностью сняты различия между чинами. «Царское величество» у Медведева имеет два значения. Одно – непосредственно монарх, его телесное воплощение (Царское Величество). Другое – его суверенитет, маестат (царское величество). Подобно различию между сувереном и суверенитетом, коллективное тело делится на народ как таковой, как единство всех подданных царского величества, и народ как единство телесно и церемониально явленных чинов во всем множестве и иерархическом разнообразии подданных Царского Величества.
Царь вплоть эпохи Петра I – такой же участник церемоний, как и другие верные, он несет наказания, раскаивается, уничижается перед Господом. Царь Петр Алексеевич обратится к своим воинам под Полтавой (27 июня 1709 г.), призывая их сражаться не за себя, не за царя Петра, а за весь «народ всероссийский». Этот образ предполагает сплочение не в церковной фазе, а скорее отложенный политический патриотизм, в котором особа царя отделяется фигурой смирения и таким образом сливается со всем народом280.
Распространение униатства в Речи Посполитой и реформы патриарха Филарета привели к «очищению» официального православия идей от идей, сближающих польско-литовских христиан с московскими. Мишенью измены и изменников были суверен и его подданные, даже если легитимность правящего суверена вызывала сомнения. Категория изменника, который совершает преступление против народа, обособилась в России Петра I под воздействием киево-могилянских и казаческих идеалов. Концепт народа и связанные с ним родственные европейской интеллектуальной традиции категории получили распространение в России благодаря Никонианской реформе московского православия и включению киевского богословия в круг источников реформы. В «Синопсисе» (начало 1670‑х гг.) воплотилась идея «славенороссийского народа», объединявшая московское и рутенское население281. Эту идею накануне Полтавской битвы эксплуатировал царь Петр Алексеевич, обращаясь к населению Малой России с призывом поддержать его против гетмана Мазепы и Карла XII. Мазепа определяется им как «изменник и предатель своего народа»282. Позднее царь перенесет усилия еще и на борьбу с мировыми тиранами283.
Памфлет против «верховников» из собрания А. П. Волынского служит одним из самых ранних источников, в которых российский («наш») народ выступает в республиканском контексте, причем как потенциальный противник задуманных преобразований, ведущих к падению неограниченной монархии:
Понеже народ наш наполнен трусостью и похабством, для того, оставя общую пользу, всяк будет трусить и манить главным персонам для бездельных своих интересов или страха ради284.
Отсутствие поддержки со стороны народа означало для анонимных авторов, что замысел конца января – 25 февраля 1730 г. грозит тиранией немногих вместо самодержавия одной персоны. Сходных взглядов придерживался Феофан Прокопович, обвиняя в своем «Изъяснении» того же времени заговорщиков в том, что они свои частные корыстные и тиранические интересы объявляли народным требованием, которое Феофан и связывал с республиканским политическим устройством.
Русская земля: привитие этничности
Когда в начале 1570 г. в Москву прибыло объединенное посольство двух представительств воссоединившейся накануне Республики Обоих Народов, понятие «ляхи» звучало для местных жителей далеко от этногеографического кругозора, дополняя образ врага одной из его частных форм. В употреблении Посольского приказа под «ляхом» понимался не носитель этнической идентичности как таковой. Это не был поляк. Разница между ляхами и литвинами была только в том, что первые представляли Сигизмунда II Августа как короля Короны Польской, а вторые – его же как великого князя литовского. На объединительном Люблинском сейме 1569 г. в состав Короны Польской вошли отрезанные от Великого княжества Литовского «русские земли» Киевского, Брацлавского и Волынского воеводств и Подляшье. Для московских хозяев никакого значения «русское» или «нерусское» происхождение приехавших ляхов не имело. Когда на территории Московского государства начались столкновения с послами, доходило до взаимного рукоприкладства и чудовищных сцен между официальными представителями двух государей. Они запомнились надолго. Первым же московским послам, отправившимся во главе с князем И. М. Канбаровым вслед за выбравшимся из России польско-литовским посольством, было наказано рассказывать королю о выходках этих ляхов:
Что господарь ваш прислал ко господарю нашему обоих послов, лятцких и литовских, а ляхи на Москве ведомы и преж сего. И они приехали гордым обычаем на рубеж к Смоленску, наложили дорогу новую, а не тою дорогою шли, которою дорогою прежние послы к Смоленску хаживали. А дорогою едучи, грабили и крестьянству насилство чинили, а в Вязме кормы грабили… И они приехали кабы в безгосподарьную землю непригожим делом, а приехавши, к царьского величества к царьству на Москву… встречников обезчестили. А дворяне королевские и посолские и дворянские послужники царьского величества дворян з дороги збили, а иных и плетми по шапкам били. И поехали в город, а перед собою едучи, велели трубити. И кабы после некоторого побою. И трубили и до своего подворя. А приехав на подворе, приказали к бояром, что им ссести у столбов. А не у столбов – ино им воротитца назад. И мы у господаря своего на дворе столбов не ведаем, что столбы. А нечто те столбы, которые не знают. А опосле того учали многие воровства чинити на дворех, на которых их поставили285.
Читая этот текст, можно представить себе не посольство, а хулиганствующий сброд, во всем нарушающий принятые обычаи. Вряд ли от опытного взгляда ускользнуло бы это «а ляхи на Москве ведомы и преж сего». Поведение ляха никак не зависит от национального и регионального состава посольской делегации. Царская дипломатия принялась доказывать Речи Посполитой, что Москва не признает никаких новшеств и не видит отличий между «прежними ляхами» и «нынешними». Приехавшая в Москву делегация – неугодное и нелегитимное представительство Короны Польской, неведомый посольский контрагент, с которым в Москве не должны были и не собирались иметь дело. Посольство объединенной Речи Посполитой выросло в два раза и представлено в посольской книге огромной толпой, шествующей к Москве и громящей все на своем пути. Виновниками объявлены не привычные литвины, а именно чуждые и враждебные московским жителям, в представлении Посольского приказа, гордые и надменные ляхи. Их приезд «на Москву» нарушал издревле заведенный порядок, и эти баламуты-иноверцы воплощали свою неуместность в самих только чинимых ими и подстроенных им драках и скандалах.
Общность и культурные сходства с Короной Польской и Великим княжеством Литовским посольские служащие ретушировали, поскольку тот «народ», который в Москве считали или могли считать «нашим», населял не только Московское государство, но и значительную часть владений Ягеллонов. Общехристианская риторика и далее продолжала звучать во время переговоров, подчеркивая как возможность вернуться к мирной дипломатии, так и недостижимость идеала. Примером могут служить призывы «ко всему добру христианскому» после смерти царицы Анастасии Романовны, сопровождавшие переговоры с Краковом во время сватовства царя к одной из сестер Сигизмунда II Августа. Примеры предыдущих межгосударственных браков, начиная с XIV в., подкреплялись в посольских речах риторикой объединения «на прочный покой христианский» и прекращения пролития «крови христианские». Ни о какой унии при этом речь не шла, однако в посольской документации появляется такое необычное в иных контекстах явление, как «народ христианский», который, по всей видимости, состоит из всех христиан или, по меньшей мере, из православных и католиков. Посольские книги фиксируют ряд определений, которые в своей основе сводятся к понятию «христианин»:
…а лихие б люди на убыток христианом и на роздор тому делу которые вражды не учинили286;
…припоминаючи прежние дела, за которыми меж нас никоторому доброму согласию на избаву христианом быти нелзе, занеже и преже того меж отцов наших и нас во много лет за такими причинами первых дел доброе дело сстатись не могло ж, толко на болшое кровопролитье христианству воздвиглося287;
…а на прочный покой христианский господарь наш и кровного связанья похотел288;
…а мы Бога просим, да и весь народ от мала и до велика того желают, чтоб Бог дал с господарем вашим доброе дело ссталось, занже и преже сех времян господарем нашим кровные связанья бывали, и добрых дел на обе стороны делывалося много289.
Неожиданные импликации открываются в этом круге понятий, из которых вился причудливый дискурс московских имперских идентичностей. Христианский мир понимался как единый, но допускалось, что он подвержен раздорам. Значит ли это, что и самого единства нет, – так и остается в области умолчаний. Связать это единство может матримониальное родство между Ягеллонами, но значит ли это, что мир, основанный на общехристианской солидарности и кровном единстве правящих родов, действительно объединит христианство? Это также остается в области умолчаний. Можно ли считать, что посредством брака и мира воссоединятся два христианских народа? Такое предположение было бы слишком смелым, поскольку прямой текстуальной корреляции между «христианским народом» и «христианами» посольского наказа нет. «Народ» так и остается дипломатической фикцией, ограниченной значимыми умолчаниями, которые лишают нас возможности перенести этот «народ» на иные, например летописные и визуальные, языки идентичности, без которых само понимание посольского «христианского народа» невозможно290.
Впрочем, мы вправе задаться вопросом, совпадает ли подразумеваемый народ с этническими или политическими контурами на картах второй половины XVI в. Можно сказать определенно, что посольская фикция не является ни русским, ни имперским российским народом. Нет в нем и церемониальной составляющей, которую мы изучали выше на примере летописных образов, житий, литературных повестей и чинов венчания. Церемоний, в которых посольский народ мог бы быть визуализирован, к 1560 г. не существовало, если только речь не идет о посольском эскорте. В последнем случае немыслимо объединение в одной «толпе» или любом ином единстве посольства и подданных встречающего государства. Конечно, сохранялась возможность общей молитвы в храме. Такая молитва была возможна только у единоверцев, и это также помещает в область умолчаний перспективу церемониального единства всех христиан. Для православных возможность отождествления с единым «христианским народом» была в этом смысле исключена.
В отчете посольства Федора Сукина содержится такой эпизод. Послы просят дать им возможность посмотреть на королевну Катерину (Ягеллонку). Им разрешено прийти к костелу до того, как туда придут Сигизмунд II Август с королевой. В сам храм им входить даже не предложено, однако и стоять напротив католического храма перед службой для московских представителей казалось сомнительной привилегией. В итоге послам было велено стоять «в оружейничей избе против дверей у костела», а король обязался в тот момент, когда процессия будет проходить перед укрытыми послами, «людей порозослати, что вам было королевны гораздо видети, а с собою б есте людей не много имали»291. Так все и случилось – королевна в момент замешательства короля у входа в костел, по словам послов, «на нашу избу смотрила; а того, господарь, не ведаем, ведала ли будет нас, или не ведала»292. Разумеется, рассказывая о своих приключениях, послы были далеки от того, чтобы представлять себя частью «народа христианского» в толпе католиков. Наоборот, подчеркивалось замешательство перед перспективой присоединиться к этой толпе, за ней можно было наблюдать только из укрытия.
Идея кровного единства народа в посольской документации заявлена, но не похожа на идею единокровного происхождения народа, которую мы обнаружим в начале XVII в. в «Перестроге» и сочинениях Мелетия Смотрицкого в русских землях Речи Посполитой, а во второй половине XVII в. – уже и в латинской посольской речи царевича Алексея Алексеевича. Кровь в посольском узусе не объединяет никакие народы или народ, она соединяется только в браке двух христиан, скрепляющих единство, причем идея оказывается обратной по сравнению с кровной доктриной – кровь изначально никого не объединяет, а именно объединяется благодаря браку. Посольский дискурс середины XVI в. далек и от современных ему разработок в области кровообращения, которые усвоил и принял для своей доктрины в эмиграции князь Андрей Курбский293.
Формула «народ от мала и до велика» в миссии 1560 г. – это все подвластные Ивану IV и Сигизмунду II Августу. Вряд ли за этой формулой откроются церемониальные или богословские реминисценции. Скорее речь должна идти о подвластных христианах, о политических общностях, которые состоят из христиан. Такое понимание народа в отношениях между Москвой и Краковом (а затем Варшавой) могло быть обращено и на войну. Захватив поволжские орды, московская дипломатия добивалась прав на царский титул со ссылкой на свои крестоносные успехи, однако аргумент от царского статуса поволжских ханств вызвал ироничный и твердый ответ со стороны польско-литовской дипломатии: великий князь московский, став царем казанским и астраханским, не может считаться христианским царем, а следовательно, не может претендовать и на христианский имперский титул. В этой ритуальной полемике христианский народ уже не имел значения, тем более что у Москвы не было возможности сослаться на весь народ Казани и Астрахани: в отношениях с Ягеллонами и их преемниками на тронах Короны Польской и Великого княжества Литовского московские цари отказывались признавать, что в состав их подвластного народа входят мусульмане.



