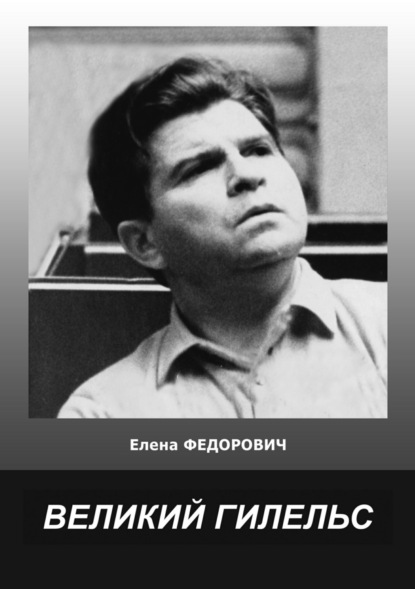 Полная версия
Полная версияВеликий Гилельс
То, что отсутствие музыкального окружения в семье отнюдь не исключает формирования великого музыканта, доказывать не нужно, и Г.Б. Гордон уже ответил на сомнительную постановку этого вопроса в отношении Гилельса. Но не могу не продолжить, цитируя С.М. Хентову. Указывая на недостаток его общей культуры в юности, она пишет: «И все же до конца дней в нем было что-то от скромного одесского мальчика из бедной еврейской семьи, больше слушавшего, чем говорившего».
Итак, вывод: человек, который скромен и больше слушает, чем говорит, делает это в силу своей ограниченности. Нечего ему сказать, вот и молчит. Только интересно – а откуда он находил, что сказать сотням тысяч слушателей в своем искусстве – ведь для того, чтобы тебя слушали, нужно, как указывал еще Г.Г. Нейгауз, «…прежде всего иметь, что сказать»108! И средствами искусства сказать это гораздо сложнее, чем словами, чего доктор искусствоведения С.М. Хентова не могла не знать. Гилельса слушали, да еще как, а записи слушают и сейчас, спустя более двадцати лет после его смерти, и будут слушать столько, сколько люди вообще станут ценить высокое искусство.
Свойство же слушать больше, чем говорить, так же, как и скромность, – свидетельства прежде всего сильного ума и широкого кругозора. Невежда не слушает других, он говорит сам, его ограниченность не позволяет усомниться в собственном величии. А вот человек, много добившийся в жизни, обладавший с юности весомыми титулами и при этом сохранивший скромность, слушающий других больше, чем говорящий сам, – это человек не только редкостного ума, но и имеющий огромный кругозор, понимающий относительность своих достижений, возможность всегда постигнуть еще больше.
Буквально в следующем абзаце читаем: «Он считал, что все, чего добился – славы, материального благополучия – ему дала советская власть». Этот тезис С.М. Хентова далее опровергает сама, рассказывая, как грабила пианиста именно советская власть, отбирая львиную долю гонораров и оставляя его фактически без всего. Что же, по ее мнению, сам он этого не понимал? Не умел считать, не знал, какие гонорары получают музыканты вдесятеро меньшей величины, чем он, на Западе? Нет, он общался с коллегами, свободно владея немецким языком, и считать в пределах заработка наверняка умел. Другое дело, что деньги для него значили мало, гораздо меньше, чем его понятие о порядочности и верности своей стране, своей Родине, какая бы в ней ни была власть. Редчайшее свойство, характеризующее этого человека как кристального по своей чистоте, фактически уникума. Ведь его действительно с распростертыми объятиями встретила бы любая процветающая страна, и он был бы миллионером, враз избавившись от материальных забот. С.М. Хентова сама пишет о его возможностях это сделать. И о том, как вместо этого московский чиновник писал на его просьбу о гараже: «Отказать». Казалось бы, вот вывод: честнейший человек, не хочет променять Родину на деньги и блага. Но автор такого вывода не делает; напротив, это свойство оборачивает ему во вред: вот, дескать, какой узколобый коммунист.
Кстати, о Гилельсе-коммунисте. Непонятно, почему автор статьи считала, что Гилельс вступил в партию «не покорно, подобно Шостаковичу», а «с верой», чуть ли не радостно. Она ему в душу заглянула? Ведь в этой же статье сказано, каким закрытым человеком был Эмиль Григорьевич. Кроме того, в статье она «забыла» уточнить тот факт, что в партию он вступил в 1942 году (в ее книге «Эмиль Гилельс» это приводится и даже акцентируется). В разгар страшной войны патриотический порыв заставил многих забыть свои несогласия с идеологией, и очень может быть, что год вступления Гилельса в партию не случаен.
Но вот, кажется, и доказательства, которые имеет в виду С.М. Хентова: «Он был, что называется, дисциплинированным коммунистом: посещал собрания, платил членские взносы, исправно выполнял общественные поручения, большей частью бесполезные».
Здесь ключевое слово – «дисциплинированным». Гилельс был исключительно дисциплинированным человеком вообще, то есть умел подчинять свои желания необходимости, достижению цели. Иначе он никогда бы и не стал таким пианистом. Но если человек дисциплинирован в профессии – он дисциплинирован во всем, особенно такой цельный, постоянный, устойчивый человек, как Гилельс. Он просто все, что он делал, всегда делал максимально хорошо, не умел иначе. Выносил на сцену только тщательно продуманные и блистательно подготовленные программы; честно выигрывал каждую ноту в головокружительных пассажах; выполнял общественные поручения – иногда, даже и по С. Хентовой, все-таки полезные.
Что это могли быть за поручения? Ведь нужно помнить, что в годы, когда жило поколение Гилельса, активность партийная была для подавляющего большинства людей единственной доступной формой общественной активности и вовсе не означала слепого поклонения идеалам коммунизма. Вряд ли Гилельс расклеивал лозунги и организовывал субботники. Скорее всего, партийные поручения представляли ту или иную форму помощи людям, и заслуживает огромного уважения то, что артист подобного ранга не только не гнушался такими поручениями, но и выполнял их максимально хорошо – как и все, что он делал в жизни.
Какая досада, что честный Эмиль Григорьевич не был злостным неплательщикам партийных взносов! И деньги бы сэкономил, и С. Хентовой угодил бы.
Дальше – снова упреки, что он слишком любил советскую власть, и только однажды, вернувшись из Западного Берлина, сказал в присутствии автора статьи: «А мы живем, как эскимосы». Кстати, фраза по тем временам неплохая и совершенно не вяжущаяся со слепым обожанием советской власти. К тому же следует учесть его закрытость и немногословность, а также то, что далеко не во всех моментах его жизни рядом присутствовала С.М. Хентова; при других людях он тоже что-то подобное говорил, такие фразы у него вырывались, и если автор статьи это слышала только один раз, не стоило бы ей судить, что он подобное только один раз в жизни и говорил.
Далее – блестящий пассаж о том, что именно вера в коммунизм сообщала игре Гилельса солнечный блеск, праздничность и способность внушать людям радость. «Его искусство несомненно облегчало людям жизнь, и в этом я нахожу главную причину той неизменной любви, которую люди дарили Гилельсу».
Значит, вот как: Рихтер блестяще играл просто потому, что он великий Рихтер, или, к примеру, Ойстрах блестяще играл просто потому, что был великий скрипач, – а Гилельс не поэтому, нет. Гилельс играл замечательно потому, что слепо верил в коммунизм. В него миллионы верили – что же они не делали свое дело так же блистательно, как Гилельс?
Облегчать своим искусством жизнь людям – это такая вершина, которой достигают единицы. И представить это достижение Гилельса как упрек… Здесь лучше обойтись без комментариев.
Теперь насчет самой веры в коммунизм и «увода от действительности», то есть чего-то, видимо, подобного солнечным комедиям с участием Любови Орловой под музыку Исаака Дунаевского, развлекавшим народ во время массового террора. Дескать, обман.
Ну, во-первых, спасибо людям искусства, сумевшим свои талантом сохранить народу душевное здоровье. Здесь нет никакого обмана, а есть могучий инстинкт самосохранения нации.
Но применительно к Гилельсу это имеет и другой намек: обвинение в примитивизме. Любили не потому, что его искусство было глубоким, а потому, что облегчало жизнь.
Да, есть и композиторские, и исполнительские стили сложные, не всем дающиеся для восприятия. А есть гении, чье лучезарное искусство имеет свойство доступности – Моцарт, например. И Гилельс в пианизме. Потому что если бы демократичность его искусства объяснялась не великой, гениальной простотой, а примитивизмом, – его записи не пережили бы его самого. Но их и сейчас, при перенасыщении рынка всем и вся, особенно аудиопродукцией, трудно купить, идут нарасхват. Это, конечно, объяснение, лежащее на самой поверхности, – но как иначе объяснить сущность творчества Гилельса людям, пониманию которых недоступна великая нравственная сила его искусства.
Читая статью дальше, наконец, доходим до потрясающего абзаца, который стоит привести целиком: «Еще одним свойством натуры Гилельса, противоположным вере, был страх. Да, да, именно страх, но не тот, не творческий, что неизбежен у каждого артиста, а повседневный, житейский. Страх, рожденный террором тридцатых годов, когда двадцатилетнему Гилельсу внушали, что страна окружена врагами, что людям доверять нельзя – все это укрепляло гилельсовскую замкнутость, остужало его природную жизнерадостность, лишало многих друзей, и он рано стал одиноким».
Начнем со страха. Чего боялся Гилельс? Террора тридцатых годов, которого боялись все? Нет, читайте внимательно. Это все остальные боялись «черных воронов» и ареста ни за что. А Гилельс боялся совершенно противоположного: он боялся самих «врагов народа», поскольку ему, еще двадцатилетнему, внушили, что страна ими окружена и никому нельзя доверять!
Такого обвинения ни в чей адрес мне еще не доводилось встречать. Много упрекали тех, кто из страха перед террором отворачивался от родных и друзей, предавал и т.п. Но чтобы бояться самих несчастных безвинных жертв! Как нужно ненавидеть Гилельса, чтобы написать о нем такое?
Впрочем, ненависть автора статьи к Гилельсу прорывается подчас неожиданным образом. «Разоблачение» его в том, что он, оказывается, на самом деле не Эмиль, а Самуил, удивительно гадко перекликается с подобными «разоблачениями» еврейских имен в период «борьбы с космополитизмом». Бесспорно, С. Хентова не желала такого эффекта; он получился нечаянно, и именно потому, что статья дышит ненавистью к великому музыканту, а ненависть, не имеющая внятного предмета, вполне логично приводит к подобным «разоблачениям».
Но вернемся к теме «страха». Мужество, невероятное мужество и просто житейская смелость – вот о чем говорят реальные факты жизни пианиста. Наверное, он боялся террора, которого боялись все. И суть этого террора, его цену, он знал не понаслышке: у него был арестован брат по отцу, Яков Григорьевич. Но при этом Гилельс просил самого Сталина освободить из тюрьмы Г.Г. Нейгауза (которого, по логике С. Хентовой, Гилельс должен был бояться как врага народа). Что могло последовать за этой просьбой? Все. От вечного невыезда за границу до автомобильной катастрофы, подобной той, которую через несколько лет устроили Соломону Михоэлсу. Или просто тихого ареста. А он просил за Нейгауза, у которого он не был любимым учеником и который его часто обижал. Просил и добился его освобождения, рискуя всем. И никогда об этом не говорил. Это – страх?
Впрочем, про Нейгауза у С. Хентовой написано только, что после возвращения Нейгауза в Москву отношения с ним у Гилельса разладились. Что ж, наверное, Гилельсу было обидно, когда Нейгауз, спасенный им от верной смерти, продолжал и впоследствии несправедливо о нем отзываться…
Еще о страхе. Второй эпизод, характеризующий редкое мужество Гилельса, удивительно автором статьи интерпретированное в невыгодном для музыканта свете, связан с женитьбой пианиста. Вернее, с двумя женитьбами. Первая – его известный и непродолжительный брак с Розой Тамаркиной – совершенно исключительно «подан» в статье. Сначала написано о чистоте влюбленного юноши, который, свято чтя брачные узы, рано женился под влиянием эмоций. Не совсем понятен акцент на эмоциях и святости брачных уз – это ведь вроде бы хорошо? – но не в этом дело. Дальше – удивительный пассаж о том, что этот брак, оказывается, был угоден официозу и даже освещался в прессе. Так по какой причине Гилельс женился на Тамаркиной – по любви или чтобы угодить советской прессе? И хотя душевно здоровому человеку ответ ясен, но вопрос как-то повисает, какое-то сомнение оставляет.
Но вот, наконец, Гилельс нашел свою настоящую судьбу: женился на «наследнице старинного тюркского рода красавице Фаризет».
Те, кто впоследствии писал о Гилельсе, отмечали, что он всю жизнь был влюблен в свою жену. Но «наследница» и «старинный род» заставляют вновь задуматься о конъюнктуре… И не написано главное: то, что Фаризет Хуцистова была дочерью видного работника руководства Осетии, и ее родителей репрессировали – то есть она была дочерью «врагов народа»!
Что такое было в сороковых годах жениться на дочери врага народа – объяснять не нужно. Гилельс снова рисковал всем, как минимум, возможностью выезда на гастроли, что было для него почти все. И не предал свою любовь, как делали в то страшное время очень многие. Что же он, такой «подверженный страху», не испугался ни самой Фаризет, как должен был бы, по логике С. Хентовой, ни органов госбезопасности, которых боялось в то время все живое? Где же был его страх?
По поводу этого эпизода из личной жизни Гилельса Л.И. Фихтенгольц, знавшая великого пианиста с детства, буквально воскликнула: «Софья Хентова написала ужасную, очень неприятную статью про его семейные отношения. Зачем? Ведь это же Гилельс!»109.
Где был страх, когда Гилельс, вопреки негласному запрету на имя Б.М. Рейнгбальд, единственным из ее учеников установил ей памятник и дал концерт в ее память, сразившись ради этого с партийным руководством Одессы?
Наконец, приведем фрагмент из воспоминаний Рады Никитичны Аджубей, близко знавшей Гилельса и его семью: «В нашей… жизни наступили дни, когда знакомство с нами из престижного (выражаясь современным языком) стало опасным. Моего отца, Никиту Сергеевича Хрущева, стоящего во главе Советского Союза, в результате верхушечного заговора отправили на пенсию. Он стал персоной non grata. Муж также был снят со всех должностей. И случалось, прежние “друзья”, завидев меня, спешили перейти на другую сторону улицы, чтобы не встретиться. Произошел естественный отбор на порядочность и смелость. Тех, кто не дрогнул, можно было пересчитать по пальцам одной руки. И среди них были Гилельсы.
Больше того, они навещали опального пенсионера Хрущева в подмосковном дачном поселке Петрово-Дальнее. Это был мужественный поступок. Таких было немного; все понимали, что каждый посетитель берется охраной “на карандаш”, и имя его заносится в определенный список КГБ.
Чем рисковал Гилельс? Трудно сказать, могло быть всякое. Могли запретить заграничные турне, ограничить концерты в стране…»110.
После пассажей о «страхе» Гилельса, чей облик, чья игра и поступки буквально дышали мужеством, уже не хочется писать об остальных выпадах статьи. О схватке вокруг Ленинской премии: Ростроповичу или Гилельсу? Да, признает С. Хентова, сами они в ней не участвовали. Но в чем же тогда Гилельс виноват? Все же в чем-то, по ее мнению, виноват. Что-то мешало «чистоте искусства». И вообще, по ее словам, с Ростроповичем Гилельс только «вместе работал в Московской консерватории и короткое время играл в ансамбле». О блестящем творческом содружестве великолепных музыкантов, о том, что, вернувшись на Родину после длительного изгнания, Ростропович в числе самых первых шагов на родной земле поклонился могиле Гилельса, – ни слова.
Как-то все странно в этой статье. Вот ведь вроде бы с сочувствием пишется об одиночестве великого пианиста, о том, как ему мешала власть… Но все это умело подается так, что на Гилельса ложится тень.
Разумеется, не мог автор пройти и мимо его всем известной действительной слабости – огромной любви к единственной дочери Лене, «о карьере которой отец заботился», как изящным намеком отмечено в статье.
Заботился он прежде всего о том, чтобы она много, невероятно много работала – так, как он работал сам, и была бы в искусстве столь же честна, как он. Да, «перехватил». Она не могла соответствовать его планке, да и никто бы не смог.
Но вот насчет карьеры… Приведу слова, которые я слышала от Елены Эмильевны сама в ноябре 1984 г., когда она гостила у нас дома после концерта и жаловалась, что очень устала от постоянных гастролей по провинции. На естественный вопрос: «Почему Вы не перейдете на педагогическую работу?» она ответила: «Если папа нажмет на все педали, то сможет устроить меня разве что в музыкальную школу на окраине Москвы. Но он и этого не сделает – он не хочет, не умеет просить». Это Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии и Герой социалистического труда Эмиль Гилельс так «делал карьеру» своей дочери-пианистке. И не исключено, что в том числе и из-за такого мучительного разрыва между профессиональными требованиями, которые предъявлял к ней отец, и его полным неумением устраивать ее в жизни она ушла так рано…
Дальше – о материальной скромности Гилельса, что чистая правда. Но это у С. Хентовой идет без выводов. Дескать, просто вот такая странность.
И, наконец, последний удар по «мертвому льву»: «…Но в охвате репертуара и форм музицирования, в размахе концертной деятельности в последние десятилетия он уступал Рихтеру и, надо полагать, сознавая это, страдал».
Гилельс уступал Рихтеру в последние десятилетия в размахе концертной деятельности и охвате репертуара? Может быть, С. Хентова забыла, что Рихтер в последние десятилетия играл только по нотам? А Гилельс до последнего месяца жизни выходил на сцену с огромными и сложнейшими программами наизусть, в полном блеске, в том числе и с сыгранной впервые на седьмом десятке лет 29-й сонатой Бетховена. Писать при этом, что Рихтер превосходил Гилельса, – очень несправедливо и некрасиво, потому что их искусство в 1970-е – 80-е гг. – это явления различного художественного порядка.
Нельзя не восхититься изяществом пассажа насчет «форм музицирования», которыми Гилельс тоже якобы уступал Рихтеру. Да, Рихтер находил новые формы: фестиваль во французском амбаре, Пушкинский музей, синтетические концерты с участием изобразительного искусства, различные камерные ансамбли… Спасибо ему за то, что он все это делал, продемонстрировав тем самым возможности гениального музыканта даже в тех условиях, когда подводит память.
Но Гилельс в таких нетрадиционных формах музицирования не нуждался. Он до конца своих дней придерживался самой традиционной формы: выходил на сцену огромного зала один и гениально играл произведения самой высшей трудности из всего, что создано в фортепианной музыке.
Страдать он, конечно, страдал – но не оттого, что в чем-то кому-то уступал, а от огромной несправедливости, которая преследовала его на протяжении жизни и продолжает преследовать и после ухода из нее, и ярким образчиком которой является статья С.М. Хентовой. И прожить он должен был дольше – это написано правильно. Возможно, и прожил бы, если бы его жизнь не укорачивали подобными способами, не понимая, что такого Гилельса не будет больше уже никогда.
По прочтении этой статьи осталось сильнейшее чувство недоумения: зачем автору это было нужно? Обиделась ли она на, возможно, высказанное некогда Гилельсом недовольство художественными достоинствами ее книги о нем? Но ведь не надо было при этом забывать и то, что на этой монографии она сделала себе имя. Хотелось ли выслужиться на будущее перед кем-то (чем-то)?
Прозвучали гневный отклик Гордона, горестная статья ученика Гилельса В. Блока – и все. Наступила тишина. Больше никто за память великого музыканта не вступился.
Через год вышла очередная книга С.М. Хентовой, на этот раз посвященная М. Ростроповичу111. Читавшие ее удивлялись, как можно было столь сухо и неинтересно написать о столь яркой личности. Читавшие особенно внимательно отметили одну деталь: автор буквально не мог пройти мимо фамилии «Гилельс», естественным образом возникавшей рядом с фигурой Ростроповича, без того чтобы не оскорбить память великого пианиста.
К примеру, на стр. 126 в описании того, как работал молодой Мстислав Леопольдович, приводится такое сравнение: «Работая, он не терзает себя, как Гилельс, а отдается работе без принуждения, со спокойной уверенностью».
Не припоминаю, чтобы подобное было позволено кем-либо когда-либо по отношению к музыканту масштаба Гилельса. Работает Гилельс, видите ли, «по принуждению» (ну, по-видимому, все-таки собственному, раз «терзает себя», – хотя можно понять и так, что его кто-то заставляет работать), и неуверенно, неспокойно. Автору невдомек, что бывают гении «солнечные» (Ростропович, Арт. Рубинштейн, Д. Ойстрах, да и Моцарт, Пушкин!), и гениальные личности с более трагическим самоощущением, всегда мучительно неудовлетворенные собой, что и движет ими на восхождении к вершинам… И что именно бесконечное разнообразие, непохожесть гениальных музыкантов есть счастье для слушателей. Но попробуйте представить, например: «Артур Рубинштейн работал уверенно, без принуждения, не терзая себя, как его однофамилец Антон». Можно такое прочитать? Вряд ли. А по отношению к Гилельсу почему-то все можно. И как-то думается: а вот Софроницкий, который еще как «терзал себя»… Неужели его кто-то принуждал работать? А уж как терзал себя Рахманинов, а Чайковский, а Бетховена кто заставлял?
Читаем дальше. На стр. 137 – следующее упоминание о Гилельсе: автор рассказывает, что трио «Гилельс – Коган – Ростропович» просуществовало недолго (доктор искусствоведения Хентова не затрудняет себя здесь анализом исполнительских достижений этого трио, хотя даже только от сохранившихся записей сегодня охватывает восторг). Зато она объясняет распад трио, разумеется, плохим характером Гилельса. «Вступили в противоречие характеры ансамблистов: жесткость и осмотрительность Гилельса, склонного к неторопливой шлифовке, не вязались с быстротой охвата и напором Ростроповича, его многосторонняя неуемность была Гилельсу не по душе. В дальнейшем Ростропович играл трио и квартеты с разными исполнителями, часто со скрипачами М. Вайманом, Б. Гутниковым, альтистом Ю. Крамаровым. Трио А. Гольденвейзера записал с автором как пианистом и Л. Коганом.
Событием стали ансамблевые концерты Ростроповича с Рихтером…». И далее – подробно об ансамблях с Рихтером.
Впечатление для читателя, не очень внимательно скользящего по тексту (а таких большинство), что Гилельс – ужасен. «Склонность к неторопливой шлифовке», правда, у музыкантов никогда пороком не считалась (а уж как действительно у Гилельса всегда все было отшлифовано!), но в противопоставлении с «быстротой охвата и напором» выглядит чем-то медлительно-туповатым. Как понимать «жесткость и осмотрительность Гилельса»? Осмотрительность – это что-то из разряда «страха»: видимо, Гилельс, работая над бетховенскими и моцартовскими трио, по-прежнему боялся врагов народа. А жесткость? Применительно к музыканту сразу всплывает ассоциация со звуком, но любой хоть что-то смыслящий человек сразу ее отметет, так как менее «жесткого» звука не было ни у кого из пианистов. Значит, поведение? Жесткость в работе как недопущение профессиональных компромиссов – естественно, но тогда уже автор обижает Ростроповича и Когана, подразумевая, что они выдвигали к себе и друг к другу менее жесткие требования. Значит, тоже нет. Тогда что? Неужели интеллигентнейший Эмиль Григорьевич позволял себе жестко, то есть грубо, обращаться с партнерами и друзьями? А вот гадайте.
«Не по душе» Гилельсу «многосторонняя неуемность» Ростроповича – это понятно. Сам Гилельс, видимо, ограничен и ничего не желает (хотя зачем тогда «терзает себя»? Этот ведь тоже род неуемности?) Наконец, намек, что больше Ростропович с Гилельсом не играл. А с кем играл? Ну, конечно, с Рихтером: об этом дальше много и восторженно. А еще с кем? А больше пианиста для камерных ансамблей с участием Ростроповича не было, сам автор книги признает это дальнейшим перечислением, в котором фигурируют скрипачи и альтист (не мог же Гилельс играть квартетов), а также А.Б. Гольденвейзер, который выступал в одном лице и как автор трио, и как исполнитель.
Но это понятно только профессиональной части читательской аудитории. А эта книга – одна из немногих об академической музыке, которая имела и значительную непрофессиональную аудиторию: она написана вскоре после событий 1991 года, когда Ростропович стал политической фигурой всероссийской известности, и многие купили книгу о Ростроповиче, вышедшую тиражом 100 000 экземпляров, из интереса к «модному политику»! И клевету на Гилельса в ней прочитали тоже как минимум несколько сотен тысяч человек.
С подачи С. Хентовой в адрес Гилельса и позднее стал звучать мотив того, что все ансамбли с его участием имели непродолжительное существование (это потом можно было встретить в аннотациях к компакт-дискам). Неужели непонятно, что для Гилельса, с его стремлением к безграничному расширению рамок репертуара и форм музицирования, любая форма, даже ансамбль с такими блистательными партнерами, как Л. Коган и М. Ростропович, была временной по определению – просто потому, что дальше он хотел играть иное, к примеру, опять чисто фортепианную музыку, очередной ее пласт… Но звучит – и у Хентовой, и далее, – как намек на некие пороки в характере Гилельса, дескать, не хотели с ним играть партнеры.
Но на этом нападки С. Хентовой на Гилельса в цитируемом издании не закончились. Считанные разы его имя встречается в книге (девять упоминаний всего), но уже на стр. 172 читаем: «В 1962 году Ростроповича выдвинули на соискание Ленинской премии. Его соперник – Эмиль Гилельс был десятью годами старше и концертировал дольше. В 1962 году премией отметили Гилельса, а Ростропович получил ее через два года».



