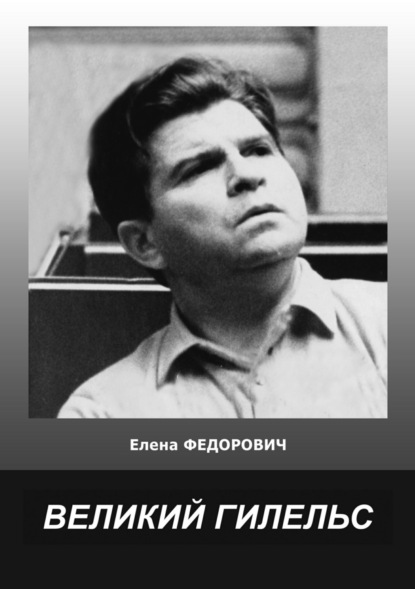 Полная версия
Полная версияВеликий Гилельс
А у Рихтера со звуком были проблемы, особенно в молодости. Даже Нейгауз признавал, что Рихтер «поколачивал», когда начинал концертную деятельность, в то время как Гилельс «никогда не стучал»76. Правда, и в момент признания этого факта Нейгауз все равно поставил Рихтера выше Гилельса: он так сумел описать эти свойства своих учеников, что Г.Б. Гордон справедливо сделал вывод: «Выходит: те, кто поколачивали – художники, а тот, кто нет – неизвестно, что еще из него получится…»77. Типичная формула: «Гилельс лучше, и поэтому он… хуже».
И далее, хотя Рихтер и не «поколачивал» более, звук его оставался всегда более сухим, имел более ударную природу, чем звук Гилельса. Это тоже особенно не оспаривалось.
Но ведь звук – это важнейшая содержательная категория исполнительского искусства. Звук тесно связан с эмоциями, а эмоции, по Б.М. Теплову, есть содержание музыки. Иначе почему была у Рихтера такая проблема с «ударностью» звука, которую он сам признавал даже на закате дней (это звучит в фильме Монсенжона из уст Н.Л. Дорлиак)? Почему бы ему не достигнуть такого же по качеству звука, как у Гилельса, – что, неужели у него был хуже слух, или он не мог отработать слуходвигательную связь, передачу внутреннего слышания в кончики пальцев?
Нет, конечно, и слух у него наверняка был изумительный, и все он мог отработать. Он не мог измениться эмоционально. Звук – не только результат взаимодействия слуха и осязания, через звук идет эмоция. Гилельс эмоционально был очень «теплым» пианистом, а эмоции Рихтера, тоже невероятно сильные, имели совершенно другую направленность и структуру. Он не растворялся в эмоциях исполняемой музыки, а вовлекал слушателей в какой-то эмоциональный вихрь, иногда «холодноватый», что признавал даже Нейгауз. В статье «К чему я стремился как музыкант-педагог» Г.Г. Нейгауз писал: «Иногда, правда, очень редко, у Рихтера мне не хватает “человечности”; однажды я ощутил это в Аппассионате, в Сонате B-dur Шуберта, несмотря на всю духовную высоту исполнения… Ein esoterisches Erklingen (по‑русски – сокровенное, предназначенное только для посвященных звучание, нечто очень недоступное, чуть ли не расхолаживающее неискушенного слушателя), почти равнодушие к человеческим делам и слабостям, холод многострадальной души, а не бесчувствие тупицы, – холод, который (в царстве мысли) выражен в двух почти равноправных суждениях: «Tout comprendre c’est tout pardoner» [Все понять – значит все простить] и «Tout comprendre c’est tout mépriser» [Все понять – значит всем пренебречь]. Потому, мне кажется, игра Рихтера иногда “замораживает” слушателя. Но очень редко!»78.
Секрет его эмоционального воздействия, по-видимому, состоял в коммуникации, в подключении эмоций слушателей к своим. Сейчас об этом чуть-чуть начали писать, что-то искать. К примеру, А.С. Церетели полагает, что Рихтер был не столько интерпретатором, сколько коммуникатором79 (сам термин «коммуникатор фортепиано» применительно к Рихтеру принадлежит Г. Гульду)80. О подобном пишет и В. Афанасьев: «У Рихтера энергетика была сродни энергетике физической, волновой. Он создавал, как физики говорят, электромагнитное поле. Рихтера очень часто нужно было воспринимать телом, скажем так»81.
Но вообще-то на эту интереснейшую тему – секрет эмоционального воздействия Рихтера – написано очень мало, почти ничего. Опять обкрадывается уже Рихтер (и, разумеется, слушатели): одни восторги вместо серьезного изучения.
Разные эмоции находили выражение в разном звуке, и у Гилельса он явно выигрывает. Поскольку эмоции, повторим, категория содержательная, то и звук должен входить не только в понятие мастерства, но и в понятие «сути» музыки. Это совершенно ясно, как и то, что Гилельс и в этом отношении – один из величайших из когда-либо творивших музыкантов.
Однако вместо этого мы сплошь и рядом читаем, что Гилельс – прежде всего «пианист», а Рихтер – музыкант. (Вспомним хотя бы, опять-таки, Нейгауза, подытожившего спор, в котором собеседник с восторгом отзывался о Гилельсе, словами: «А музыкант все-таки Рихтер»)82. Это тоже повторялось и повторяется многократно: признавая неоспоримые достоинства Гилельса и даже не возражая (что тут возразить – все слышно), намекают, что это все – «земное», простое, а вот у Рихтера… И снова: Гилельс – пианист, Рихтер – музыкант. Как будто пианист не музыкант!
Нет, слово «пианист» здесь только лукаво прикрывает все то же: «чистый виртуоз», «технарь». Если попробовать поймать на этом, возмутиться, в ответ сразу: «Как же, не просто виртуоз Гилельс, а “пианист”, у него, понимаете ли, потрясающий пианизм. Даже… даже лучше, чем у Рихтера!», – решаются произнести апологеты Рихтера. Что же в этом случае понимается под словом «пианизм»?
Мы снова имеем дело с подменой понятий. Г.Г. Нейгауз сформулировал и ввел в обиход понятия «техника в узком смысле» (т.е. беглость, ровность, «блеск и треск») и «техника» от греческого «технэ» – искусство, овладеть которой, по Нейгаузу, значит овладеть самим искусством, т.е. практически неотделимая от «содержания»83.
Нет сомнений, что блестящая виртуозность Гилельса есть порождение техники именно второго, высокого порядка. О ней лучше всего может сказать его ученик, пианист и писатель Валерий Афанасьев, много общавшийся с Эмилем Григорьевичем, слушавший и наблюдавший его не только на концертах, но и у него дома. Он пишет, сравнивая Гилельса с величайшими пианистами прошлого: «Если собрать все, что я знаю о пианистах и высчитать, какими были те, великие, то, думаю, Эмиль Григорьевич их всех превосходит в пианистическом плане. …Может быть, она [виртуозность] была у Горовица, но дело в том, что у Горовица просто не было ума Эмиля Григорьевича. Эмиль Григорьевич был удивительно умным человеком и умным музыкантом. …Его виртуозность была гармоничной. И если брать виртуозность в лучшем смысле этого слова (курсив мой. – Е.Ф.) – о которой сейчас говорить просто не приходится, просто нет этого понятия, – то ему, пожалуй, не было равных. …Думаю, такого не было вообще. Может быть, Лист так играл…»84.
Но именно виртуозность Гилельса, которой восхищались выдающиеся музыканты как явлением высшего художественного порядка, во многих критических статьях, выходивших в течение его жизни, и в публикациях, затрагивающих его имя после его ухода, постоянно сводят к «беглости», технике в узком смысле. Это не что иное, как терминологический подлог.
Производят этот подлог с использованием терминов «мастерство» и «пианизм». Мастерство – это понятие, в какой-то мере отделенное от «содержания», но более широкое, чем техника (беглость): в него входят также артикуляция, агогика, педализация и пр. За «мастерством» обычно идет еще одно распространенное понятие: «пианизм». Им часто пользуются, потому что это удобно: оно обычно шире, чем «мастерство», тем, что подразумевает также и звучание инструмента, звуковые качества пианиста. Иначе говоря, «пианизм» – это все, что звучит. А уже что при этом подразумевается, возникает как образ – это «содержание».
И тут производится подмена понятий по отношению к Гилельсу. У него потрясающий звук, на основе которого и возникают потрясающие образы. Но звук входит и в понятие «пианизм»; это понятие чуть-чуть сдвигают в сторону «мастерства»… И получается: величие Гилельса – в технике. Наиболее бессовестные при этом двигают понятия еще дальше – к «технике в узком смысле». Гилельс – великий музыкант – превращается в «технаря».
И все это, напомним, зиждется на том, что у Гилельса – непревзойденный звук, признанно лучший среди пианистов. Логика: Гилельс лучше, и этим он хуже.
Итак, есть как минимум три мифа, делающих из великого музыканта – технаря; из гениально одаренного и всю жизнь восходящего ко все более высоким вершинам мыслителя и виртуоза – старательного ученика; из честнейшего, смелого и на редкость скромного человека, прожившего трудную жизнь, – бессовестного царедворца. Заложил их Г.Г. Нейгауз, возможно, сам не желая такого эффекта, – просто он очень любил другого своего ученика, и ему казалось, что того обижают, а этому и так хорошо.
Затем мифы развили и обогатили десятки музыкантов – от тех, кому по каким-либо причинам не нравился лишенный вычурности стиль Гилельса, до завистников и просто желавших выслужиться, заявив о своей приверженности «запретному», «интересному» и осудив «официальное». Потом их повторили, приняв на веру, сотни в разной степени компетентных людей; приняли к сведению тысячи тех, кто вообще мог их фигурантов никогда не слышать. Мифы зажили, как им и полагается, собственной жизнью. Но жизнь их оказалась продолжена еще рядом обстоятельств.
ВЕЛИКИЙ И ПРИСТРАСТНЫЙ
Изложив основное содержание широко распространенных мифов в отношении Гилельса, мифов, заложенных Г.Г. Нейгаузом, предвижу возражения: Нейгауз умер в 1964 году, Гилельс после него прожил более двух десятилетий, да еще примерно столько же времени прошло с ухода Гилельса. Какое же это все может иметь отношение к сегодняшней действительности?
Такой вопрос могут задать, конечно, скорее люди молодые, для которых все эти имена уже превращаются в «ископаемые»; однако такая поросль уже есть или неизбежно появится с течением времени. Поэтому нелишне напомнить, кто такой был, есть и будет Генрих Нейгауз.
Сказать, что он был великий фортепианный педагог, или, может быть, даже величайший, недостаточно. Нейгауз – один из величайших педагогов в истории педагогики вообще. Мало можно назвать еще случаев, когда одному человеку удавалось создать столь блистательную, разветвленную и продолжающуюся в последующих поколениях школу с подобными же результатами и подобным влиянием на культурную жизнь.
Впитав в себя лучшие традиции и мировой культуры, и русской исполнительской школы, Нейгауз вырастил столь блестящих учеников, что в любой иной школе, другой культуре каждый из них стал бы единственным на несколько поколений. Речь уже идет не только о Гилельсе и Рихтере, и даже не только о еще как минимум дюжине «сверхзвезд» из учеников Г.Г. Нейгауза, но о десятках музыкантов высочайшей квалификации и культуры. Большинство из них восприняли не только исполнительские, но и педагогические традиции учителя, и сегодня «школа Нейгауза», разросшаяся и распространившаяся на весь мир, не имеет равных и не будет их иметь еще долго.
Отдельный разговор – книга Нейгауза «Об искусстве фортепианной игры». Наверняка потомки напишут замечательные книги, но такую любимую практически всеми музыкантами – вряд ли. Во всяком случае, за последние полвека не написали. Она необычна тем, что содержит в себе признаки одновременно и фундаментального научно-методического труда, и произведения искусства. Последнее возникает от колоссального сжатия смысла – функции музыкантского мышления, в высокой степени свойственного Нейгаузу. Смысловая насыщенность в сочетании с афористичностью, ассоциативностью, остроумием – те ее особенности, которые обеспечивают чтению легкость, увлекательность и мгновенно делают читателя сторонником автора по всем изложенным вопросам. Методические постулаты укладываются в голову читающих, окрашенные очень личностным, эмоционально освещенным отношением автора, и читатель превращается в почитателя Нейгауза.
Наконец, личность Генриха Густавовича… Об это написано больше всего, и наверняка живущие ученики напишут еще. Скажу от себя: на человека, родившегося уже в совершенно другом поколении и никогда не видевшего и не слышавшего Г.Г. Нейгауза (мне, правда, посчастливилось видеть и слышать Станислава Генриховича), впечатление, произведенное от услышанного в записи и прочитанного, таково, что эта личность представляется одной из самых ярких из всего познанного в жизни. Что же говорить о тех, кто общался с ним?
Особо следует обратить внимание на всегдашний налет оппозиционности, сопровождавший Г.Г. Нейгауза. Дело не только в том, что он сидел в тюрьме, – хотя среди музыкантов это даже в те годы было редкостью, – сколько во всем его облике, абсолютно не стыковавшимся ни с чем советским. Сама его обширнейшая культура противоречила окружавшей действительности; а он был еще остроумен, смел в разговоре и позволял себе «проезжаться» по власть имущим. Для интеллигенции, у которой оппозиционность всякой, в особенности такой власти, в крови, это было еще одним сильнейшим фактором, поднимавшим авторитет Нейгауза, придававшим особый вес всему, что он говорил и писал.
И вот вспомнив и представив все это, вернемся к его слабости – пристрастному отношению к двум самым талантливым (просто гениальным), самым знаменитым ученикам. Публика обожает обоих, и все готовы поклониться Нейгаузу как учителю обоих. Но он, имея кроме этих, еще десятки учеников, каждого из которых было бы достаточно, чтобы обессмертить любого другого педагога-музыканта, может позволить себе и в какой-то степени «разбрасываться» ими, не скрывая пристрастий. Один из них ему во всем – абсолютно во всем! – по душе, и он хвалит его безудержно, везде, не опасаясь упреков в нескромности, которых в похожем положении опасался бы любой другой. Он – нет, какая нескромность; его достижения как педагога столь велики, что он может подняться над этими досужими разговорами и хвалить любимца так, как только хватало слов, – а запас у него был богатейший.
А другой – как бы он ни играл – всегда его в чем-то не устраивает. Всегда хочется, чтобы он играл как-то по-иному. Иногда, правда, даже Нейгауз признавал, что Гилельс сыграл что-то превосходно, но общий облик нелюбимого питомца в его сознании не менялся. Это тоже свойство очень эмоционального человека: минуя логику, следовать своим настроениям, впечатлениям… Может быть, самое первое отрицательное впечатление от игры Гилельса в конце 1932 года, когда Б.М. Рейнгбальд впервые привезла своего ученика к Нейгаузу, оказалось таким сильным, что его по-настоящему не смогло перебить ничто? Все возможно применительно к человеку с таким нестандартным интеллектом, окрашенным сильнейшими эмоциями.
И вот весь авторитет Нейгауза, все пролонгированное воздействие от его книги и статей (а читать их будут, наверное, до тех пор, пока люди играют на рояле…), в целом благотворные для нашей культуры, краем задели Гилельса – выдающееся явление мировой культуры, во многом исковеркав ему жизнь, а потомкам – память о нем. И не только память, но и потребность слушать его записи; а это огромный урон для всех.
Здесь пора сказать еще об одном мощнейшем факторе, продолжившем и усилившем негативное мнение о Гилельсе, созданное Г.Г. Нейгаузом. Кроме самого Нейгауза, не сдерживавшего своих эмоций, кроме компетентных и не очень компетентных критиков, рядовых и нерядовых музыкантов, любителей и проч., существует еще особая группа людей – это ученики Нейгауза, к которым примыкают и которых начинают заменять ученики учеников. Это люди, наиболее компетентные и в вопросах фортепианного искусства вообще, и в интерпретации всего сказанного Нейгаузом.
Среди них были, наверное, и друзья Гилельса – во всяком случае, коллеги, которые с ним общались, испытывая симпатию и пользуясь взаимностью. Да и с самим Рихтером его отношения в молодости были дружескими. Выше уже цитировались слова Рихтера о хороших поначалу отношениях с Гилельсом; а вот слова Гилельса о его взаимоотношениях с Рихтером, приведенные в мемуарах В. Воскобойникова: «Вы знаете, ведь мы когда-то дружили. И бывали друг у друга. Когда Рихтер учил Второй концерт Бартока, я зашел к нему, увидел ноты и – о ужас! Знаете, что было написано его рукой в нотах? “Улыбнуться!” Представляете, Валерий: “Улыбнуться!”»85.
Примечательно, что высказывания обоих великих пианистов об отношениях друг с другом имеют практически одинаковую структуру: сначала они характеризуются как «дружеские», а затем музыканты пошли разными путями. В этом видится естественный дружелюбный интерес каждого из них к талантливому коллеге, постепенно сменившийся неким взаимным отталкиванием очень различных художественных натур. Рихтера, как свидетельствует его высказывание, не устраивал характер Гилельса, который и многие другие находили своеобразным. Гилельсу, судя по его словам, казалось неестественной некоторая театральность творчества Рихтера, находившая, в частности, выражение в заранее заготавливаемых им внешних эффектах исполнения; Гилельс, прямой и искренний, считал ее «ужасной». Все это понятно; бытовой уровень взаимоотношений великих музыкантов это никак не затрагивало.
Но с 1960-х гг., очевидно, оказался затронутым и этот уровень; более того, меняется также отношение к Гилельсу не только Рихтера, но и большинства учеников Г.Г. Нейгауза. В книге Монсенжона читаем такие слова из дневника С.Т. Рихтера, описывающего день памяти Г.Г. Нейгауза 12 апреля 1971 г.: «В этот день на Неждановой было много гостей. Все ученики Генриха Густавовича … были приглашены (разумеется, кроме Эмиля Гилельса)»86. Разумеется? Следовательно, в 1970-е гг. Гилельс был уже изгоем среди учеников Нейгауза?
Еще одно подтверждение этому находим в мемуарах Валерия Воскобойникова. Автор описывает, как ему в 1979 г. позвонил Гилельс с дружеским разговором, а в комнате рядом с Воскобойниковым в это время находился С.Г. Нейгауз: «Стасик, находившийся рядом, замахал руками: меня, мол, здесь нет. После краткого разговора с Эмилем я спросил Стасика, почему он не пожелал общаться с Гилельсом. Ответ был лаконичный: “Он хамил отцу”»87.
Между тем, С.Г. Нейгауз был знаком с Гилельсом очень давно: в мемуарах его матери З.Н. Пастернак есть эпизод о том, как Гилельс помог им в тот момент, когда Зинаида Николаевна со Станиславом-подростком во время войны оказались на улицах Свердловска, голодные и не знающие, куда идти (они навещали старшего брата С.Г. Нейгауза, Адриана Нейгауза, находившегося в туберкулезной больнице под Свердловском, а на обратном пути хотели повидать в Свердловске Генриха Густавовича):
«Транспорт не работал, и мы, шатаясь от голода, шли по улице, как вдруг увидели афишу о концерте Гилельса, который был учеником Генриха Густавовича. Я ухватилась за знакомое имя как за соломинку. Узнали по телефону-автомату номер единственной свердловской гостиницы «Урал»… Позвонив туда, я спросила, не здесь ли остановился Гилельс, мне ответили, что здесь, и дали номер телефона. Трудно поверить, но, набрав номер Гилельса, я услышала голос Генриха Густавовича. Он умолял нас со Стасиком прийти как можно скорее. Мы с трудом дотащились до гостиницы. Не было предела нашей радости при встрече. Стасик был счастлив, видя отца живым, здоровым и на свободе.
У Гилельса был накрыт стол как на банкете: ветчина, икра, пирожки, – мы набросились на еду. Кроме того, Гилельс обещал нам достать билеты в мягком вагоне до Казани. Это тоже была неоценимая услуга, потому что с билетами было очень трудно. Гилельс занимал двойной номер, и он оставил нас со Стасиком ночевать, с тем что на другой день посадит нас в поезд. Гилельс и Генрих Густавович усиленно уговаривали нас отдохнуть и пожить в Свердловске… На другой день они проводили нас на вокзал, и мы сели в комфортабельный мягкий вагон с корзинкой, полной продуктов»88.
Для того чтобы перевесить такие воспоминания, должно было произойти нечто очень серьезное. И это действительно произошло. В отношения Г.Г. Нейгауза и Э.Г. Гилельса была заложена «бомба». Случилось это в конце жизни Нейгауза, «сдетонировало» в конце жизни Рихтера, а заложил ее сам Эмиль Гилельс. В начале 1960-х гг. (не позднее первой половины – середины 1962 г.) Гилельс написал Г.Г. Нейгаузу письмо, в котором он просил Генриха Густавовича не называть более его своим учеником, так как он считает себя только учеником Б.М. Рейнгбальд.
Существуют сведения о том, что письмо Гилельса не было его инициативой, а явилось ответом на письмо к нему Г.Г. Нейгауза, в котором тот просил прощения за невольно нанесенные Гилельсу обиды и призывал к примирению. Гилельс навстречу не пошел и в примирении отказал89.
Г.Г. Нейгауз в это время жил в квартире у С.Т. Рихтера и Н.Л. Дорлиак90 (отсюда – предположительная дата письма: в октябре 1962 г. он получил квартиру и уехал от Рихтеров). Это письмо он показал С.Т. Рихтеру, Н.Л. Дорлиак и С.Г. Нейгаузу. Больше он никому о письме не говорил, даже своей дочери М.Г. Нейгауз (по свидетельству М.В. Лидского, которому это известно от наследников Нейгауза)91. Гилельс вообще никому о письме не говорил (во всяком случае, об этом нигде не упоминается). Г.Г. Нейгауз попросил свою последнюю жену С.Ф. Айхингер уничтожить это письмо, что она после его смерти и сделала. Как справедливо заключает М.В. Лидский: «Иначе говоря, и отправитель, и адресат хотели оставить это дело между собой – такова была их недвусмысленно выраженная воля»92.
Не вызывает, однако, сомнений то, что ученикам Нейгауза, во всяком случае, самым близким, входящим в московский круг его постоянного общения, каким-то образом об этом стало известно – от самого Г.Г. Нейгауза или от С.Т. Рихтера, в данном случае это неважно, – иначе нельзя объяснить многозначительное «разумеется» в дневнике Рихтера. От Гилельса отвернулись. В широких кругах музыкантов этого не знали.
Но в конце жизни С.Т. Рихтера этот эпизод сначала был упомянут в воспоминаниях Н.Л. Дорлиак, а затем его дневники оказались в руках Б. Монсенжона, который сначала сделал фильм «Рихтер непокоренный», а затем издал книгу «Рихтер. Дневники. Диалоги». Эта книга, в отличие от воспоминаний Дорлиак, имеет широкое хождение в среде творческой интеллигенции.
В ней рассуждения Рихтера о Гилельсе, уже частично процитированные здесь, продолжаются следующим образом: «С Нейгаузом он повел себя отвратительно. Под конец жизни Нейгауза он совершил по отношению к нему очень жестокий поступок: написал в газетах и лично Нейгаузу, что никогда не был его учеником. Отрекся от него. Нейгауз уважал его, был с ним очень искренен, разумеется, иногда и критиковал. Доброжелательно, как он критиковал и меня. Из-за своей обидчивости Гилельс не переносил ни малейшей критики. Этого оказалось достаточно, чтобы толкнуть его на непростительный шаг. Всем в Москве было известно, что он учился у Нейгауза. Эта история вызвала возмущение. Что касается меня, то, когда я это узнал, я перестал с ним здороваться. Потрясенный Нейгауз вскоре умер»93.
Этому эпизоду из воспоминаний Рихтера уже посвящен критический разбор в статьях А.С. Церетели94 и М.В. Лидского95. Кроме своих соображений, приведу также их основные аргументы, поскольку сборник «Волгоград – фортепиано – 2004», в котором помещены их статьи, издан маленьким тиражом, и его трудно достать.
Прежде всего, С.Т. Рихтер, по-видимому, нарушил предсмертную волю Г.Г. Нейгауза, выраженную в просьбе уничтожить письмо, самим фактом публикации этих сведений (или согласия на публикацию – ведь он сам отдал дневники Монсенжону). «По-видимому», а не наверняка – потому, что гипотетически нельзя исключить и того, что Нейгауз ему поручил огласить эти сведения много лет спустя (хотя, конечно, вряд ли). Но даже и в таком случае надо было бы писать как минимум правду, а данный эпизод в изложении Рихтера просто изобилует нестыковками.
Что значит «написал в газетах»? Как справедливо замечает А.С. Церетели, опубликовать какое-либо письмо в газетах в СССР в 1962 году мог бы, наверное, только генеральный секретарь ЦК КПСС. Да и просто: этого не было, ни в каких газетах Гилельс ничего такого не писал и вообще никому об этом не сказал.
Дальше – еще хуже: «Потрясенный Нейгауз вскоре умер». Это уже серьезное обвинение; написано так, что невольно напрашивается причинно-следственная связь: Нейгауз умер именно в результате этого письма (раз «потрясенный»). Но это неправда даже по времени («вскоре») – письмо написано, самое позднее, в середине 1962 г., что следует из самого факта проживания Нейгауза в это время у Рихтера, а Г.Г. Нейгауз умер в октябре 1964 г. И почему именно письмо Гилельса стало причиной его смерти, а не мытарства с квартирой, например, да и мало ли могло быть еще причин, ухудшивших течение давнего сердечного заболевания.
Насчет того, что Нейгауз критиковал Гилельса доброжелательно и так же, как и Рихтера, – явная неправда, по поводу этого А.С. Церетели и М.В. Лидский приводят множество убедительных аргументов, в том числе тех, которые помещены и в этой статье, поэтому сошлюсь только на один, самый близкий нам по времени. М.В. Лидский ссылается на слова Генриха Нейгауза-младшего (внука Г.Г. Нейгауза), сказанные им недавно: «Насколько дед с отцом обожали Рихтера, настолько недолюбливали Гилельса. Вот он и отвечал им “взаимностью”… Я уверен, если бы не конкуренция Гилельса с Рихтером, мы все много выиграли бы…»96.
Слова о том, что Гилельс не переносил ни малейшей критики, опровергаются хорошо известными фактами: он неоднократно, будучи уже всемирно признанным пианистом, обращался к старшим коллегам с просьбой послушать его и сделать ему замечания. В частности, И.В. Никонович приводит в воспоминаниях о Софроницком эпизод, из которого следует, что Гилельс в 1950-е гг. просил Софроницкого прослушать его скрябинскую программу97. Гилельс осваивал Скрябина, а Софроницкий был первейшим авторитетом в его интерпретации. И уж, конечно, не комплиментов ожидал Гилельс от Софроницкого; напротив, немалую смелость надо было иметь, чтобы, будучи признанным артистом, нести на суд Софроницкого произведения Скрябина… Играл он также неоднократно К.Н. Игумнову и С.Е. Фейнбергу.



