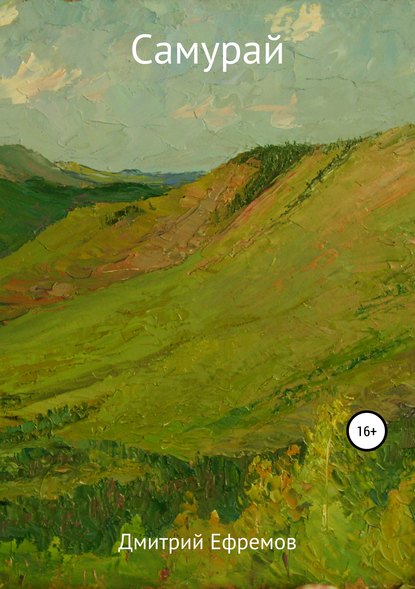 Полная версия
Полная версияСамурай
– Никак зарплату привёз? – с иронией в голосе пробухтел Толька, медленно поднимаясь с табурета. – Гони деньги! Я из-за тебя чуть копыта в тайге не отбросил.
– Здорова те. Гляжу, у тебя как в песне. Чиню гармошку, а жена корит? Надежда-то дома? – В руках у Сергея был свёрток. Он поставил его на стол и отошёл к порогу.
– Дали орехов белке, когда у ней зубов не стало, – не скрывая обиды, сказал Толька. Смекнув, что может быть в этом свёртке, он нехотя засуетился у стола. – А я уж думал, что меня опять на мякине провели. Це дело, я понимаю. А то башка после вчерашнего раскалывается.
– С кем гулял-то? Инструмент-то гляжу, совсем убрали.
– Да с батей. Деда поминали. Малость перебрали.
– Всё-то поёт? – присвистнул от удивления гость.
– Да он нас с тобой перепьёт! Этот синьёр Помидор. С утра уже умотал куда-то с братиком на своём драндулете.
– Ты, Анатолий, не суетись. Не один к тебе.
– Ну и заходят пусть. У меня чисто. – Толька опустил руки, застыв посреди комнаты.
– Нет. Давай сам выходи. Там ждут. Не заставляй гостей ждать.
– Говори прямо! Чего сопли жуёшь! – Толька посмотрел в окно и выругался. – А понаехало-то! Всех собак переполошили. Опять в тайгу, что ли? – заревел он, увидав в окне знакомые лица.
– Кто к нам пожаловал! Господин Утамаро-сам. Ты давай, быстро его в дом, а то народ у нас любознательный, на горячие-то пирожки знаш как любит.
Выйдя из дома, он направился к гостю, и уже было поднял лапу, чтобы хлопнуть по плечу своего гостя, но вовремя передумал и поздоровался с переводчиком, выбив из него всю столбовскую пыль.
Он глазом смерил гостей и почесал затылок.
– Многовато что-то вас сегодня. Никак все в тайгу собрались? – присвистнул от удивления Толька, ещё не взяв в толк всего происходящего.
На дороге стоял знакомый «Уазик»
…– Стало быть по мою душу, визит вежливости, – съязвил Толька, до ужаса не любивший подобные сцены.
– Да брось ты дурить! – ткнул его в спину Сергей. – Имей совесть. Люди серьёзные, из района.
– Ладно. Малость и пошутить нельзя. – Толька огляделся по сторонам, и увидев, что вокруг уже начинают собираться зеваки, подошёл к своему недавнему попутчику, потянул его в дом.
Пока хозяин возился с гармонью, гости топтались посреди комнаты и вертели головами, оглядывая скромное Толькино жилище. Неожиданно заговорил японец.
Когда гость закончил говорить, продолжил переводчик. Путаясь в словах, он стал переводить:
– Утамаро-сан выражает вам свою благодарность. Он очень признателен тому, что вы были его попутчиком и терпели его. Он рад, что познакомился с вами.
– Ох уж эти церемонии, – промямлил Толька, переминаясь с ноги на ногу. Бравада его вся куда-то подевалась, а сам он от волнения даже немного уменьшился в размерах. – Неизвестно, кто кого терпел, – сконфуженно пробурчал он себе под нос.
Больше всего ему хотелось смыться от этого позора куда подальше, но деваться было некуда.
– Это не всё, – продолжил переводчик и отошёл в сторону.
Гость вновь заговорил и, когда закончил, достал из небольшой сумки свёрток. Когда он его развернул, все увидели самый обыкновенный кусок белой ткани с красным кругом посередине.
– Это вам в подарок. Это очень ценный подарок, – важно заговорил переводчик, поглядывая на окружающих. Он аккуратно перехватил флаг, свернул его так, чтобы круг оказался сверху, и обратился к Тольке.
– Здесь есть специальная надпись, – он подошёл ближе и переглянулся с японцем. Тот улыбнулся и сделал небольшой поклон. – Один иероглиф имеет отношение к имени господина Синтаро. Это своего рода обозначение. Вроде фамильного герба. А эти, – он указал на стоящие рядом. – Это ваши Анатолий Игнатьевич.
Толька наклонил голову, чтобы лучше разобрать надписи на красном и белом.
…– Здесь… Настоящему русскому. И… Утамаро-сан дал вам прозвище за время знакомства.
Толька сделал глупое лицо и открыл рот.
– Какое же?
– Седой медведь.
– Лучше сивый кабан.
Все, кто слышал, дружно расхохотались, а Толька громче других.
– А ну-ка, дай погляжу. Чего вы тут накалякали. – Он долго всматривался в непонятные знаки, потом поднял голову и подошёл к японцу, указывая пальцем на один из знаков. – Каво вот эта буква обозначает? – спросил он.
– Кора-вэ нихякунэн-ни вататтэ вага сидзоку-но сэймэй-но дзи, 11 – гордо пояснил японец. Он дождался, пока его перевели, и пошёл к машине.
Толька озадаченно чесал затылок, шаря по сторонам глазами. Казалось, он пропустил мимо ушей последние слова переводчика. Он ещё раз глянул на буквы, что-то нарисовал пальцем в воздухе и, приоткрыв форточку, крикнул, да так громко, что у всех, кто находился в комнате заложило уши.
– Надежда! Поди скорей! Бросай свои помидоры и иди сюда.
Толькина жена и знать не знала, что происходит у её дома, и копошилась в огородных грядках за домом.
– Тебе надо, ты и иди. Трутень! – послышалось из огорода.
Пока Толька разбирался со своей половиной, среди гостей царило неловкое молчание.
Прибежав с огорода, Толькина жена вскрикнула и ещё больше набросилась на мужа. Это была крепкая, всё ещё привлекательная и улыбчивая женщина. Не обращая внимания на гостей, она отчитывала его по всем правилам.
– И молчал! А я, как дура, в земле ковыряюсь! Сразу не мог сказать, что гости у нас, – она вытерла полотенцем влажные руки, и убежал приводить себя в порядок.
– Откуда я знаю, про какую тетрадку ты говоришь! И где она может лежать. Может, где в кладовой. Мне её никто не давал. Ты же её у отца брал. Вот и вспоминай, куда сунул.
Появившись вновь, причёсанная и принаряженная, она наградила всех красивой улыбкой, одновременно извиняясь за свой вид. – Вы уж не сердитесь на него. Всю жизнь с этим дураком мучаюсь. Он же мне как в наказание… Тетрадка-то была. Японская. Может, в кладовке где. После ремонта всё ж туда валили, – обратилась она к мужу. Но Толька уже хозяйничал где-то в кладовке. Там что-то падало и гремело, слышалась его несносная брань. – Ну где же она! Я же видел её. Вот, недавно, – ревел Толька.
Через минуту он вышел очень довольный, неся в руке небольшой плоский футляр красного цвета.
– Во! – Толька протянул его японцу, довольно потирая о штаны руки. – У бати позаимствовал. Говорит, где-то в тайге нашёл. Уже лет двадцать валяется в доме. Детвора её всё таскала. Хорошо, не пропала.
Приняв предмет, японец вдруг преобразился. Глаза его стали круглыми. Он стал что-то очень быстро говорить, глядя поочерёдно то на Тольку, то на футляр. Повертев его в руках, он вытащил из него тетрадь, на вид очень старую, с обтрёпанными краями. Полистав страницы, он подошёл к Тольке. По его лицу было видно, что он очень взволнован.
– Доко-дэ мицукэта даро. Корэ-о, 12– спросил он, глядя Тольке в глаза.
– Батя в тайге нашёл, – пробурчал Толька, пожимая плечами и догадавшись о смысле вопроса. – А где, хрен его знает. Он ещё кое-чего нашёл, – нерешительно сказал Толька, выискивая глазами жену… – Чего я сразу не догадался, зачем ты в тайгу полез! – осенило его. Отец говорил, что всё это он в пещере нашёл.
Всё, что говорил Толька, сразу же переводили.
– Корэ-ва боку-но о-тосан-но дзаккитё,13 – тихо, но не скрывая своего удивления сказал японец, перебирая в руках Толькину тетрадь. Глаза его блестели от накатившей влаги и излучали не поддельную радость. – О-тосан,14 – повторял он одно и то же слово, и оно не требовало перевода. Он долго говорил сам с собой, осматривая и прощупывая каждый уголок тетради.
Все вдруг возбуждённо заговорили. Сам Толька в это время хлопнул дверью, направившись через огород к сараям, что стояли в самом его конце. Наградив пинком зазевавшуюся свинью, лениво ходившую по загону, он пролез в низенькую дверь курятника; из дырки тут же полетели перепуганные куры. Покрывая своё хозяйство трёхэтажным матом, Толька вылез, держа в руках какой-то длинный предмет. Оставив свёрток в прихожей, он подошёл к японцу и тихо сказал:
– Хорошо бы без свидетелей, дело щекотливое. Мне ещё показать кое-что надо.
Он взял за рукав Мандруса, вывел его бесцеремонно во двор и закрыл дверь на крючок.
В доме он снова усадил гостя на табурет и развернул свёрток. В руках у него было самое настоящее ружьё. Он передёрнул затвор и щёлкнул курком.
– Эта тетрадка – ерунда! Японский карабин! – гордо пояснил Толька. – Орисака. Это я у бати позаимствовал. Он его тоже в тайге нашёл. А где, не помню. Может, в пещере и нашёл. У меня ещё тогда мелькнула мыслишка, – Толька завертел пальцами и выпятил нижнюю губу. – Думаю, чего ради ему лезть в эту нору. Я уж и не знал, что думать. Чего в ей выискивать? Тайничок, может, какой… Так и оказалось. – Хозяин вытер смазку с воронёного металла и передал винтовку совершенно растерявшемуся гостю.
…– Как новое. Год в бензине отмачивал, пока вся ржавчина не отстала. Потом поворонил. – Толька по-глупому почесал затылок и улыбнулся.
– Сперва поменять хотел. А кому оно без патронов? Да и нарезов в ней уже почти не видно. Видать постреляло ружьишко! С войны, дело известное. Так в курятнике за досками и пролежало. – Толька был очень доволен и от этого не знал, куда себя деть. – Да! Чуть не забыл. – Он вышел из дома и через минуту вернулся, держа в руке свой тесак. Протягивая нож, он немного затушевался. – Это тоже, наверное, ваше. Старый им чушек колол. Брюхо потрошить одно удовольствие. Красивый был. С рисуночком. Конь на ручку наступил, какая сталь выдержит. Пришлось новую делать, – извинился Толька за внешний вид ножа. – Крепкая зараза. Я его так ни разу и не точил. А с этой рукояткой ещё и лучше. Меньше желающих присвоить. Он, конечно, подлиньше был. – Толька сел на стул и замолчал. Всё было сказано.
Наступила тишина. Гость глядел на Толькин нож, поглаживал его лезвие пальцами и тихонько качал головой. Он поочерёдно переводил взгляд на вещи и что-то шептал сам себе. Потом встал, поднял к верху ружьё и гордо произнёс:
– Корэ-ва ниппон-но кидзю орисако! 15
Точно так же он взял нож и таким же значительным тоном заявил:
– Самурай-но наифу. 16 – Он плавно провёл лезвием по воздуху, при этом не скрывая волнения, стал ощупывать пальцами каждый сантиметр поверхности ножа, словно видел его впервые. Катана, – произнёс он старательно, и спрятал нож в чехол. Глаза его сверкали от восторга, а уголки губ подрагивали.
– Аригато. Боку-ва коно тамэ-ни коко-ни кита. 17 – Гость сделал поклон, передал переводчику карабин и уже собрался уходить, но вдруг неожиданно заговорила Толькина жена. Она жестом остановила гостей.
– Я хотела вас попросить, – неуверенно обратилась она к гостю. – Может, вы прочитаете, что там написано, в тетради. Если это можно. – По тому, как хозяйка улыбалась, нетрудно было догадаться, что она очень волнуется. – Хочется узнать. И рисунки там очень интересные. Я даже в музей с ней хотела сходить в городе. А Толя не дал.
– И нечего таскать чужу вешш, – буркнул Толька.
– Да не рычи ты! Ну, почитайте, – обратилась она снова к гостю. – Пожалуйста. Куда вам спешить. Там же немного. А я вам чаю погрею.
– Да сядь ты, – взъелся Толька. Он тоже не находил себе места. – Может, там что личное, неудобно.
Переглянувшись с переводчиком, гость что-то негромко сказал. Парень кивнул и вышел.
Гость открыл тетрадь. На первом листе было изображено море. Рисунок был выполнен карандашом. Многие его части были стёрты временем, но смысл рисунка был понятен и прост. Не касаясь пожелтевшей поверхности, гость провёл пальцами по изображению, словно вчитывался в таинственные иероглифы, занимавшие половину рисунка. Вглядываясь в изображение, он шептал про себя на своём непонятном языке, словно разговаривал с тем, кто когда-то создал этот рисунок. С минуту он молчал, раздумывая о своём. Молчал и Толька, недоумевая, почему японец отправил переводчика.
Утамаро покачивал головой, словно извинялся, и что-то проговаривал про себя, непонятное.
В сером небе чайки чёрные кружат.
Там, за кормой, в светлой дымке, моя Родина тает.
Я мужчина и воин, но слёз своих не стыжусь.
Слова прозвучали так неожиданно, словно заговорил не человек, а камень. Толька с изумлением посмотрел на гостя и увидел впервые на его лице слёзы. Японец оторвал взгляд от тетради и сделал большой и глубокий вздох, словно задыхался.
– Должен изывинится перед вами, – заговорил он медленно, стараясь правильно проговаривать каждое слово, – я знаю русский язык. От отца. Этому меня научил он. Даже зарабатываю на этом, немного.
От услышанного Толька растерялся. Его жена, не в силах сдержать восторга и удивления, улыбалась.
– Как же вы всё это время молчали? Мой Козырев, он же по-человечески говорить не умеет. Он или орёт, или ругается, как сапожник. Мне за его ругань перед всей деревней стыдно.
– Да помолчи ты, – пробухтел Толька. – Сами разберёмся.
– Кажется, мы понимали друг друга. Ведь в тайге говорить необязательно. Я много узнал о вас и без того, – всё так же старательно и не спеша проговорил гость. – И всё-таки прошу на меня не сердиться. Я до последнего не верил, что могу просто говорить на чужом языке, и меня бы понимали. Мне было трудно, изывините.
Наступила неловкая пауза. Толька по-прежнему молчал и что-то размышлял своей седой головой. Потом он тяжело вздохнул и поднялся из-за стола.
– Не пойму я, – голос его был тяжёлым и грубым, – какого… Он, конечно, переться не понятно куда. Набивать себе мозоли. Меня в недоумении держать, не велика важность. Хотя, мне-то каково было. Да всё одно не убудет. Комара кормить для нашего брата дело привычное. Вам-то что это дало? Столько времени таиться. Ведь можно было спросить. Здесь к любому подойди, по-людски, как говорится, спроси, и никто не отвернётся. Это в районе про нас басни сочиняют. А мы что, не люди? Не хуже других будем. Ну, малость погрубее. Дак это от жизни. Я, конечно, наговорил в пути много лишнего. Такой уж уродился. Горбатого, как говорится, могила исправит. За это извиняюсь. Но тебе… Неужели ж мы такие страшные? Да и не правильно это, рисковать здоровьем. Так ведь и сгинуть мог запросто. Ладно мне, лесному человеку, бродить. Не пойму я, никак не пойму.
Толька достал сигарету и закурил. От первой затяжки его, как всегда, пробило жутким кашлем. Он выругался и, затушив сигарету, сунул её в спичечный коробок.
– Это тетрадь моего отца, – негромко произнёс японец, показывая Тольке пожелтевшие страницы, испещрённые рисунками. – До войны мой отец был художником. Он вырезал маленькие фигурки из кости. А ещё он рисовал для книжек. На этом трудно заработать, но он ценил такой труд. Эти рисунки сделаны им.
Он открыл одну из страниц и некоторое время всматривался в изображение, при этом во взгляде чувствовалось его удивление. Рисунок был необычным. Огромное дерево с причудливыми ветвями стояло на морском берегу, о который разбивались волны. Ветки росли в разные стороны, заполняя собой весь лист и давая приют разным фантастическим существам. Не спеша он стал читать:
У лукоморья дуб зелёный,
Золотая цепь на дубе том.
И днём и ночью кот учёный,
Всё ходит по цепи кругом.
Там, на неведомых дорожках,
Следы невиданных зверей.
– Там не так, – неожиданно перебил его Толька. – Пропустил. Пойдёт направо – песнь заводит. Налево – сказки говорит.
– Да, да. Конечно, – извинился гость.
– Я… Я так и думал, что в этих ироглифах. Дети-то до дыр истрепали эту тетрадь в детстве. Вы уж извините. Как цела осталась.
Японец улыбнулся.
– Мой отец мечтал сделать книжку сказок Пушкина для детей. Он очень любил их, и часто мне рассказывал их. Ради этого он выучил ваш язык. Ещё до войны. А потом эта война. Ему нельзя было избежать её, сами понимаете. Потом, когда он вернулся, он говорил, что богаче языка нет. Многие так не думают. Его никто не понимал. В Японии мало читают Пушкина. Очень жаль.
– Он сделал это?
– Нет. Не успел. Это пришлось сделать мне. Я хотел пройти его дорогой. Он много рассказывал мне о вас. Мне не очень просто говорить о том, как он оказался в ваших местах. Во время войны вся Манчжурия была оккупирована Квантунской армией. Вы знаете это. Моего отца использовали как знающего ваш язык. У него здесь было какое-то задание, но про это он не любил рассказывать, но что-то я от него узнал. Я всё хотел увидеть собственными глазами. Писал письма с просьбой, но мне отказывали. Ваши перемены вселили надежду, и мне разрешили.
Ненадолго гость замолчал. От услышанного у Тольки подступил к горлу ком. Он стоял и молча слушал гостя.
… – Поэтому я здесь. Я должен был. Теперь я знаю о нём много больше. Когда он вернулся из плена, его мало кто понимал. Его словно не замечали, как будто это тень. Он говорил, но его не слушали. Потом он долго болел. Ведь пленных не жаловали нигде. Со мной он часто разговаривал на русском языке, даже песни пел. Он очень хотел, чтобы я научился говорить по-русски. Читал мне стихи. Когда я был маленький, мне было очень трудно его понимать. Я даже плакал иногда от обиды, что мой отец был в России. Много его товарищей умерло в плену в ваших лагерях. Очень много. Но он не держал обиды. Он рассказывал мне об этих годах и хотел ехать на время в Россию. Наверное, что-то тянуло его к вам. Я не понимал что, а теперь, кажется, понял. Он много рассказывал. Ему ведь повезло. Он смог вернуться домой. Через десять лет разлуки.
Был вечер. На стене тикали старые часы. За окном по-прежнему светило солнце. Свет его был красноватым. В тёмную комнату сквозь вышитые узором занавески попадали его отблески, выхватывая из сумрака углы старой, добротной мебели. Толька стоял у окна и курил в открытую форточку. Он о чём-то думал. Провожать гостей он не пошёл. Когда звук машин стих, он вышел во двор. Жена всё ещё стояла посреди улицы и махала зарёванным платком удалявшимся машинам. Вечер был тихим и тёплым, высоко в небе летали стрижи, отовсюду слышались звуки обычной деревенской жизни: пели петухи, голосили некормленые свиньи, коровы просились в запертые калитки. Но все эти звуки были частью привычной жизни, частью которой был и сам Толя Козырев, потомственный амурский казак, не знавший другой жизни, кроме той, которую любил и дорожил.
В лицо светило огромное красное солнце. Вечером оно почему-то всегда становилось большим и действительно красным. Толька всегда удивлялся этому, но удивление всякий раз вызывало в нём особое чувство восторга, которое не требовало доказательств и проверки. Солнце было единственным и абсолютным, что не ребовало усилий для его постижения. За прожитую жизнь он так привык к нему, что редко задумывался, насколько оно близко к нему. В обыденности оно просто грело и не более. Смотреть, однако, на солнце было легко и приятно. Оно уже почти касалось земли, расплываясь малиновым маревом по горизонту. На мгновение Анатолий замер, словно увидел это в первый раз. Потом он глубоко вздохнул и присел на скамейку, опустив на колени свои тяжёлые ладони. Это было самое любимое его время. Вечер, самое время для раздумий. Про выпивку он не думал, хотя в другое время не отказался бы. Глядя на красный диск, он вспомнил про флаг, его подарок. Там тоже в самом центре было изображено солнце. Теперь он это знал наверняка. И цвет был точь-в-точь. Его поразило такое сходство. Для всех оно светило одинаково и всем оно было родное. В это мгновение он подумал, что если для всех оно одинаково, то и сами люди мало чем отличаются, разве что внешне. Неожиданно сдавило левую часть груди, стало как-то одиноко в этой тишине, он понял, что будет скучать без Утамаро, без его неподражаемого языка и привычек. Он поискал глазами жену и позвал:
– Надежда! Не стой на дороге, как… – Он запнулся и замолчал, поймав себя на мысли, что готов был сказать что-то грубое. – Посиди вот рядом, погляди, как оно уплывает. Когда ещё такое увидишь.
***
Я люблю свою землю и тот город, в котором прошли моё детство и юность. Там я получил своё главное в жизни образование и стал учителем. Есть в этом городе и особое для меня место – памятник Александру Сергеевичу Пушкину, который я невольно должен был видеть, входя в институт. Я знаю его всё свою жизнь, и казалось, должен привыкнуть к задумчивой, одинокой фигуре поэта, но в какой-то момент он показался мне странным: чувство появилось вдруг, само собой. И чем больше потом я всматривался в знакомые черты, тем больше проникался любопытством к этому странному, на мой взгляд, явлению нашего города. Делая из разных ракурсов наброски отлитой из бетона фигуры, пытаясь понять логику и стиль автора, я не видел в памятнике той монументальности, что присуща классической русской скульптуре, словно он был сделан рукою дилетанта. Не смотря на эти догадки, для меня было очевидно, что памятник был сделан с большой любовью и откровением. Но с какой стати в стороне от культурной жизни той России, где-то на краю земли – вдруг Пушкин. И как оказалось, никто не знал его автора. Вопросы на эту тему мало кого волновали, преподаватели растерянно пожимали плечами, а однокурсники иронически усмехались, дескать, ну, ну.
Так моё любопытство не находило решения, а история выходила из плоскости искусства в послевоенное время, с очередями за хлебом, карточками, и пленными японцами. Они-то, собственно, и достраивали после войны наш институт, и как выяснялось, в завалах брошенного имущества неизвестно каким образом раскопали трёхметровый монумент, а потом поставили на самое видное место.
И всё это забылось за давностью лет, вытесненное более насущными проблемами скоротечных дней и событий, если бы не странный случай.
Цвёл жасмин, земля отдыхала от дневного зноя, из распахнутых окон общежитий доносились весёлые голоса и музыка. В тени деревьев впервые целовались влюблённые, бренчала гитара, а по асфальту, в темноте алей, цокали каблучки одинокой красотки, спешащей на свидание: сладкие и неповторимые мгновения юности.
Опьянённые летом и красным вином и мы сидели тесной компанией на любимой скамейке, и рассуждали о вечном. О Модильяни и Цветаевой, о чёрном квадрате и всё бездарном, что стоит на пути у гениев. Ставили кресты на устаревших догмах и воспевали всё новое и смелое. Молодость… Как она порой категорична. Летели камни в адрес всего ненастоящего и помпезного, досталось и Пушкину, что стоял у главного входа. Тут-то и появилась загадочная личность неопределённого возраста и места жительства, в помятом пиджаке и шляпе, что с удовольствием утолила жажду из нашей бутылки.
Возникнув неожиданно из темноты закоулков институтского двора, где ютился древний одноэтажный каменный барак с длинным общим коридором, она и поведала ту самую, свою правду, проливающую свет на мою историю.
Было это после войны, когда строился второй корпус педагогического института. Тогда по улицам города колоннами и под конвоем водили пленных японских солдат. В своё время это явление породило множество самых нелепых и «страшных» историй, особенно среди детей; сейчас никому и в голову не придёт, что послевоенный Хабаровск во многом обязан своим обликом именно этим невольных людям.
Однажды к начальству строительства обратился один такой пленный офицер, который неплохо говорил по-русски. Предложение его, наверное, не могло не удивить. Знакомый с русской литературой, он предложил украсить фасад главного корпуса, построенного ещё до начала войны, памятником, и лучше всего, по его мнению, для этого подходил образ Пушкина. Этот японский военнопленный сам разработал картон и макет будущего монумента. Всё это он должен был проделать в немыслимо трудных условиях, в которых тогда находились пленные. Знакомый с технологией изготовления скульптуры, он сам активно участвовал в работе: вылепил из глины основу, обклеил бумагой, после чего глину выколотили. В результате получилось папье-маше, которое поместили в яму с опалубкой, и засыпали землёй, чтобы её не раздуло при формовке бетоном. Поразительно то, что заниматься этим он мог лишь в нерабочее время, в основном тёмное время суток, хотя, этому, вполне, могли быть и другие объяснения. Но труднее всего поверить в то обстоятельство, при котором занесённый волей судьбы военный человек, по сути, враг, не только смог проявить свои физические и духовные качества на благо другого народа, но и продемонстрировать глубокие знания и любовь к русской культуре.
Тогда, в поисках справедливости, я рассказывал эту историю всем подряд, но вместо понимания, в лучшем случае, встречал лишь равнодушие.
А ведь и правда! До чего устроен русский человек, со своей вселенской открытостью и доверчивостью, готовый приобщаться к чужой культуре, и не ценить своей. Не зная подлинной истории своего народа, он готов то последнее, что у него есть, – память о прошлом – раздать по крохам другим, в угоду своей щедрой натуры, а потом вновь приобретать, но уже втридорога.
Так и я, взволнованный историей случайного человека, не способный на критический анализ, поверивший какому-то бродяге с полуслова, готов был отдать имя и славу нашего искусства неизвестному военнопленному, кого, возможно, и в природе–то не было.



