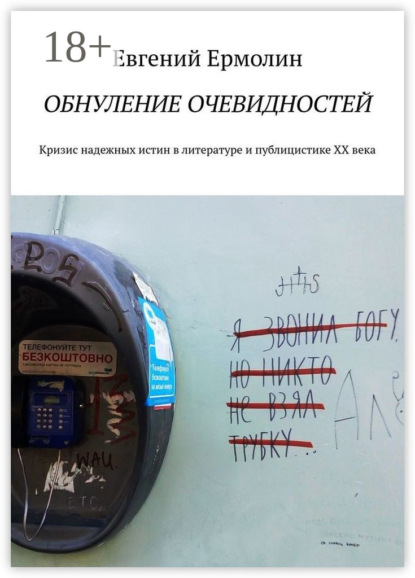
Полная версия:
Обнуление очевидностей. Кризис надежных истин в литературе и публицистике ХХ века: Монография
В культурном подтексте этой сцены – не только, конечно, Гете, но и великая традиция почитания Богоматери и – более конкретно – апокриф «Хождение Богородицы по мукам», и созданный некогда Достоевским с оглядкой на архетипическую фигуру Марии Магдалины образ великосердечной проститутки Сони Мармеладовой. Но и отвлекаясь от этих многозначительных параллелей, нельзя не увидеть в этой минуте встречу человеческих сердец, пусть на один-единственный миг разрушающую «дьявольскую гармонию» серого небытия-одиночества.
Ничто, собственно, не мешает считать, что именно и прежде всего тут, в моменты взаимного участия, (а даже не в культурных воспоминаниях) и сказывается человек в его подлинности, в его настоящем содержании: как вектор коммуникации.
Гроссман на телеэкране
Возможен ли перевод главной прозы ХХ века в телевизионный формат? Да или нет. Этот вопрос снова возник передо мной, когда в 2012 году дошла очередь до телеэкранизации романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Экранизация всегда неадекватна оригиналу, это данность. Все экранизации делятся на те, которые (тем не менее) расширяют опыт современника, и на те, которые адаптируют оригинал к актуальным предрассудкам. Что мы получили на сей раз?
Приспел госзаказ. И фильм Сергея Урсуляка был показан в октябрьские дни 2012 года на главном государственном канале «Россия 1» в праймтайм, между зрелищ и торжищ, пиара и рекламы.
Актеры играют красиво и тонко. Мизансцены, крупные планы, интонации… Военные эпизоды, положенные на музыку Баха и Вивальди (непонятно, но печально, а иначе было бы просто страшно). Атмосфера минувшей эпохи, которую я когда-то в детстве ухватил за хвост, – и с тех пор люблю эту особую породу, тех людей того времени, людей из самого пекла, зрелых, умных, внятных, которые жили бедственно, умирали внезапно, у которых была изломанная, подчас трагическая судьба, тех партизан на фронте жестокого столетия, о которых не так уж много сказано и написано (Пастернак, Гроссман, Домбровский, Азольский…)
Урсуляк снял фильм о суровой и великой эпохе. О беспощадном и требовательном времени, которое требовало от человека отдать все, ничего не оставив себе. О том, как масштаб этой космической, непостижимой миссии ломал людей, которым хотелось простого тепла и всяческих нежностей. Режиссера, да и покойного сценариста Володарского тоже, магнетизирует это притяжение какого-то космоса, давно сгоревшего в костре истории. Да, он бесчеловечен, но что такого ценного в вашей человечине, в этой мягкой ткани и глупых вибрациях? Зато в нем есть «величие». За это и погибнуть не жаль.
Кажется, на этом выводе особенно настаивал Володарский. Ему резко не нравилось то, что писал Гроссман. Жалкий юде. Приговор Володарского публичен [116] и бескомпромиссен: «Это действительно гнилой писатель. Писатель, не любящий страну, в которой он родился и жил». Поэтому сценарист просто «выкинул» те места, где его позиция не совпадала с гроссмановской: «Книга имеет уклон в защиту евреев, грань переходит… я это все постарался убрать».
Но и отважный Урсуляк, примеряя неношеную гимнастерку и принюхиваясь к кирзе, с примесью высокомерного апломба объявлял, что он «не согласен» с Гроссманом, «слишком» ценившим свободу. Что тот какой-то не такой: не патриот масштаба, слишком любит не «родину», а эту ненадежную и жалкую человечинку.
В итоге состоялся фильм, в чем-то похожий на роман Гроссмана. А в чем-то непохожий. Фильм о жестокой стране и большой войне, в котором иногда идет своя война: между Гроссманом и Урсуляком-Володарским. Кто побеждает, однозначно не скажешь.
В сериале есть немало поводов для сочувствия. Когда вдруг перехватывает горло и на глаза просятся слезы. Здесь побеждает старина Гроссман. Здесь лучшие наши актеры плывут по его волне и становятся его союзниками, открывая личный второй фронт. Они даже начинают думать в кадре, что казалось совершенно немыслимым форматом на нашем нынешнем ТВ.
Да, говорит писатель, эпоха уничтожает человеческое в человеке, перемалывает эту самую человечину в стальных жерновах, но бедствующий человек, выживая или умирая, сохраняет ту сердечную растраву, ту неоприходываемую душевность, которые созвучны Иоганну Себастьяну Баху. Люди обживают страшную эпоху, и даже в самом эпицентре смертельной схватки, в Сталинграде, «управдом» Греков, держащий оборону со своими бойцами в доме 6/1, создает среди руин подобие братской общины.
Конечно, нельзя забыть, что фильм получился отчасти еще и о «сдаче и гибели советского интеллигента», его унизительной слабости и двусмысленных самооправданиях. Но, во первых, и этот сюжет на фоне ТВ-примитива как минимум небанален. А во-вторых, метания сыгранного Маковецким Штрума все же позволяют и зрителю взвесить на весах совести ценность того или иного поступка. Нелишний труд и сегодня, как указали многие из рецензентов. Ну да, случается и выбор в пользу зла. Но мы успеваем понять, что зло есть зло, а продиктованный страхом выбор не оправдывает того, кто его совершил. Успеваем устыдиться или хоть призадуматься.
Гроссман, кажется, и в Бога не верил, так что ему только и оставалось верить лишь в это нестойкое тепло, в этот запах нежности, в дымок от папиросы, в поцелуи и слезы, в то, что было так легко растоптать и уничтожить, истратить бессчетно и бессмысленно.
Нет, осмысленно! – педалирует двукратный лауреат премий ФСБ Урсуляк. Люди работали на величие государства, люди ковали победу, приносили себя в жертву ради идеи. Людей тратили не зря.
В сериале нет ни Сталина, ни Гитлера, которых Гроссман, напомню, уравнял как персональное средоточие бесчеловечности. Словно бы они вынесены в сферу абсолютных величин, которые непостижимы и неизобразимы. Отправим Гитлера в аут, а что касается Сталина, то режиссер будто намекает на то, что тут тот предел, о котором уместно лишь молчать. Правда, однажды мы все же услышим его голос: этот небожитель позвонит ученому Штруму, чтобы спасти того от опалы и беды. Характерно.
На экране нет и другого полюса тогдашнего мироздания: нацистских и советских лагерей. Там нет гетто, газовых камер и расстрелов. Но по логике парадокса, внелагерная вроде бы жизнь чем-то напоминает лагерную. Свободы в ней, может быть, даже меньше. Доносы, унижения, предательства, вынужденная подлость и подлость добровольная и радостная… Есть внутреннее рабство, его, увы, всегда было много в России, сколько бы ни учили нас писатели-классики выдавливать из себя раба. А несколько сцен в чекистских застенках так густо передают аромат предбанника ада, что никакой бани уже не нужно.
Мой приятель писатель Б., насмотревшись на ужасы Лубянки в сериале (где пытают, ломают и все никак не сломают комиссара Крымова), выразился в том духе, что тем самым нам дан урок. Смотрите, мол, сравнивайте. Вон как было плохо, а теперь же не так. А ведь могло бы быть и так. Цените гуманность режима. …И мы, мол, ценим.
Я думаю, главный урок другой. Все-таки современность не вымогает у нас подлостей, шантажируя отъемом жизни, это факт. Каждый, кто подличает, делает это по личному, так сказать, вдохновению, задешево. А основной мессидж Урсуляка обращен и низам, и верхам нашего замысловатого общества. Режиссер укоряет: куда пропало величие? Где подвиги? Где битвы? Одна кругом суета. И томление духа.
И разве ж нет? Возьмем сетку вещания, посмотрим программы, которые предшествовали сериалу или следовали за ним… Небо и земля. Как мелко, как фальшиво, как подчас ничтожно. Все на продажу. Кругом пиар.
Сменился язык. Другие взгляды и жесты. Другие интонации. Нет величия. Нет судьбы, ни в инете, ни в офлайне.
Впрочем, мы не обязаны доверять этим магическим пассам. Есть жизнь и по эту сторону телеэкрана. Некоторые сомневаются, но все-таки есть. И это иная жизнь. И даже несложно приноровиться находить ее там, где сквозь привычные цинизм и жестоковыйность, сквозь цемент равнодушия прорастают семена великодушия, бескорыстия, добра.
Да и режиссера Урсуляка не будем демонизировать. Не вполне получается у него быть державником. Если б он не умел, он не рассказал бы так тонко, как получилось в фильме, о мужчинах и женщинах, о любви и дружбе, о людях, которые тянутся друг к другу через смертельные пространства и не верят в расстрельные списки. И неодиноки, как бывает. Всех их вытаскивает из бездны одиночества, из водоворота бед рука и слово близкого человека… Не всегда спасает, но хотя бы дает внутреннюю опору. Может быть, главное событие в фильме – это жертва Жени Шапошниковой своим чувством к яркому и успешному мужчине ради поддержки нелюбимого, да и не стоящего ее мужа, попавшего в капкан судьбы. Кажется, на нашем ТВ так рассказать про это сейчас не умеет больше никто.
Хотя иногда кажется все же, что именно Гроссман и актерская команда переиграли хитроумных сценариста и режиссера, отчаянно пытавшихся придать картине традиционное звучание, посвятив ее подвигу народа, взятого суммарно и абстрактно, как некий монолит. Но не справившихся, потерпевших поражение перед лицом и по факту гроссмановского текста, звучание которого можно убавить, но слишком трудно исказить.
Говорят, что лучше фильма о советской эпохе и о великой войне на нашем ТВ не было.
Человеческое у Виктора Некрасова
Мир самой известной книги Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» населен людьми абсолютно безвестными, в наличии прототипов которых не приходит в голову сомневаться. Потому что таков авторский подход к жизни и к творчеству: от живых людей, разве что лишь слегка переименованных. В книге и впечатляет конкретность человеческого бытия, как точка отсчета, как альфа и омега художественного мира и вообще восприятия реальности. Человеческий масштаб. Не карта генштаба. Не замыслы полководцев. Не приказы вождя. Не какие-то иные универсалии, религиозного, философского, идеологического, политического порядка. Не то чтобы абсолютно все они себя скомпрометировали. Но… не востребованы.
Важен и значим у Некрасова всякий человек, в его живой внеидеологической сути, с его радостью и болью, обреченный на страдание и смерть, приговоренный к пораженью, но пытающийся победить.
Человеческое во главе угла делает понятным место Киева в некрасовском повествовании о Сталинграде. Киев – место, в одушевленных человеческим присутствием декорациях которого протекала во всей ее невыразимой и выразимой конкретности жизнь, с друзьями и приятелями, с родными людьми, с любимой девушкой… Малая родина – это родные люди.
Главная потеря, главная тревога – это близкие. И там, в Киеве, и здесь в перипетиях отступления и в окопах Сталинграда. Сама война – это общий труд, соединивший не народы и страны (которые маячат где-то на горизонте сознания мутными миражами), а конкретных, гибнущих и выживающих людей, людей на грани бытия, на критическом перекрестке судьбы.
Им выпало стоять тут. И они стоят, каждый по-своему, с разной степенью отваги и удачи, чувства долга и страха смерти… Книга стала гимном и реквиемом этим людям.
Способом такого стояния является и сама книга Некрасова, вообще его писательский труд, труд жизни – на фронте, а потом в перипетиях так называемой мирной жизни, протекавшей у него в бореньях с мерзкой, густопсовой эпохой и в творческом преодолении ее.
Книга – свидетельство очевидца. Это придает ей качество предельной достоверности. Да. Но и важнее еще другое: это записки человека, который не просто жил, а выполнил свою человеческую задачу, свою миссию в мире. У каждого поколения, да и у каждого человека, мы знаем, есть такая миссия. Пусть не все о ней догадываются.
Сегодня о войне пишут те, кто не воевал. Они решают какую-то свою задачу и выполняют свой творческий труд, делая работу духа и побеждая вязкую и тинистую, почти напрочь лишенную позитивной энергетики материю современности. Что делают с «военной темой» ХХ века современные авторы? Три пробы.
Одинокий человек в чуждом мире. Вячеслав Ставецкий, «Квартира». Экзистенциальная мистерия одиночества и невыходимости из фатальных обстоятельств в том же, что и у Некрасова, хронотопе военного Сталинграда. Один из ярчайших художественных манифестов современного пацифизма – призыв обреченного одиночки к миллионам покончить с распрями и обняться в едином душевном порыве. «Alle Menschen werden Brüder…» О да.
Абсурд / самоиграющая мнимость. Андрей Олех, «Безымянлаг». Роман о противоборстве идеологических фантомов и человека, в конкретности его существования, его попытки выжить и уцелеть в обстоятельствах, которые заданы не для этого, а для гибели и небытия, для полной безымянности. Эта тема, в свое время виртуозно расписанная Анатолием Азольским [см.: 36; 72—83], у Олеха обретает новую жизнь, новое выраженье.
Мифология. Сергей Самсонов, «Соколиный рубеж». Новая Илиада, героический (ироикомический?) эпос, противоборство современных Ахилла и Гектора в жестоком контексте эпохи, когда героический вызов и эпическая вина оборачиваются в новых координатах парадоксальной драматикой победы, в итоге трудно отличимой от пораженья.
Слово в контексте контркультуры
Уже у Некрасова дают о себе знать веяния контркультуры – глобального контекста мировой жизни во второй половине ХХ века.
В историко-параноидальном театре ХХ века литература была назначена на роль военно-полевой кухни, где производились и раздавались нужные слова. Мир казался зыбким и непрочным, война в горячей и холодной формах представлялась узаконенным обычаем, а отмобилизованный и обмундированный идеологиями военной, солдатской эпохи человек не всегда умел как-нибудь уцелеть.
Не сказать, чтоб это нравилось каждому художнику или принималось всеми как норма, но привкус фатальности был зачастую в искусстве, рожденном в пекле эпохи.
Однако в середине ХХ века складывается массовая активная, неангажированная официозом альтернатива войне, насилию, смерти, идеофантазмам и всему этому социальному бедламу, разнообразно разворачиваясь в пространство контркультуры.
Контркультура – это движение, отвергавшее лицемерие и ложь, насилие и жестокость, поднявшее на свои пестрые знамена слова «свобода», «искренность», «естественность». Под ненадежным ядерным зонтиком оно противостояло тоталитарным идеологемам, как откровенно иррациональным, так и мнимо-рассудочным, воспринимая их (и не без оснований) как главное средство истребления жизни.
Контркультурное движение, развернувшись очень широко и часто победоносно, по самой своей природе исключало монополию и спайку всех со всеми. Оно дробится и на Западе, и в советском контексте на самые разные потоки и направления, как в искусстве, так и в жизни. В пределах одной и той же культурной волны, одной генерации в литературе созревали самые разные возможности. И там где для одних достаточно необычного прикида, другие ищут нового состояния сознания, новых способов мироустройства, новых идей (которые «на выходе» нередко оказываются вечными). От сексуальной революции до Иисус-революции, от Хейт-Эшбери до Парижа весной 1968-го и хиппистско-богоискательской Москвы 1970-х – 1980-х страшно неблизко, хотя, может быть, не так уж и далеко в корнях, в истоках.
Контекст контркультуры предполагал и проблематизацию слова как носителя смысла. Предполагал и критику рацио как элемента диктата и манипуляции. Но он же не исключал словесных форм фиксации личных истин (начиная от Сэлинджера и Виана, битников и Виктора Некрасова).
В недавнее время Георгий Кнабе рассуждал о смыслоформирующих культурных эпохах в советской истории. Они мыслились им как целостные домены идей и практик, как моменты, обладающие «своим особенным историческим смыслом», характеризующиеся «своей цивилизацией, своим общественно-философским умонастроением, своей человеческой атмосферой, тоном повседневной жизни, колоритом материально-пространственной среды». Кнабе выделяет три таких эпохи в период после 1917 года три: межвоенные 20-е – 30-е годы; 60-е (с пространным эпилогом в 70-х – 80-х годах) – и заключительные десятилетия века. Кнабе вполне справедливо фиксирует, что «при всех национальных особенностях то были эпохи общемировой (или, во всяком случае, общеевропейской) истории; явления каждой из них, в том числе и российские, имеют международный контекст и вне его остаются не до конца понятными или предстают в искаженном свете» [50; 1043].
Советская версия контркультуры составляет основное содержание той литературы, которая в 1950-х – 1980-х годах находилась в споре с социально-политическим официозом. Советский контркультурный опыт был довольно специфичен. Это литературно-публицистическое движение представляло собой как открытый андеграунд, так и разные форматы подцензурности. Его носители представляли собой общность особого типа, не слишком (особенно поначалу) похожую на западных битников или хиппи. Человеческий ресурс и плацдарм контркультуры в советском обществе – советское «потерянное поколение». Оно возникает и формируется как результат двойной историософской чеканки. Эта культурная генерация появляется сначала как симптом отталкивания от имеющегося статус кво в пользу ретроутопии революции и раннесоветской цивилизации, а потом, в итоге, – как результат катастрофической потери и ретроутопического образца.
Двойной рефлекс советской потерянности – сначала разочарование в актуальной советской практике и обольщение первоначальной эпохой комиссаров в пыльных шлемах (своего рода эмоциональный неотроцкизм), а потом развенчание и этого пресловутого комиссарства, разуверение, постепеннее, – в советской идеологии.
Еще раз отметим, советское потерянное поколение оказалось «потеряно» по отношению именно к советскому настоящему и к советскому прошлому, в итоге ко всему советскому проекту, к заветной сказке мировой революции (а не только к зловещему фрагменту эпохи, Второй мировой войне). Этого не было или почти совсем поначалу не было в подчас более наивном и «юношеском» контркультурном опыте Запада, и тогдашним проницательным московским наблюдателям (которые сами были не чужды контркультурному опыту) оказалось поэтому возможно говорить об «инфантилизме» как такого опыта определяющей черте [29]. На Западе контркультура не связана с подробным опытом изживания прошлого как прекрасного мифа, обернувшегося большой ложью. Это чаще и больше, начиная с Виана и Сэлинджера, битников и первых рок-музыкантов, – юношеское исходное отторжение от истэблишмента как исходный смыслоформирующий импульс, не знающее предварительной близости априорное дистанцирование от «культуры отцов» с ее пафосом организованного насилия и принудительного переустройства бытия.
Западная контркультура моложе, ее опыт проще и в своих истоках более целен. Травма потерянности ее агентам, как правило, несвойственна. «Их объединяло разочарование в организационно-коллективистских ценностях довоенной эры, в соответствовавших им нравственных постулатах, в возвышенных, а подчас и напыщенных словесно-идеологических формах их выражения; объединяло ожидание демократизации жизни, простоты, свободы и равенства, обещанных правительствами в ходе борьбы против гитлеровского тоталитаризма, но теперь не спешившими платить по векселям; объединяло стремление выразить свой протест, свое разочарование и свои ожидания на принципиально новом, еще не изолгавшемся языке – на языке бытового поведения, вкусов, вещей, способов организации досуга и материально-пространственной среды; объединяла потребность вырваться за пределы этики спускаемых сверху и внутренне ни на чем не основанных диктатов и запретов, за пределы культуры, монополизированной и регулируемой государством, вернуть этике и культуре прямое и простое, непосредственно человеческое содержание. Короче, их объединяли с небывалой остротой пережитая ситуация отчуждения от государства традиционной общественной структуры и культуры и страстная потребность нащупать из этой ситуации выход» [50; 22].
Возьмем здесь в качестве примера литературные проекты и опыты Юрия Казакова, Алеся Адамовича, Владимира Личутина. Но начнем с Булата Окуджавы – в глобальном и связанном с ним локальном советском культурно-исторических контекстах контркультуры – как рефлексе и средоточии ее проблематики.
Окуджава. Как он дышит, так и пишет
Контркультурное смыслопорождение определяет значимый вектор искусства и является отчасти самой ситуацией художественного творчества в те десятилетия, на которые пришелся расцвет творчества Окуджавы. Кнабе произвел замечательные соображения, порознь о специфике контркультуры – и об историческом месте Окуджавы. По мысли этого исследователя, жизненное призвание Окуджавы реализовалось в основном в пределах второй из прописанных им эпох в отечественной истории ХХ века. 1960-е годы как самостоятельная культурная эпоха начались в Западной Европе между 1955-м и 1958-м, в СССР – в 1956 году, когда Окуджава и выходит на авансцену искусства. Точнее, Кнабе фиксирует двухэтажность культурного строения, не обязательно, наверное, совпадающую с делением советской культуры на официоз и андеграунд, но навевающую подобную ассоциацию, – и прописывает живую контркультурную динамику на, как он выражается, «нижнем этаже» [50; 1044], нужно понимать, что это не эстетическая оценка, а версия социальных фактов.
Для Окуджавы и его ровесников сначала заманчивые, а после обманные советские 20-30-е годы – это та нестабильная ретроспекция, которая постепенно, но неуклонно трансформируется и создает в сознании поколения советский аналог мировому опыту потерянности, социальной невостребованности, «лишнести». Реформация по-советски не удалась, возвращаться оказалось некуда. Сдает свои позиции и уходит прочь «романтика очищенного, интеллигентного, мифологизированного революционного социализма» [50; 1048], некритически усвоенная как противопоставленный лжи, лицемерию, своекорыстию актуальных советских элит исторический отмер и эталон. Поколение теряло, изживало иллюзии, заново оценивая (уценяя) и смысл советской цивилизации, и этапы ее большого пути, и – попутно – значение и литературы советского типа.
Перечислю несколько моментов сходства западной и отечественной вариаций контркультуры, которые вполне отчетливо считываются в жизни и творчестве Булата Окуджавы.
Первое. Приоритет свободного жизненного стиля и его художественных выражений (сопровождения) над рассудочными идеологемами и жесткой понятийной дисциплиной.
Второе. Контркультура вдохновляется не идеологическими абстракциями, а практической моралью. Причем базисной ценностью всех практик объявляется и культивируется естественность и ее аналоги-псевдонимы (скажем, «искренность» у одного из первых советских спикеров нового веяния, Владимира Померанцева). Авторские интерпретации естественности могли быть самыми разными, но очевидны ее постоянные антиподы – насилие, принуждение, война, террор, деспотизм, лицемерие. Как замечал Кнабе по поводу аналогичного явления, рока, главное в нем – это «нравственная позиция и тип существования, „неписаный кодекс чести“; что основой этого кодекса является противостояние: „Я против них, кто бы они ни были“, и чувство среды: „Есть они и есть мы“; <…> противостояние это носит не социальный или политический, даже, скорее, не идеологический, а экзистенциальный характер» [50; 20—21].
Третье. Выражение жизненного стиля контркультуры – это искусство особого рода, возникшее в СССР и в Польше, по сути вполне оригинальное и отделенное, обособленное от того, что считает искусством истеблишмент и что определено таковым в искусствоведческом талмудизме: новый художественный синтез, искусство на грани поэзии и музыки, усвоенных потому что они для контркультурного художника наиболее «естественны», внерациональны и в итоге личностны. В том числе – «искусство авторской песни». Это не певшие и помимо всякого контркультурного контекста Брассенс, Брель, Пиаф, Монтан или Коэн и другие американцы с их особой демократической культурой, органическими связями с местной демократической традицией.
Четвертое. Это искусство, зачастую значимое не столько как самодостаточный, завершенный артефакт, сколько как повод для коммуникации (что в принципе свойственно, как известно, актуальному искусству второй половины нашего времени и второй половины ХХ века вообще). Тесно связанное с жизненным стилем, оно тяготеет к живой коммуникации (хэппенингу), к неформальному общению, чаще – к кружковой локальности, чем к глобализму. Его инструмент – гитара, чтобы петь в небольшой компании, среди друзей, в гостях). Это создает метко охарактеризованную Кнабе (с отсылкой к стихотворению Юлия Кима «Московские кухни», 1988) атмосферу неформального общения: «самодеятельный туризм по красотам русской природы, по полуразрушенным монастырям и церквам, бесконечные вечера столь же самодеятельной поэзии и песни, дискуссионные клубы «физиков» и «лириков» в наполовину освободившихся от завесы секретности академгородках – Обнинске и Протвине, Пущине и Черноголовке, знаменитые московские кухни в дешевых окраинных жилищных кооперативах, где «магнитофон системы «Яуза» до четырех утра хрипит что-то недозволенное, и студенческие общежития, где бушует новая и молодая демократическая кровь» [50; 1045].



