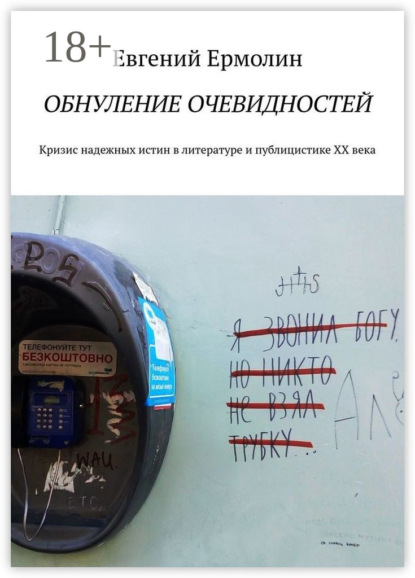
Полная версия:
Обнуление очевидностей. Кризис надежных истин в литературе и публицистике ХХ века: Монография
Ввергнутый в хаос и бред иррациональной жестокой истории, не имея больше возможности затвориться от стихии в стенах семейного дома, консерватор поневоле становится обличителем, почти пророком, вроде ветхозаветных Исайи и Иеремии. Он берет на себя ответственность и риск судить страну и народ – по логике, заложенной в ветхозаветных пророческих книгах.
Правда, тон Розанова гораздо мягче, чем в архетипическом тексте: «Мы, как и евреи, призваны к идеям и чувствам, молитве и музыке, но не к господству. Овладели же к несчастию и к пагубе души и тела 1/6 частью суши. И, овладев, в сущности испортили 1/6 часть суши. <…> Только пьянство, муть и грязь внесли. <…> Но принесли ли мы семью? добрые начала нравов? трудоспособность? Ни-ни-ни. <…> Не будь хулиганом, – о, не будь хулиганом, миленький».
Масштабом русской судьбы мерит происходящие события и Алексей Ремизов, автор «Слова о погибели Русской земли», поэмы в прозе, созданной в конце 1917 года. «Были будни, труд и страда, а бывал и праздник с долгой всенощной, с обеднями, а потом с хороводом громким, с шумом, с качелями.
Был голод, было и изобилие.
Были казни, была и милость.
Был застенок, был и подвиг».
Ремизова впечатляла сама полярность жизни. Он эстетически вдохновляется этим контрастом и любовался вершинами русского духа. Но «где нынче подвиг? Где жертва? Гарь и гик обезьяний». Беда в том, что конец наступил, обещанные знамения явились – а Спаситель медлит.
«Тьма вверху и внизу.
И свилось небо, как свиток.
И нету Бога».
Третий Рим, это эсхатологическое царство правды, с которым то сознательно, то неосознанно отождествлялась Россия, кончился, не оставив наследника. Наступил единый «конец без конца», полный обрыв в беспросветную бездну. На пороге вечного мрака (вспомним розановское «Он гонит ее из-под солнца») Ремизову остается выплакивать свое горе, нанизывая на черную нить отчаяния все новые мрачные образы, передающие чувство подступающего небытия.
Причина же случившегося фиксируется недвусмысленно: Россия получила возмездие за грехи. «За то ли, что клятву свою сломала, как гнилую трость, и потеряла веру последнюю, или за кровь, пролитую на братских полях, или за кривду – сердце открытое не раз на крик кричало на всю Русь: „нет правды на русской земле!“ – или за исконное безумное свое молчание?»
Культурной альтернативой отчаянию консерваторов был сплав хилиастических и манихейско-гностических настроений в авангардном общественном кругу. В эти дни и месяцы появляются одиннадцать поэм Сергея Есенина, в которых объявляется о новых истинах и предсказан идущий на смену ветхой Руси небывалый «град Инония», архетипическим прообразом которого является Великий город, сходящий с неба в Откровении Иоанна Богослова. О «христианском рае на земле» еретически говорит в это время и Николай Клюев. Певец пролетариата Владимир Кириллов провозглашает в крайне патетических выражениях пришествие нового «Спасителя», «Железного мессии», с которым «победим мы иго судьбы, мир завоюем пленительный»:
Думали – явится в звездных ризах,В ореоле божественных тайн,А он пришел к нам в дымах сизыхС фабрик, заводов, окраин.В каждой из этих позиций есть, в общем-то, оттенок предвзятости. Происходящее оценивается в зависимости от соответствия априорным убеждениям критиков и апологетов глобальной катастрофы, их идеальным проектам. Иначе получается это у Александра Блока. Его поэма «Двенадцать» – это клубок смыслов, откуда невозможно выдернуть какую-то одну – красную, черную или белую – нитку для объяснения авторского кредо.
Ночь и хаос, коловращение вьюги. Но – нет ни морали, ни упрека. Есть активное и, кажется, целеустремленное движение: вьюжную замять пересекают двенадцать красногвардейцев, уходят в переулки, в сугробы, – «вдаль», убивая по дороге Катьку. Где конец слепому снегу, мрачному вечеру, резкому ветру и этому бесконечному походу двенадцати? На этот вопрос Блок отвечает финальным образом поэмы, стягивающим к себе разброд жизненных картин, а может, и придающим шествию двенадцати некий смысл:
…Так идут державным шагом —
Позади – голодный пес,
Впереди – с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди – Исус Христос.
Этот образ, возвращающий к евангельской архетипике, задал происходящему в поэме особую меру. Дохнуло вечностью, двенадцать вояк чуть ли не приобщились к «апостольскому чину», а старый мир был развенчан и отвергнут, как в евангельские времена.
Вскоре после публикации поэмы близкий в то время к Блоку Иванов-Разумник пытался объяснить, в чем состоит ключевой смысл финального образа: «кроме внутренней свободы, возвещенной христианством, в мир должна прийти свобода внешняя – полное освобождение политическое, полное освобождение социальное. <…> очистительная гроза и буря мировой социальной революции таит в себе великую правду. <…> И за эту правду, помимо их („двенадцати“ – Е.) воли через них идущую в мир, поэт „белым венчиком из роз“ украшает чело великой русской революции» [30; 559—560]. В этой интерпретации поэма выглядит как реабилитация революции и тех «двенадцати», которые, конечно, разбойники, но разбойники из тех, коим обещано Царство Небесное.
Впоследствии в советской традиции речь шла не о реабилитации революции, а об ее «благословении» и принятии «ее конечных целей и идеалов» [98; 128]. В более замысловатой интерпретации Леонида Долгополова Христос – цель для революционной стихии, воплощенной в красногвардейском отряде и во всем строе образов и звуков поэмы. Это – разрешение «проблемы исхода, результата», эмблема космической гармонии. Здесь – конец пути и «залог совершающегося преобразования, внутреннего перерождения человека, выхода из стихий и «хаоса». Исследователь полагает, что красногвардейцы уходят из хаоса, мало-помалу становятся ему враждебны, чужды той вьюге, которая метет по страницам поэмы, – тем самым приближаются к Христу: «внутри самого этого шествия намечается и свое скрытое движение, такое же символическое и такое же многозначное: преодоление героями «стихии», т.е. преодоление самих себя, и «выход» к конечной гармонии» [32; 195, 202]. В этой последней версии Христос – уже не личность, а знак, абстрактная идея. Он атеистически рационализован и тем самым «обезврежен».
Однако возможно и альтернативное истолкование главного образа поэмы и ее итогового смысла. Так ли уж, на самом деле, походит она на оптимистический гимн о духовном совершенствовании и грядущей гармонии? Конечно, в 1917 – начале 1918 года Блок был близок к левоэсеровскому кружку «скифов», дополнял фантазии и бред этого движения о близящемся торжестве хилиастического идеала тысячелетнего царства Христова на земле – своими; об этом немало записей в его дневнике 1918 года. Он ищет и находит точки соприкосновения с Клюевым и Есениным, с их тогдашним оптимизмом и верой в пробуждение народа, в крестьянское царство. Не случайна старообрядчески-сектантская форма имени Христа в поэме. Тем самым Христос как будто приближен к простонародью, к сектантским мифам о Беловодье и прочих райских землях посюстороннего мира.
Но, с другой стороны, характерно, что пребывавший в фазисе скептицизма Максим Горький определил поэму совсем иначе, о чем и доложил, по свидетельству Корнея Чуковского, автору: «Это самая злая сатира на все, что происходило в те дни» [30; 614].
В 20-е годы Виктор Жирмунский утверждал, что речь в поэме не о политике и не об идеологии – в центре ее религиозно-нравственная проблема. Речь идет «о спасении души – во-первых, красногвардейца Петрухи… затем – одиннадцати товарищей его, наконец, – многих тысяч им подобных, всей бунтарской России». Но можно ли ожидать оправдания и спасения? Жирмунский указывает на покрывающее «победные мотивы народного бунта настроение безысходной тоски, пустоты и бесцельности жизни, тяжелого похмелья»: в его трактовке «религиозное отчаяние… следует за опьянением религиозного бунта» [42; 213—214, 216].
Блуждающая по Петрограду горстка красногвардейцев заплуталась на перекрестках. Вьюга слепит глаза, «в очи бьется красный флаг», тьма выедает душу – нет иного выбора, кроме бесконечного, бесцельного, почти абсурдного пути, кроме «державного шага», прерываемого многочисленными отточиями. «Вперед, вперед, Рабочий народ!». Душа пуста, любовь убита, пожертвовано самым дорогим, больше – «ничего не жаль», остается только покрикивать: «Кто еще там? Выходи!» «Кто в сугробе – выходи!..» «Эй, откликнись, кто идет?» – и уж вовсе несуразное: «Кто там машет красным флагом?» Что-то им все время мерещится, блазнит, приходится и постреливать – наугад, по каким-то призрачным, обманчивым целям. «Кто там ходит беглым шагом, Хоронясь за все дома?» Да кто ж, действительно, там ходит; кто там ходит, «от пули невредим» (путеводительствующий? преследуемый)? Стреляй по нему – не стреляй, это он – «с кровавым флагом»: знай машет. И никак его хорошенько не разглядишь.
Автор статьи «О Блоке» (предположительно о. Федор Андреев) пишет: «В плане тематики литературной поэма восходит к Пушкину: бесовидение в метель (Бесы). <…> Характер прелестного видения, пародийность лика являющегося в конце поэмы „Исуса“ (отметим разрушение спасительного имени), предельно убедительно доказывает состояние страха, тоски и беспричинной тревоги „удостоившихся“ такого видения. Этот Иисус Христос появляется как разрешение чудовищного страха, нарастание которого выражено девятикратным окриком на призрак и выстрелами, встреченными долгим смехом вьюги. Страх тоски и тревоги – существенный признак бесовидения» [73; 95—96].
Так свет или мрак в конце поэмы? Обетование или проклятие? Выходят ли куда-то несчастные красногвардейцы, или попытка «соединить Христа с громилами» (Чуковский) – неудавшееся чудо? Наконец, Христос ли, бес ли, демон в конце поэмы мерещится окаянным скитальцам? Не всадник ли это, «которому имя «смерть» (Откр. 6.8)? И не ведет ли путь в геенну?
Самые разные, причем предельно полярные толкования поэмы – явление озадачивающее. Хочется думать, что дело не в нехватке ума у толкователей, а скорее в его избытке. Блок же шел своим путем, не совпадающим с маршрутом красной дюжины, не говоря уж о «барыне в каракуле» и прочих персонажах.
Поэт отказывает России в будущем: «Неужели Вы не знаете, что „России не будет“, так же, как не стало Рима? <…> Что мир уже перестроился? Что „старый мир“ уже расплавился?» [18; 7: 336]. И в то же время с мучительным напряжением задает себе вопрос: «Если распылится Россия? Распылится ли и весь „старый мир“ и замкнется исторический процесс, уступая место новому (или – иному); или Россия будет „служанкой“ сильных государственных организмов?» [18; 7: 280]. Эта неопределенность, иррациональность очень характерна для блоковского переживания реальности. Смолоду и до конца почти он настроен на волну мистики, угадывает в сущем что-то иное, невнятное, но заманчивое. Предчувствует, предощущает, прислушивается и всматривается в незримое и неслышимое.
После революции поэт настраивает себя на ее музыку, пытаясь услышать то, что не слышал еще никто. И когда 29 января 1918 года, в день завершения поэмы, он пишет «Сегодня я – гений» [17; 387]. Это – свидетельство огромной самоуверенности мистика, проникшего за край здешней реальности. Здесь никто ему больше не указ. Он слышал шум – страшный, небывалый, и ему показалось, что рушится вся цивилизация. И, кажется, он видел некое светлое «пятно», «белое как снег» [18; 3: 629].
Пусть Зинаида Гиппиус в шоке объявляет Блока бедным, «потерянным» ребенком, едва ли вменяемым [27; 32—33]. Блока задевает это мнение, но оно не может его разубедить. Точно так же и рассуждения советской гранд-дамы Ольги Каменевой о том, что в поэме «восхваляется» Христос, а это «то, чего мы, старые социалисты, больше всего боимся» [17; 394], вызывают у Блока похвалы ее уму, но не убеждают его в главном.
Это мистическое самообольщение чревато было немалыми соблазнами, и, по сути, четкой грани между подлинным духовидением и многоразличными наваждениями Блок никогда не мог провести. Однако как мистик он снял с себя ответственность за результаты своего опыта. Музыка лилась сквозь него, сама по себе. Его делом было передать «шум» адекватно, совпасть с нею. Религиозный модернизм Блока – весьма характерное для его эпохи явление, оставляющее, как правило, сомнения относительно качества мистического опыта претендентов на духовидение. Особенно наглядно проблематичность этого опыта у Блока демонстрируется его пониманием Христа.
С одной стороны, Христос у Блока часто связан с высотой, со страданием, с надеждой, с бедностью и бездомностью, с запредельностью и неотмирностью, – понятиями и ценностями, имеющими положительное значение в мире поэта. С другой стороны, есть невероятно грубый набросок пьесы о Христе 7 января 1918 года [18; 7: 316—317]. И, наконец, знаменитая фраза в дневнике: «Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак» [18; 7: 330].
Недавно феминичные черты в образе блоковского Христа вызвали к жизни интерпретацию поэмы, в соответствии с которой смысл ее неявная апология десексуализации, демаскулинизации, просто сказать – оскопления, понимаемого как буквально, так и сублимированно [115; 59—139].
В сущности, «Исус Христос» у Блока списан поэтом с себя. И сложное, противоречивое отношение Блока к нему – это проекция его отношения к себе. Глубин же духовного зрения здесь часто нет вовсе.
Потрясения эпохи одни приняли как катастрофическое начало Страшного Суда и «лакейское осатанение русской души» (Розанов), другие – как наступление хилиастического рая на земле. Блок избегал рационалистической риторики и дидактики. Вселенская буря пережита им как ключевое событие жизни, схвачена всеми чувствами, включая пресловутое «шестое». Через его поэму прошла эпоха – и в ее событиях, и в ее огромных надеждах. Оттого поэма не поддается однозначной трактовке. В ней есть открытость, свойственная самой эпохе, продиктовавшей поэту ее строфы.
Финал поэмы, вероятно, столь же оптимистичен и перспективен, сколь ужасен и безысходен. Нет ясной, жизненной, исторической альтернативы блужданию в потемках за призраком. И в этом было по крайней мере столько же правды, сколько было ее в суждениях разнопартийных критиков поэмы. Однако в итоге приходится констатировать, что слово Блока не справилось с гулом и лязгом подступавшей эпохи. «Двенадцать» – арабеск триумфа и отчаяния, но исход из мира поэмы – это скорее всего путь по скользким ступеням в подвал чрезвычайки на Гороховой улице.
Кульминация минувшего столетия, где ни возьми, ужасна. Это мир абсурда, упраздняющего, кажется, любую человечность. Таковы характерные обстоятельства мирового масштаба. Но не должно удивлять, что слово в этом мире становится средством протеста, способом самосохранения личности, не востребованной эпохой. И личность не уходит благодаря слову.
Это очевидно и при взгляде на советскую реальность в ее экстракте.
Далее – несколько проб. Соображения о парадоксе автора «Тихого Дона», о человеке в мире Варлама Шаламова, о новейшей экранизации романа Василия Гроссмана и жизненном поприще Виктора Некрасова.
Человек и его тень
Одна из самых характерно-загадочных фигур на советской шахматной доске, он стал мифом, в котором преломились извечные русские темы юродства и самозванства и претворился проблематизм личности и персонального творчества в эпоху воинствующих и гибнущих масс.
Какой непостижимой нитью, красной или черной, связаны гениальный мальчик-писатель, корреспондент Сталина, донской хуторянин, косноязычный очеркист, нобелевский лауреат, запойный пьяница и кровожадный старик, призывавший казнить за инакомыслие? Кто он? Когда родился? Есть сведения, что возраст нашего героя в 1922 году был уменьшен, чтобы избежать посадки юного «налоговика» за некие махинации в тюрьму. (Говорят, что на его могильной плите в Вешенской даты рождения нет.) Неясно даже, свое имя носил этот человек или это имя было (якобы) маской его сводного (скорей всего) брата, царского офицера, затем левого эсера, а после видного чекиста Александра Попова?
И какое отношение он имеет к «Тихому Дону»? А «Тихий Дон» – к донскому казаку, писателю и общественному деятелю Федору Дмитриевичу Крюкову, умершему в 1920 году в обозе разгромленной армии Деникина, отступавшей через Кубань к Новороссийску?
Мог ли в самом деле паренек с четырехклассным образованием, «иногородний», не знающий ни казачьего быта, ни донской истории, без допуска в военные архивы, сразу создать книгу такого масштаба, такой силы, которая дается обычно большим жизненным и литературным опытом?
Говорят, что люди тогда рано обретали зрелость. Вот Максим Горький: вообще нигде не учился, а сколько знал! Считается, что наш герой начал писать «Тихий Дон» в конце 1925 года, когда ему было 20 лет. А в 1928 году, всего через три года, в журнале «Октябрь» уже были опубликованы первые пять частей романа огромным объемом в 47,6 печатного листа. Причем книга была напечатана очень быстро: публикация началась в первом номере и закончилась в десятом. Цикл подготовки к печати в редакции занимает несколько месяцев, и это означает, что рукопись могла поступить туда примерно в середине 1927 года. Итак, для написания такого объемного и зрелого произведения, каким являются первые две книги «Тихого Дона», остается всего ничего. Феноменальные, поистине гениальные, непревзойденные сроки!
Иные маловеры, правда, продолжают считать, что невозможно, к примеру, выполнить бесчисленные точнейшие описания огромного количества мельчайших деталей фронтовой жизни, не видевши лично все эти многочисленные разновидности всяких мундиров, сапог, шинелей немцев, австрийцев, особенности покроя рейтузов венгерских гусар, цвета шнуров на гусарских доломанах, выдавленный рисунок на галетах из пайка австрийских пехотинцев, форму нарукавных нашивок чехов-разведчиков, состоящих на службе в русской армии, мало кому известные специфические особенности лиц и тел баварцев и т. д., и т. п.
Вопросы, вопросы… Какую роль в жизни юнца сыграл его тесть Петр Громославский, человек авантюрный, с уголовным прошлым? Почему Шолохов, отправившись в Италию к Горькому, не доехал, вернулся из Берлина восвояси? И на самом ли деле пенял в письме Горький Серафимовичу, что тот пригрел «безграмотного уголовника»? А что имел в виду Сталин, называя его «знаменитым писателем нашего времени»? Был ли его тайным соавтором в 40-е годы опальный Андрей Платонов?
Советское прошлое, сталинская эпоха, отдаляясь от нас, принимают новые черты. В протоколах исторической были начинает проступать зловещий фантом удушливо-сладкой кошмарной сказки. Концы с концами там не вяжутся, события и судьбы подчинены логике парадокса, а финалы таят невозможные ужасы и невероятное счастье.
Говорят, что рукопись «Тихого Дона» была одним из самых ценных трофеев советской власти, обретенных в результате гражданской войны. 21 марта 1929 года юный донец встретился со Сталиным. С тех пор его имя будет защищено всей мощью государства. Встреч со Сталиным было у персонажа не менее тринадцати. Вождь сделал его академиком, депутатом, лауреатом, миллионером, священной коровой советской литературы. Но чем дальше, тем меньше и тем хуже писал этот классик. Словно бы кончался, иссякал у него запас хороших слов. За все годы второй великой войны он создал, к примеру, четыре (!) газетные корреспонденции. А роман «Они сражались за Родину» оказался брошен, стоило только разойтись жизненным тропам нашего героя и Платонова.
Однако все-таки не робкого был десятка человек! Защищал земляков. Выдвинул на Сталинскую премию книгу Анны Ахматовой. Добился вроде как освобождения из заключения ее сына и сына Андрея Платонова. Вступился за осужденного на расстрел конструктора «катюши» Клейменова. В интервью во Франции брякнул, что следует напечатать запрещенного советскими цензорами «Доктора Живаго» Пастернака…
Он еще написал один рассказ, далеко не худший в бедные хорошей прозой 50-е годы. Сказал с разных трибун много неумных слов. Удостоился строки в записке в ЦК КПСС от отдела культуры и науки при ЦК КПСС: «Многих писателей и широкие читательские круги волнует судьба некоторых крупных художников слова, таких как Шолохов, который систематически пьет, подорвал свое здоровье и долгое время не создает новых произведений». Но стоило властям ослабить поводья, как заново пошли разговоры о плагиате. Я их помню, сколько живу на свете.
Не помогло нам и статистическое исследование скандинавских ученых во главе с Гейлом Хьетсо. Их подход оспорили, да и верно: еще не найдены средства, чтобы количественными методами установить авторство наверняка.
Ах, как мне, Тиху Дону, не мутну течи:
Со дна меня, Тиха Дона, бьют студены ключи,
Посредь меня, Тиха Дона, бела рыбица мутит.
Федор Крюков. «Булавинский бунт» (1894)
Составлен уже список настоящих авторов и соавторов. Краснушкин, Каргин, Серафимович, Платонов… Самое видное место среди них занимает все-таки Федор Крюков, русский патриот, народник и либерал, признававшийся как литератор Короленко и Горьким. Крюков хорошо писал: ««Я люблю Россию – всю, в целом, великую, несуразную, богатую противоречиями, непостижимую, «Могучую и бессильную…» Я болел ее болью, радовался ее редкими радостями, гордился гордостью, горел ее жгучим стыдом» [58]. Об его авторстве так или иначе говорили Астафьев, Гроссман, Виктор Некрасов, Василь Быков, Нагибин, Окуджава, Аксенов, Искандер, Солженицын, Вознесенский… Признаться, и мне не чужда эта идея.
Ну а сам он на запрос одного из журналистов ответил твердо, письмом: «Писателя Ф. Д. Крюкова я не знаю и никогда не читал. М. Шолохов».
В конце века была найдена при странных обстоятельствах и теперь даже выставляется в интернете рукопись «Тихого Дона». Та самая, которая, по словам самого героя, погибла при бомбежке, а также (по другой его версии) была утеряна чекистами-архивариусами. Оказывается, она хранилась в Москве, забытая автором у случайного приятеля году еще в 30-м. Впервые в 1990 году Лев Колодный известил о находке, но появилась на свет рукопись лишь девять лет спустя. Государство купило ее и передало в ИМЛИ. Некоторые уверяли, что это черновик. Правда, почти без следов правки, переписанный красивым почерком, точнее – почерками. Около трети рукописи написано, как нам объясняют, его женой. Причем и правка иной раз вносится тоже чужой рукой.
Увы, это замечательное открытие не охлаждает горячие головы, не упраздняет тех вопросов, которые задавали и задают самые разные люди, включая земляков, от жителей станицы Вешенской до Солженицына. В Сети некто Антон Ракитин рассказывал: «Я лично был в Вешках у дальних родственников целый месяц. Так вот там каждый вечер, когда собирались люди на крыльце, почти всегда заходил разговор про «гения» Шолохова. Самая убийственная фраза о Шолохове была сказана одним стариком, бывшим колхозным счетоводом, который был большим станичным книгочеем: «Да не он это писал! Куда там ему такую книгу написать! Он же на всех этих встречах в Доме культуры, сколько я его помню с 1939 года, как дурачок какой-то всегда разговаривал… Спросишь, где материал на такую громадную книгу насобирали, а он в ответ прибаутки какие-то придурочные говорит…» [113].
Строго писал, напомню, Исаич: «Перед читающей публикой проступил случай небывалый в мировой литературе… Юный продкомиссар, затем московский чернорабочий и делопроизводитель домоуправления на Красной Пресне опубликовал труд, который мог быть подготовлен только долгим общением со многими слоями дореволюционного донского общества, более всего поражал именно вжитостью в быт и психологией тех слоев. Сам происхождением и биографией „иногородний“, молодой автор направил пафос романа против чуждой „иногородности“, губящей донские устои, родную Донщину, – чего, однако, никогда не повторил в жизни, в живом вы-сказывании, до сего дня оставшись верен психологии продотрядов и ЧОНа. Автор с живостью и знанием описал мировую войну, на которой не бывал по своему десятилетнему возрасту, и гражданскую войну, оконченную, когда ему исполнилось 14 лет…» [95].
И вот теперь хорошо бы нам иначе взглянуть на все, о чем сказано. «Тихий Дон» – возрожденный эпос. Из тех, для которых проблема авторства не то чтобы неважна, но… Ученые спорят о Гомере, но «Илиада» и «Одиссея» выше этих споров и покойно лежат в фундаменте культуры Запада. Я не говорю уж об эпических книгах Библии.
«Тихий Дон» – это жгучий оттиск эпохи в ее ключевом содержании. Крушение христианской веры, крушение патриархальной цивилизации. Разгул зла. Кровь, смерть. Бесконечно жестокий, обезбоженный мир. Посреди стихий, в адских безднах звучит рыдание, плач и вой над народом и страной, над всем, если хотите, человечеством… Чудовищное давление зла на человека. И отчаянные попытки человека устоять и не сломаться, трагический ответ личности на вызов судьбы. Она погибает, но пока не сдается.



