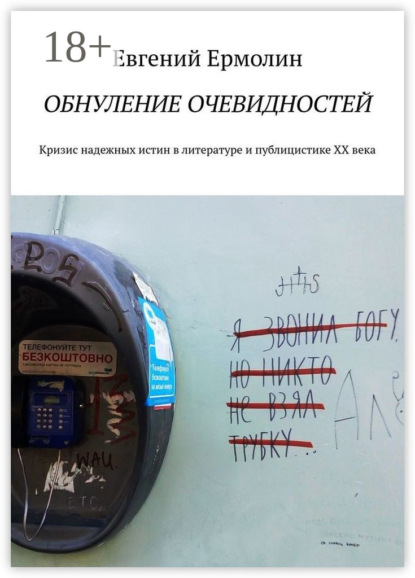
Полная версия:
Обнуление очевидностей. Кризис надежных истин в литературе и публицистике ХХ века: Монография
Кем бы это ни было написано, нельзя не согласиться: страшный этот кирпич текста сросся с его душой и иной раз давал внезапный выплеск, протуберанец страсти.
Романом этим выражена самая крупная эпическая тема эпохи. Потом уже и невозможно было ее повторно воспроизвести с той же глубиной дыхания. Не бывает таких повторных попыток, и, помимо прочих причин, вот откуда, можно думать, и обмелелость «Поднятой целины», и ранний политический маразм. Да ведь и вообще все, что случалось с нами дальше, является лишь растянутым на десятилетия эпилогом той роковой драмы, которая разразилась в начале ХХ века. Мы до сих пор хлебаем эту кровавую, рвотную юшку под музыку Александрова, на слова Михалкова. Но все-таки есть, кроме этих бездарных слов, черное солнце «Тихого Дона» и есть страдающий убийца и сам себе палач Григорий Мелехов – и жертва, и трагический герой.
Постреволюция и Шаламов
«Каждый считал своим долгом выступить еще раз в публичном сражении за будущее, которое мечталось столетиями в ссылках и на каторге» [108]. Так на исходе жизни писал Шаламов о себе и своем окружении, о том моменте, когда он оказался в Москве, где в это время, как ему казалось, творилось грядущее.
Было это, судя по всему, в 1924 году. Теперь нам кажется, что страна тогда уже катилась под крутую горку, к бездарно-тяжеловесной деспотии Сталина, к реставрации глубокой социальной архаики, – и ничто не могло остановить этого движения. Но молодое поколение середины 20-х, кажется, было настроено на другое.
Оно оставило мало свидетельств о своем тогдашнем целеполагании. На то есть очевидные причины. История выкосила юных мечтателей почти поголовно. А тот, кто выжил, предпочитал молчать. Вот почему мы так мало знаем о той революции, которую имеет в виду Шаламов, – о готовящейся, созревавшей в головах, выпекавшейся в брошюрках и листовках перманентной мировой революции, по отношению к которой 1917-й год был только преддверием, только прологом.
Незаконченные воспоминания Варлама Шаламова о своей молодости, о Москве 20-х годов оказались уникальным, волнующим документом, запечатлевшим настроения социально ангажированного авангарда, его пафос и экстаз. Заметки Шаламова полны недоговоренностей, в них есть намеки, которые раскрываются не прямой речью, а контекстом (и, может, не случайно эти заметки остались фрагментами). Но и в таком виде они создают вполне отчетливую картину симпатий и интересов шаламовского круга (а это студенчество, мыслящая молодежь, юный политический актив столицы) в тот период, когда много определилось как в миросозерцании писателя, так и в его судьбе.
В них сразу появляется Троцкий. Лев Троцкий, провозгласивший, что молодежь – это барометр партии. И сам бывший барометром и компасом для юношества, зачарованного алыми далями перманентной революции, увлеченного идейной говорильней. «Каждому открывались такие дали, такие просторы, доступные обыкновенному человеку. Казалось, тронь историю, и рычаг повертывается на твоих глазах, управляется твоею рукою. Естественно, что во главе этой великой перестройки шла молодежь. Именно молодежь впервые призвана была судить и делать историю». Эти ментальные явления, грозные события воспаленного сознания были свойственны многим из неординарных представителей шаламовского поколения, которым казалось, что у них в карманах хранятся ключи от неиссякаемого резервуара будущего времени.
Мировидение молодого Шаламова формируется футуристической устремленностью вперед, в будущее, в метаисторию. Он воспринимает мир как арену перманентной схватки старого и нового, а тот исторический момент, в который его угораздило выйти на освещенную прожекторами авансцену бытия – как решающую кульминацию этой судьбоносной схватки, этого штурма небес.
Прошлое не стоило ничего. Настоящее было важным и значимым лишь в той мере, в какой готовило грядущее. В революционный пролом рутинной, каменной истории ищущему взгляду открывалась грандиозная, небывалая перспектива преображения мира и человека. Это казалось достаточной компенсацией за утрату дарованной Богом вечности. Грядущее предстояло создать самому человеку без оглядки на Бога, отбросив как ветошь представления о греховности человеческой натуры и принципиальном несовершенстве падшего мира.
Итак, понять, чем жил Шаламов в молодости, не так уж трудно даже из его самых кратких на сей счет признаний. Мы можем и не соглашаться с общим строем таких идей. Но мы, наверное, не можем не принимать близко к сердцу столь безоглядный порыв к новым горизонтам человеческого бытия: в мир без страдания, без боли, без унижения и предательства; туда, где человек человеку бог.
Я нисколько не уверен, что начинающий писатель хорошо представлял себе тогда, к чему приведет масштабная конвульсия человечества, свидетелем и участником которой он был. Но известно, что оптимизма ему было не занимать. Об этом он сам (эпохой позднее) писал отнюдь не иронически, вовсе не считая свои тогдашние настроения заблуждениями незрелого ума и искренне, кажется, сожалея, об упущенном историческом шансе. Надо думать, вступая в битву, он был готов к смерти, к жертве. И это давало ему силы тогда и потом, позволяло стоять и не падать.
Но едва ли он был готов к такому быстрому, такому легкому поражению, врасплох застигшему и обидно не замеченному почти никем со стороны.
Полет и вираж Шаламова были оборваны катастрофически. Примерно так гибли в раннюю пору авиаторы, срываясь на своих фанерных машинах с небес на землю и ударяясь об ее твердь. Он писал потом: «Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни». Одна эпоха закончилась, началась совсем другая. (Впечатляюще передан этот перелом, например, в зачине романа старшего современника Шаламова, Юрия Тынянова, «Смерть Вазир-Мухтара». )
Революция оборвалась, и случившаяся контрреволюционная мутация режима привела к реставрации унылой и ветхой деспотической старины, к новой вариации на темы человеческого рабства, человеческой низости и подлости. В этой московско-ордынской сталинской старине для Шаламова уже не было места.
Проза Шаламова бдительно несет память о врасплох нагрянувшей контрреволюции. Это – проза постреволюции. В ней специфически преломляется кризисный, постреволюционный опыт автора.
Писатель разбежался – и рухнул, оставшись, впрочем, жить, но – где-то вне нового порядка. Отдельно и одиноко. Его сознание было глубоко травмировано этой катастрофой, зачеркнувшей смысл его бытия. Шаламов оказывается очевидцем поражения в битве за историю, живым реликтом небывалых дней.
Он – «троцкист» -недобиток, инвалид эпохи, обрубок человека (того человека, который жил только обманувшим, не наставшим будущим), оглохший и ослепший ко многому из того, что происходило вокруг.
Это опыт утраты будущего. И не только того лучезарного грядущего, о котором, надо полагать, мечталось юным коммунистам-идеалистам-троцкистам (как сказать правильнее?) на обманчивой заре их туманной юности. А всякого будущего вообще. В принципе.
Будущего в новой жизни, в той реальности, которую описывает Шаламов, вовсе нет. Сезам закрылся, колодезь иссяк, поток пересох. Осталось одно сухое русло. Причем лагерная жизнь – не исключительна в этот аспекте, в ней лишь предельно отчетливо проявляется более общая, генеральная закономерность социального бытия.
Утрата перспективы, однако, не придала сама по себе смысла ни текущему моменту, ни уже прошедшему. А потому человек у Шаламова безысходно зависает в безвременье.
В его карманах пусто. (Да и карманов как таковых – нету, они пущены в расход, в качестве махорочных кисетов.) Его запас – один-два дня. Сегодня, завтра, отсилы послезавтра. Это не счет будущего, это в лучшем случае злая пародия на такой счет, который прежде отмерял грядущее веками. Но и как настоящее эти часы и минуты не имеют цены: выморочная, самодовлеющая жизнь.
А потом приходит смерть.
Судя по всему, Шаламову так и не пришлось оправиться от этой травмы. Он потерялся в бессмысленно длящемся безвременьи – и внутри него остался человеком 20-х, футуристических, раннемодернистских годов в сменяющихся декорациях мнимо новых (для Шаламова же – ветхих, древних) времен, едва ли не в равной степени чуждых ему. А потому ему навсегда и достается роль свидетеля и очевидца, носителя памяти о великом дерзании и великом провале.
Шаламов – не мыслитель в традиционном смысле; его мысль никуда не движется, ничего не проясняет, не связывает и не разделяет. Ей и некуда особо двигаться, поскольку для нее нет не только будущего, но и вечности. Мысль стоит столбом, памятником катастрофы, как приснопамятная Лотова жена, зная, однако, о неабсолютности существующего мироустроения, ущербности господствующего режима.
Шаламов и не романист в обычном духе, подробно придумывающий длинную, полную всяких событий (как взаимовытекающих, так и случайных) биографию-авантюру – и сам в ней, ею живущий. Такая биографическая романистика в духе Стендаля или Льва Толстого не была дана ему в личном опыте. Он не верит в ее возможность и склонен считать пустой, ничего не значащей фикцией. Он – воплощенная травма истории, боль, живущая не куда-то вдаль, а только сама собой, здесь и сейчас.
Можно ли так жить – и как бы не жить, длиться без длительности, существовать вне времени? Этот парадоксальный способ самоопределения предопределяет явную противоречивость духовного мира писателя, которая, как представляется, до последнего времени была осознана неполно. Противоречия эти порождены приростом жизненного знания, вступавшего в раздор с догмами прекраснодушной молодости. Не то чтоб жизнь брала свое, – но и замороженная молодая ригористичность не умела вкладывать большой и трудный опыт существования в те жесткие рамки, которые некогда были им себе назначены. Но, с другой стороны, эта контрабанда житейщины не могла хотя бы иногда не восприниматься писателем как составная часть того контрреволюционного наступления, того тупого и могучего пресса, который был его главным врагом.
Итак, уже в прозе Шаламова разгоралась новая битва – и не всегда, кажется, сам автор желал дать себе отчет в происходящем. На некоторых основных противоречиях, создающих динамику шаламовской прозы, мне и хотелось бы задержаться.
Но для разбега одна параллель.
Франкопишущий испанец Хорхе Семпрун – из немногих писателей, которых мы застали в XXI веке, кто мог предъявить миру еще и свою героическую биографию. Это человек идеи, антифашист и гуманист высокой пробы. Во времена, когда в Европе так мало вершин духа, старик Семпрун одиноко возвышался над равнинными ландшафтами потребительской демократии. В 40-е – участие во французском движении Сопротивления нацистам и лагерный срок в Бухенвальде. Потом – антифранкистское подполье в Испании. Дальше – идейный разрыв с коммунистами, исключение из компартии Испании. Дальше – свободная от политического ангажемента проза, где Семпрун размышляет о человеке, его свободе и достоинстве. (Неслучайно он обращается в своих вещах к образам Мальро и Фолкнера, к этой героической и трагической литературной традиции ХХ века.) А в поздние годы Семпрун вернулся к своему бухенвальдскому опыту. Книга «Писать или жить» вышла во Франции в 1994 году, «Подходящий покойник» – в 2001 году, за десять лет до смерти автора [92; 93].
Лагерные книги Семпруна – рифма к русской лагерной прозе. Нашему читателю нетрудно навести мосты от Семпруна и его героев к Шаламову, Солженицыну, Льву Разгону, Евгению Федорову. Политический концлагерь Бухенвальд Семпруна – пространство ада, место смерти. И в то же время здесь, на пороге смерти, с невиданной в тогдашней континентальной Европе свободой кипят интеллектуальные диспуты, вопреки всему выживает искусство. Все вместе; и характерной гримасой лагерного быта оказывается тот факт, что главным центром духовной жизни является сортирный барак – огромное общее отхожее место, куда не заходят эсэсовцы.
Испытание злом – такова одна из главных тем Семпруна и главная тема жизни лагерников. И в аду человек старается сохранить в себе человеческое. И иногда это удается. Книги Семпруна – книги стойкости. Специфической чертой бухенвальдского лагеря являлось хорошо организованное коммунистическое подполье. В лагерной иерархии многие низовые административные должности занимали подпольщики, которые в ограниченных пределах могли реально влиять на судьбы заключенных. Однако Семпрун сопоставляет коллективное сопротивление, солидарность в общей борьбе – и элементарные акты жалости, соучастия, личной поддержки человека человеком, без практической цели. И, кажется, отдает предпочтение последним. Его юный герой (во многом альтер эго автора) помогает не только выживать, он соучаствует в умирании тех, кто не имеет больше силы жить, поддерживая их в последние часы перед уходом.
В «Подходящем покойнике» возникает ситуация, когда герою, чтобы выжить, нужно сменить имя. Ему подбирают умирающего француза-ровесника, чье имя после смерти его носителя достанется новому владельцу. Так у Семпруна осуществлен опыт преодоления абсурда и наделения смыслом и жизни, и смерти. Вопрос, насколько этот опыт удачен. Кажется, едва ль не главный вывод писателя из житейских перипетий – метафизическая неустранимость зла.
И вот снова Шаламов. Странно, что для всех или почти всех его персонажей желательнее жить хотя бы так, чем никак. Хотя бы вот так никак, чем вовсе не жить. В сто раз сильнее страдать, быть униженным, избитым, искалеченным, изнасилованным – но жить. Быть только абсолютно уже ничего не значащей фамилией, служащей только для учета (пока ты есть), – и жить. Человек убегает от смерти, принимая что угодно – но только не ее.
Никто у Шаламова, в его «постхристианском» мире, не воспринимает смерть с облегчением или радостью, как избавление от мук. Никто не решается и на самоубийство, потеряв смысл. Случай бывшего агронома Розовского («некто Розовский») в рассказе «Дождь» – исключение, подтверждающее правило. И именно в этом рассказе Шаламов неожиданно входит в роль философа-метафизика и подробно разъясняет то, как видится ему этот парадокс жизни во что бы то ни стало.
Хочется пожить еще. Писатель берется объяснить природу этого желания. Он записывает его на счет инстинкта самосохранения, «великого инстинкта жизни», переворачивая с ног на голову традиционное представление о взаимодействии духа и тела. «И я понял самое главное, что человек стал человеком не потому, что он божье созданье, и не потому, что у него удивительный большой палец на каждой руке. А потому, что был он физически (курсив Шаламова. – Е.) крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому».
Этот вклад Шаламова в антропогнозис контекстуально ложится в ту культурную тенденцию XIX – XX веков, которая натурализует сущность человека. Сказать по правде, ни идеи писателя, ни эта тенденция в целом не кажутся столь уж убедительными. Здесь происходит явная (и обычная для ХХ века) редукция человека, низведение его к простым импульсам и стимулам.
В ней есть свои резоны. Груз существования, суровый климат века требуют от человека упрощения до четкого и внятного поступка, короткого слова. Возникает новая простота и сущностная чистота, антипод культурной переусложненности начала двадцатого столетия, маскараду декаданса.
Но упрощение упрощению рознь. В натуралистическом низведении человека до инстинктов и комплексов нет полной правды.
Шаламов не умеет, не желает помыслить о мистическом смысле неприятия смерти. Но такова сила честного свидетельства – мы не можем не чувствовать здесь какой-то знобящей тайны, которая против воли автора вдруг приоткрывается и говорит сама за себя.
Что значит эта инерция жизни без надежды, жизни, которая не имеет больше ни направления, ни смысла, хоть чем-то превышающего ее? Она означает, что не все у человека можно отнять.
Может быть, это единственная возможность проявить ту свободу, которая, казалось бы, навсегда, целиком и полностью отнята у бедных жертв Гулага? Наверное, так. Но не только в этом дело.
Человек продолжает ждать. Казалось бы, у него нет никакой надежды. Писатель запрещает персонажу надеяться и рискует утверждать, что надежда – самое плохое, что только есть. Она развращает и обманывает. Нет веры. Ждать нечего. Но ожидание является эмпирически необходимым фактом существования (как у героев «В ожидании Годо» Ионеско). Человек надеется, то есть удерживает свой конец нити, которая связывает его с кем-то. «Мне оставалось ждать, пока маленькая неудача сменится маленькой удачей, пока большая неудача исчерпает себя», – сказано в «Дожде». Может ли постреволюция себя исчерпать? Вопрос, казалось бы, чисто риторический. Но он все-таки задается. Значит, на него кто-то должен ответить. Но кто?
Шаламов не знает Бога, но Бог-то его знает. И потому он выжил, хотя должен был сто раз умереть, погибнуть. В этой связи он придает особое значение удачному случаю, некоему року. Такой случай мелькает и в его рассказах, выручая иногда персонажей. Но случай, как сказал один мыслитель, есть атеистический псевдоним чуда. «А чудо есть Бог».
Человек у Шаламова хватается за обрывки прошлого, нащупывает его бледный след, прислушивается к его эху. Он забывает все, а помнит свою фамилию. Зачем она ему? Или еще: цепляется за вещь, присланную когда-то женой, рискуя жизнью. Для писателя в этом есть почти комическая странность. Шаламов добывает отсюда зерна своего парадоксального юмора. Словно какая-то пружина тут распрямляется, чтобы отчетливей стали тщетность надежды и фантомность веры. Над людскими слабостями Шаламов бы, вероятно, посмеялся даже сильнее, если бы не взял на себя функцию строгого, бесстрастного объектива (или, скажем иначе: если бы эта функция не овладела им). Дело в том, что сам-то он как раз, если ему верить, никакого прошлого не имеет. Он от него отказался (кстати и в жизни: конечно, по требованию родственников, но по сути – сам, ибо зачем ему, футуристу, вчерашние заботы?). Человек без вчерашнего дня.
А выданное героям прошлое, как правило, не заслуживает по логике автора, особенного пиетета. Так себе была жизнь – мелкая, суетная, скучная, пошлая, – имя, профессия, семья, карьера, хобби… Но шаламовскому персонажу и такое прошлое требуется для того, чтобы удержать нечто, определяющее его идентичность, отдельность и единичность (а может, и уникальность).
И, если присмотреться, если вдуматься, так ведь и сам Шаламов мало в этом отличается от своих персонажей. Он, как бы сам себя подчас ни концептуализировал, – человек с прошлым. За ним тянется шлейф судьбы.
И не только по воле карающих за такое прошлое инстанций. Пусть Шаламов не дорожит ничем, что осталось за плечами. Пусть снова и снова редуцирует контексты русской и мировой культуры, считая, что культура есть то излишество, та условность, которая в новой реальности отваливается, отсыхает. Это заплечье не становится оттого ничем. Оно остается чем-то.
Он отбрасывает прошлое, а оно возвращается к нему бумерангом. В рассказах Шаламова очень часто интрига строится именно на игре с прошлым. Это прошлое персонажей – и это профессиональный опыт писателя-читателя Шаламова, возобновляющего в новых координатах традиционные сюжеты и мотивы русской литературы. Писатель манипулирует культурными контекстами, волей-неволей реанимируя их.
Вот рассказ «Ночью». Двое ледащих лагерников, Глебов и Багрецов, ночью отправляются в путь, взбираются на уступ, разбрасывают недавно развороченные камни. Попутно открывается, что Глебов был врач: Багрецов поранил палец, кровь не унимается, и у Глебова внезапно вывернулось: «– Плохая свертываемость». А вот кем был Багрецов – мы не узнаем… Под камнями наконец раскопан ими труп, погребенный накануне. Чей труп – неясно; но кажется, – не лагерника, вольняшки. Они стаскивают с окоченевшего тела рубашку и кальсоны и забрасывают его камнями снова. Глебов прячет белье мертвеца за пазуху. Завтра они продадут белье, отменяют его на хлеб и, может быть, на табак.
В рассказе еще участвует луна. «Синий свет взошедшей луны ложился на камни, на редкий лет тайги, показывая каждый уступ, каждое дерево в особом, не дневном свете. Все казалось по-своему настоящим, но не тем, что днем. Это был как бы второй, ночной, облик мира».
Повествование строится на обманываемых ожиданиях. Разумеется, наши ожидания сильно ослаблены общим «колымским» контекстом этого рассказа, заведомым предзнанием о пределах возможного и невозможного в мире Шаламова, о том, что Шаламов снова поставит жизнь на грань со смертью, чтобы показать ее ничтожность и пустоту, но и ее стремление к самосохранению. Но если этот читательский опыт вынести за скобки, то останется история с фривольного даже стиля намеками, с провоцируемыми догадками. Некая остаточная таинственность происходящего в рассказе может навести как на мистические, так и на сексуальные предположения, которые оказываются ложными, и разгадка выпадает в совсем иной плоскости. Мистико-эротический подтекст, однако, не вовсе отвергается этой разгадкой. Происходит, так сказать, диалектическое снятие, и статус лагерников получает как будто специфическую родословную. Фигуры в лунном инобытийном свете соотносятся с «людьми лунного света» из одноименной, довольно скоромной книги Розанова (1911) о «метафизике христианства», о христианском монашестве как отрицании пола и мужедевичестве. Ночная вылазка принудительно «монашествующих» Глебова и Багрецова начинает напоминать путь жен-мироносиц, и раскрытая каменная могила с хладным трупом становится репликой на пустую могилу-пещеру Христа. Да и одежду мертвеца нужно соотнести, но не со знаменитой ныне туринской плащаницей (едва ли Шаламов знал о ней в середине минувшего века), а с той одеждой казнимого, которую присвоили, разыграв меж собой, стражи-конвоиры. Одежда имеет ценность и для лагерников, и для евангельских стражей – а тело никакой ценности собой не представляет. И, может быть, связывая времена и обстоятельства, Шаламов пытается зафиксировать холодное отчаяние ввиду очевидной для него невозможности воскресения (ни в вечность, ни в будущее).
Старые культурно-религиозные контексты вроде бы перестают функционировать и упраздняются. Но без них не было бы, пожалуй, и самой прозы Шаламова. Изношенный шлейф и бледнеющий след былого все-таки остаются в рассказах писателя и составляют важный аспект их смыслового содержания.
Из рассказа в рассказ Шаламов утверждает монадность персонажа, его замкнутость в пределах собственного ускользающего и, может быть, эфемерного я. Человек то ли есть, то ли нет, но в той мере, в какой он есть – он бесконечно одинок. Он, возможно, представляет что-то для себя, но является пустой величиной для других. Его просто нет для ближнего – как что-то значащего существа. Евангельская заповедь о любви к ближнему теряет адресата. Связи людей случайны, мимолетны и обманчивы. «Каждый за себя», – как заклинание, повторяют писатель и его герои.
Однако не раз уже было показано, что действительность, так или иначе передаваемая автором, сопротивляется его метафизическому убеждению. И к числу позитивных кульминаций в мрачной прозе Шаламова, безусловно, нужно отнести те светлые моменты, когда люди приходят друг другу на помощь, когда вместо равнодушия и злобы проявляется в жизни человека опыт солидарности, сочувствия и милости к слабейшему (см., например, рассказы «Плотники», «Апостол Павел» и др.).
По поводу акта милости в рассказе «Плотники» Е. Волкова говорит о «человеческой снисходительности» [23; 134]. Я не уверен, что это удачное слово. Когда в столярной мастерской пожилой инструментальщик Арнштрем дает доходягам, притащившимся с жуткого мороза, шанс выжить, он не снисходит к ним, а солидаризируется с ними.
Как в «Одиночном замере», где обреченному на смерть Дугаеву его напарник, с которым они «не были дружны», дает свернутую тоненькую папироску из последних махорочных крупинок: «Кури, мне оставишь». Этот жест последнего соучастия в значительной степени обесценивает следующий далее пассаж, фиксацию ощущений Дугаева, который «понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою» и «хорошо помнил северную поговорку, три арестантские заповеди: не верь, не бойся и не проси».
В «Дожде» мимо бурящих камень зэков проходит по тропинке женщина, «не обращая внимания на окрики конвоя». Проститутка, «ибо никаких женщин, кроме проституток, в то время в этих краях не было». «Она помахала нам рукой, показала на небо, куда-то в угол небосвода, и крикнула „Скоро, ребята, скоро!“ радостный рев был ей ответом. Я никогда ее больше не видел, но всю жизнь ее вспоминал – как могла она так понять и так утешить нас. Она указывала на небо, вовсе не имея в виду загробный мир. Нет, она показывала только, что невидимое солнце спускается к западу, что близок конец трудового дня. Она по-своему повторила нам гетевские слова о горных вершинах».



