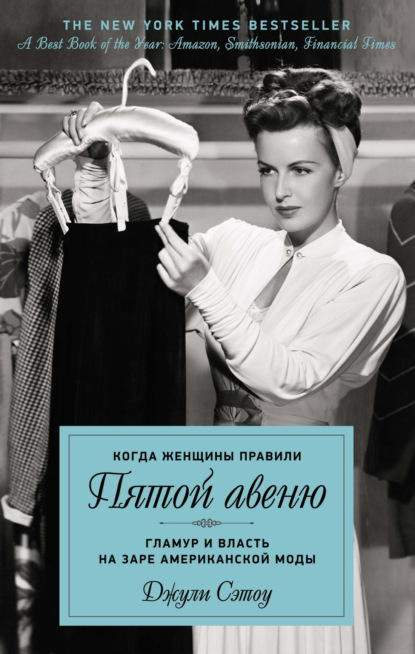
Полная версия:
Когда женщины правили Пятой авеню. Гламур и власть на заре американской моды
Даже у белых работающих женщин жизнь в те времена была непростой, а что уж там говорить о женщинах с другим цветом кожи. Открытие «Эмпориума» стало на тот момент последним решительным шагом Мэгги Лины Уокер, одной из самых известных фигур в негритянских бизнес-кругах Ричмонда, поставившей перед собой цель дать толчок к развитию местного чернокожего сообщества. Ее универмаг, с одной стороны, предоставлял афроамериканкам шанс заработать, обрести финансовую независимость, построить собственную карьеру, а с другой – в нем все было ориентировано на чернокожих клиенток.
Афроамериканская пресса приняла новый магазин восторженно. «“Сент-Люк Эмпориум” – предприятие с огромным потенциалом, там во всех без исключения отделах – масса покупательниц», – писала, например, «Нью-Йорк Эйдж». А продавщицы – «хоть и без опыта в этом деле, принялись за работу не хуже ветеранов отрасли»[53]. В универмаге имелось «все, что может захотеть женщина», – признавала «Нью-Йорк Уорлд», восхищаясь «современнейшим огромным четырехэтажным заведением в самом сердце самого фешенебельного городского района»[54].
Успех Мэгги был для того времени явлением необычным. Ее мать – бывшая рабыня, которая позднее работала служанкой у Элизабет Ван Лью, известной шпионки Армии Союза и аболиционистки, а биологический отец – иммигрант-ирландец, сражавшийся за конфедератов и обрюхативший мать Мэгги, когда той было всего шестнадцать. Еще подростком Мэгги вступила в негритянский благотворительный Независимый орден Святого Луки[55]. Позднее – когда после замужества ей пришлось оставить работу школьной учительницы – она посвятила ордену много сил и занимала там ряд высоких постов. Создала афроамериканскую газету и страховую компанию для женщин, а в 1903-м – за два года до открытия «Эмпориума» – основала «Сент-Люк Пенни Сэйвингз Банк», чтобы приучить молодых чернокожих женщин делать банковские сбережения. Мэгги была первой афроамериканкой – учредительницей и главой банка. После ряда слияний с другими ричмондскими кредитными организациями он стал называться «Консолидэйтид Банк энд Траст», и перешел к новым владельцам лишь в 2005 году, поставив рекорд самого долгого существования банка с чернокожим президентом.
* * *«Белые требуют, чтобы у нас были отдельные трамваи, церкви, школы, гостиницы, парки, общественные места, – провозглашала Мэгги, убеждая собравшихся черных мужчин поддержать ее универмаг. – Так зачем же навязываться там, где нас не хотят? Тратьте свои деньги у нас. Помогите нам помочь самим себе!»[56]
После торжественного открытия «Сент-Люк Эмпориума» первоначальное опьянение сменилось похмельем – на первых порах универмаг выживал с трудом. Услугами «Сент-Люк Пенни Сэйвингз Банка» чернокожее население пользовалось с удовольствием, чего нельзя сказать о магазине «Эмпориум».
«Вы прекрасно знаете места, где покупаете головные уборы, обувь, одежду, – продолжала Мэгги. – Там всегда есть белая женщина. Вы знаете, каково будет вашей жене с детьми, если они придут туда за шляпкой или галантереей. А белая женщина там всегда». И она там именно «благодаря вашим деньгам, вашему влиянию, благодаря тому, что вы – тамошние клиенты, в то время как ваши собственные женщины, плоть от плоти и кровь от крови ваши, вынуждены выкручиваться как могут»[57].
Универмаг предоставлял афроамериканкам хорошо оплачиваемую работу, но без поддержки сообщества ему было не выжить. «“Сент-Люк Эмпориум” – это во многом дело рук наших женщин. Раз мы смогли объединиться и ценой многих усилий добиться того, чего мы добились, разве сердце не велит вам тратить теперь свои деньги у нас?»[58]
Однако чернокожие клиентки в универмаг не спешили. Возможно, это объяснялось их ограниченной покупательной способностью, или, может, они считали, что в «белых» магазинах товары качественнее и моднее. В любом случае, поддержка универмага с их стороны была более чем скромной. Мэгги, кроме всего прочего, столкнулась с открытой дискриминацией со стороны белого населения Ричмонда – особенно других коммерсантов. Ведь прежде чем открыть магазин, она два года тайком подыскивала в торговом районе участок для будущего универмага. Но об ее планах в итоге узнали, и белые коммерсанты стали предлагать ей за этот участок на 4 тыс. долларов (128 тыс. в сегодняшних ценах) больше его тогдашней стоимости. «Если они дают такую сумму, значит, мы на верном пути», – заявила Мэгги партнерам, отказавшись от предложений[59]. Белые конкуренты подняли ставки до 10 тыс. (более 350 тыс. в сегодняшних ценах), но Мэгги оставалась непоколебима.
Мэгги продолжала воплощать свой проект, и, когда «Сент-Люк Эмпориум» в итоге открылся, белые владельцы окрестных магазинов поклялись вытеснить его из бизнеса. Они объединились в Ассоциацию розничной торговли. «Ну и зачем им это понадобилось? – вопрошала Мэгги. – А затем, чтобы попросту выдавить негритянских коммерсантов с рынка – наше присутствие для белого торговца оскорбительно, ведь черные конкуренты кладут в свой карман ту пару долларов, которая иначе оказалась бы в его кошельке»[60]. Владельцы «белых» магазинов разослали предупреждения всем оптовикам, имеющим дела с «Эмпориумом», требуя, чтобы те прекратили поставки, и грозя им бойкотом. Причем география рассылки отнюдь не ограничивалась Ричмондом – такие письма получали даже фирмы в Нью-Йорке. Некоторые поставщики стали требовать, чтобы «Эмпориум» расплачивался по счетам немедленно, отказывали универмагу в кредите, а иные и вовсе прекратили с ним отношения. Полки магазина постепенно пустели.
«“Сент-Люк Эмпориум”, негритянский универмаг на Уэст-Брод-стрит, где и руководители, и покупатели – исключительно представители цветной расы, – сталкивается с большими проблемами», – сообщала газета «Ричмонд Ньюз Лидер» в статье «Кредиторы преследуют “Сент-Люк Эмпориум”». Автор подробно рассказывал, как один из оптовиков подал против универмага иск на 960 долларов (33 тыс. в сегодняшних ценах) за неоплаченные счета[61]. Мэгги горько сетовала на развязанную против нее кампанию. «Белый человек не намерен ждать, пока негр станет финансовым гигантом, – говорила она. – Он скорее нападет на него, свяжет его по рукам и ногам, пока тот еще в колыбели, беспомощный младенец в пеленках»[62].
Несмотря на все эти трудности, «Сент-Люк Эмпориум» продержался на плаву целых семь лет. Но к январю 1912 года его финансовое положение стало совсем отчаянным, и он в конечном счете закрылся. «Если бы все зависело от уверенности в своих силах и здравомыслия, мы сегодня имели бы великий памятник готовности негра заплатить свою цену за бизнес и успех», – размышляла Мэгги[63]. В первый год существования универмага продажи составили 33 тыс. долларов (более миллиона в сегодняшних ценах), а к моменту закрытия этот показатель рухнул на 60 с лишним процентов[64]. «Мы, негры, понимали, что должны по крайней мере иметь возможность научиться самим покупать и самим продавать, – говорила Мэгги. – Но “Эмпориум” не выдержал конкуренции с обеих сторон, поскольку мы не встретили поддержки со стороны представителей нашей же расы». Это был нелегкий момент. «Опустив веки и обронив слезу, мы тяжко вздыхаем, вспоминая рождение, жизнь и смерть нашего предприятия»[65].
Глава 3
Дороти и ее выставка ар-деко
После открытия на 47-й улице магазина с Шейверятами шли годы, и Элси стала со временем уставать от проекта – ей надоело бесконечно делать одни и те же куклы, хотелось посвятить себя живописи. Когда она объявила старшей сестре, что магазин пора закрыть, та поначалу оставила ее слова без внимания. Возмутившись такой реакцией, Элси принялась швырять упакованные куклы в урны для мусора.
– Магазин закрывается! – заявила она.
Этот выпад привел Дороти в бешенство, сестры не разговаривали целых две недели. Но без Элси у Шейверят никакого будущего быть не могло, и, несмотря на непрерывный поток заказов, магазин пришлось закрыть.
Однако мистеру Рэйберну, кузену их матери, с визита которого – когда он заказал партию Шейверят для витрин «Лорд энд Тейлор» – все и началось, подобный поворот событий пришелся по душе. Его впечатляли менеджерские способности Дороти – то, как она справлялась с кукольным бизнесом, – и он пригласил ее работать в свой универмаг. Сестры и прежде давали ему неофициальные консультации, но теперь Рэйберн хотел, чтобы Дороти работала у него на постоянной основе. Дороти стремилась к большему, должность в «Лорд энд Тейлор» – отнюдь не то, о чем она мечтала. Она подумывала о карьере, не связанной с продажами, – как вариант, об издательском бизнесе. Но Рэйберн проявил настойчивость, и с четвертой попытки Дороти сдалась, решив, что это может стать первым шагом на новом пути.
В 1924 году она влилась в команду «Лорд энд Тейлор», получив должность завотделом сравнительных покупок. В условиях жесточайшей конкуренции среди универмагов того времени корпоративный шпионаж был основой основ бизнеса. Специальные сотрудники зарабатывали себе репутацию постоянного клиента в магазинах соперников и ходили туда якобы за покупками, на самом деле выясняя, какой фасон перчаток продается там лучше, сколько у них стоят парижские вечерние платья или, наоборот, какие товары уходят на распродажу. Универмаги делали все возможное, чтобы сохранить личность «шпионов» в тайне – причем не только от конкурентов, но и от персонала. Дело в том, что «тайным покупателям» нередко поручалось вести слежку за собственными коллегами, они бродили из отдела в отдел и как бы невзначай оценивали уровень компетентности и обходительности продавцов в общении с клиентами, а потом составляли докладные записки, на основании которых менеджеры распределяли премии или урезали зарплаты. «В одном универмаге, – рассказывал осведомленный современник, – имелся секретный вход для таких “шпионок”. Дамы поднимались в офис якобы для подачи жалобы, там их проводили к менеджеру, тот вел их через потайной коридор в комнату, напичканную печатными машинками, где с утра они получали задания, а вечером оставляли результаты»[66].
В Нью-Йорке самой громкой славой пользовался отдел сравнительных покупок универмага «Мейсиз», созданного в 1858 году бывшим моряком с Нантакета[67] Роулендом Хасси Мейси. Магазин, расположенный в самом сердце Дамской мили, славился лучшими скидками. Его слоган «Экономный значит умный», придуманный гуру рекламы Бернис Фиц-Гиббон, был знаком всякому – вместе с логотипом в виде красной звезды, скопированной с татуировки на руке самого Мейси.
Однажды весенним днем 1919 года у кассы отдела моющих средств «Мейсиз» появилась вывеска: «Если конкурент в минуту отчаяния сбивает цену, мы тут же начинаем продавать еще дешевле». Это произошло в самом разгаре ценовой войны между «Мейсиз» и «Хернс» за продажи пероксидного мыла. Его обычная цена была восемь центов, но, стоило тайным покупателям выяснить, что в «Хернс» продают за семь, «Мейсиз» тут же снизил цену до шести, а к концу дня предлагал 15 кусков за цент – ведь «Хернс» продал всего 14, – и на этом не остановился. На следующее утро он объявил акцию – 18 кусков за цент.
«В мыльные отделы, расположенные в подвальных этажах обоих универмагов, выстроились огромные очереди, – сообщал ежедневный журнал мод “Вименз Уэр”. – Вчера после обеда в “Хернс” стояло около 150 женщин, а сегодня с утра – уже около 300»[68]. Эта война обоим магазинам влетала в копеечку, ведь каждый кусок мыла обходился им в пять центов, но для «Мейсиз» эти затраты более чем окупились – ведь речь шла о репутации. «Мейсиз» настолько прославился своими непревзойденными скидками, что это даже слегка отразилось в слогане его главного конкурента, универмага «Гимбелс»: «Никто не продает дешевле “Гимбелс”!» (который, кстати, придумала все та же Бернис Фиц-Гиббон – видимо, сама она питала некоторый скепсис по поводу идеи шоппинга со скидками).
Сравнительные покупки служили одним из ключевых инструментов в работе универмагов – ведь в «бурные 20-е» американцы сорили деньгами, им хотелось тратить и тратить. Фондовые рынки взлетали до небес, и потребители вовсю демонстрировали исторические максимумы покупательской способности, сгребая все подряд – от радиоприемников и автомобилей до одежды и ювелирных украшений. Борьба за клиента приняла маниакальный характер, и в ход шло все – шпионаж, расширение торговых площадей, масса всевозможных технических новинок. Откуда ни возьмись в каждом универмаге появились эскалаторы, чья пропускная способность превышала возможности 40 лифтов; вращающиеся двери на входе сменились дверьми, распахивающимися в обе стороны, дабы внутрь могло попасть как можно больше народу одновременно; проходы между стеллажами максимально расширились. В 1924 году, когда Дороти устроилась в «Лорд энд Тейлор», универмаг готовился открыть отдел эксклюзивных образцов высокой парижской моды, консультацию для мужчин, не определившихся с выбором подарка, целую галерею новых сервисов на шестом этаже – солярий, буфет, библиотеку с меняющимися интерьерами, – а также расширенный вход с Пятой авеню.
* * *Универмаги в миниатюре отражали общую национальную тенденцию – перемену в отношении к женскому труду. В старых добрых галантерейных и промтоварныхмагазинах за прилавками стояли в основном мужчины. Но к началу ХХ века в этой сфере наметились перемены. Если в 1880 году Америка насчитывала 8 тысяч продавщиц, то всего десятилетие спустя их число выросло до 58 тысяч, а к 1920 году количество женщин, занятых в торговле, достигло полумиллиона – то есть 10 процентов от не занятых в сельском хозяйстве трудовых ресурсов страны[69]. Придя как-то раз с инспекцией в свой универмаг «Филинз», его владелец, бостонский бизнесмен Эдвард Филин, был поражен, обнаружив, что его магазин захватили женщины – десятки продавщиц за прилавками, десятки покупательниц у стеллажей, – и стал называть его «Эдемом без Адама».
Филин – как, впрочем, и другие владельцы универмагов – считал работающих у него в огромном количестве женщин важными кадрами. Бо́льшая их часть вышла из рабочих слоев, что то и дело приводило к конфликтам с клиентками из среднего и высшего классов. Работодатели ожидали от продавщиц трудолюбия и инициативности, но вместе с тем – учтивости и хороших манер. Подобный баланс – штука сложная, и скандалы случались нередко. Типичная для тех времен жалоба звучала так: «Подходит ко мне жирная, расфуфыренная особа и ведет себя, будто я ее служанка. Подавляющее большинство покупательниц делают нашу жизнь невыносимой. Сами не знают, чего хотят, и ждут от нас советов, а стоит нам начать подсказывать, тут же выходят из себя»[70].
Чтобы свести конфликты к минимуму, владельцы магазинов стали организовывать курсы, нанимать инструкторов как по практическим вопросам – методы продаж, счетные устройства, – так и по более деликатным материям – этикет, основы домашнего хозяйства. Главный акцент делался на внешнем виде сотрудниц – не в смысле женской привлекательности, но они должны были уметь себя подать, расположить к себе покупательниц. Соответственно, владельцы универмагов открывали недорогие служебные столовые для сотрудниц, дабы те не выглядели тощими и изможденными, и спортзалы, дабы избежать другой крайности. Не редкостью были штатные врачи, дантисты и подологи – ведь натруженные ноги продавщиц нуждались в заботе. Во многих универмагах имелись зоны отдыха, а гиганты отрасли даже покупали или частично оплачивали сотрудницам путевки на курорты или места в туристических кемпингах на время отпуска. Кроме всего прочего, существовали кассы взаимопомощи, участницы которых – за свои взносы – получали оплату пропущенных по болезни дней или пособия на похороны.
Но даже при таких приятных бонусах труд продавщиц был отнюдь не легким. К восьми утра они уже стояли у прилавка и оставались там до шести вечера с единственным перерывом на обед, который длился всего 35 минут. Некоторые вкалывали без отдельных выходных – при том, что по субботам универмаги были открыты до десяти вечера, впрочем, в воскресенье многие из них не работали. В большинстве магазинов продавщицам запрещалось сидеть даже в отсутствие покупателей. От них требовалось быть одетыми в свеженакрахмаленные белые блузки, стирке которых им приходилось посвящать свое вечернее время. Платили за эту работу порой меньше, чем на фабрике, минус постоянные штрафы за нерасторопность или жевание резинки. Крупные универмаги ожидали от продавщиц и супервайзеров владения грамотной речью и поэтому нанимали, за редким исключением, белых женщин, хотя афроамериканки во множестве трудились за кулисами – на кухне, на складе, в хозяйственных подразделениях.
Штат отдела чаще всего представлял собой дружную команду, и, хотя продавщицы вполне могли конкурировать друг с дружкой в борьбе за повышение, в целом они были вполне сплоченным коллективом. В их среде бытовал свой сленг – скажем, слово «обломщица» означало продавщицу, умудрившуюся потерять клиентку, когда та уже полностью настроилась на покупку, а фраза «Ох уже эта Генриетта!» – покупательницу, которая вечно всем недовольна[71]. У них была своя система оповещений: например, если стукнули карандашом по столу один раз – значит, приближается супервайзер, а если дважды – значит, на горизонте клиентка, любящая сорить деньгами. Но, пожалуй, наибольшему сплочению всех продавщиц служила «нагрузка», продажа сопутствующих товаров. Если продавщица преуспевала в этом деле, ее называли «хапугой» и недолюбливали – ведь на ее фоне остальные выглядели лентяйками. Но если она, наоборот, квоту не выполняла – тоже плохо, ведь она могла привлечь к отделу нежелательное внимание супервайзера. А если женщина уклонялась от продажи «нагрузки», коллеги начинали ее сторониться – мол, в торговле ей не место. Эти показатели служили мерой успеха или неудачи, и весь отдел за ними ревностно следил.
В большинстве универмагов у прилавков стояли женщины, в то время как в супервайзеры принимали, за редким исключением, только мужчин. Худшие из них подвергали работниц домогательствам и всяческим притеснениям, но даже лучшие не были чужды высокомерию и патернализму. В «Филинз», скажем, от продавщиц требовалось называть вышестоящего мужчину «папой», а в «Маршал Филдз» им запрещали посещать танцплощадки, игорные заведения и любые места, где подают алкоголь. Но самый, пожалуй, отвратительный пример – это «Сигел-Купер», где открыто признавали, что там шпионят за сотрудниками. «Вы не поверите, узнав, сколько сил и средств мы тратим, чтобы побольше узнать о вас и ваших привычках, – говорилось в одном из писем, разосланных персоналу. – Мы нередко нанимаем детективов, чьи личности вам неизвестны, которые докладывают нам обо всех ваших занятиях в течение недели»[72].
В 1920-е годы вместе с ростом общественного значения прогрессивистских ценностей, антимонопольной журналистики и новых социальных реформ, рос и интерес к проблемам женского труда со стороны нового поколения публицисток. Социолог и педагог Фрэнсис Донован, притворившись простой работницей, два лета прослужила на разных должностях в нескольких нью-йоркских универмагах. Итоги своих расследований она опубликовала в книге «Продавщица», написанной по аналогии с магнум опус Якоба Рииса «Как живут остальные»[73]. «Продавщица» увидела свет буквально за пару недель до биржевого краха 1929 года.
«В женской секции отдела кадров универмага, которому я дам условное имя “Макэлройз”, толпились “девочки”, – писала Донован, – ведь в универмаге любую женщину, независимо от возраста или чего-либо еще, называют “девочкой”». Там были «девочки младше семнадцати, с разрешением на трудоустройство или без такового; девочки, окончившие обычную среднюю школу или манхэттенскую гимназию; девочки, проработавшие в универмагах уже не один год; девочки без всякого опыта работы» – в общем, и стар и млад. Были девочки, только что вышедшие замуж, которым требовалась подработка до родов, и даже «“девочки” в виде оставшихся без средств к существованию бабушек» или в виде «соломенных вдов и просто вдов, чьи мужья, уходя из их или своей жизни, не оставили им в первом случае алиментов или страховки – во втором»[74].
В «Макэлройзе» Донован поставили в отдел женской одежды, где ей сразу вручили журнал учета продаж и наказали оформлять каждую покупку товарным чеком. Кажущаяся простота обманчива, ведь правильно заполнить чек без знания массы процедур и правил невозможно. «Моя первая продажа свершилась, – вспоминала она, – я заполняю чек, отрываю – как мне велели – корешки со штампом “получено наличными”, сам чек кладу в серый контейнер и лихо отправляю в желоб пневмопочты [sic], а другой рукой передаю товар упаковщице Флосси. Клиентка же стоит у прилавка, ожидая свою покупку и сдачу». Семнадцатилетняя кудесница Флосси с короткой стрижкой и проворнейшими руками тут же «набивает платье изнутри папиросной бумагой, складывает рукава, сворачивает подол, хватает заготовку для коробки, мигом придает всему этому нужную форму и фиксирует с помощью клапанов, обвязывает коробку веревочкой, обрезает концы ножом, потом наносит на крышку пару иероглифов синим карандашом, втыкает с краю корешки, подхватывает мой серый контейнер, который к тому времени успел вернуться на прилавок, но уже с красной резинкой, и начинает отсчитывать мелочь»[75].
– Это мне награда! – резким тоном пояснила Флосси. Если продавщица заметила, что коллега неверно оформила чек, она получает за это десять центов. То есть, благодаря зоркому глазу и острому языку, Флосси получила небольшой навар.
«Глазами покупательницы мне всегда казалось, что заполнить чек – проще детской забавы, – писала Донован. – Но уже после первого дня за прилавком я начала поражаться – неужели хоть одна продавщица на свете может сделать это по всем правилам?» По ее словам, задача была почти невыполнимой. «Мне нужно оформлять чек, фиксировать покупку в журнале учета, лежащем на краю прилавка, а тем временем меня то и дело толкают под локоть еще полдюжины девочек – кто-то пихает покупку в сторону Флосси, кто-то пробивает номерки, кто-то хватает корзину с товаром, – на моей правой руке повисла убитая горем дама, которая слезно умоляет меня подобрать ей платье на похороны мужа, на левой – другая дама, пытающаяся легкими тычками в бок довести до меня информацию, что к четырем ее ждут на свадьбе, и при этом есть еще и третья дама, взгромоздившая почти мне на плечи три или четыре платья на вешалках – и при всем при этом я изо всех сил стараюсь не забыть, в какой именно прямоугольничек на чеке нужно внести сумму продажи, а в какой – номер счета клиента»[76].
Как бы то ни было, «Продавщица» Донован и прочие социологические исследования того времени давали в целом позитивную картину по сравнению с моралистами предшествующих десятилетий, изображавшими отрасль куда мрачнее. Прогрессивистам – включая суфражисток, – которые придерживались протестантских ценностей – таких как воздержанность, умеренность и экономность, – универмаги виделись поразившей общество чумой, которая подстегивает потребительские настроения, ставит во главу угла материальные блага и оказывает дурное влияние на мораль работниц. По их интерпретации, продавщицы работали больше, чем полагалось, и получали меньше, чем заслуживали, а порочные, нацеленные лишь на максимизацию прибыли универмаги толкали этих женщин на путь проституции и криминала, ведя американские города к нравственному кризису.
«У девушки из бедной среды, особенно если она работает продавщицей в большом магазине, где царит атмосфера безудержных трат и удовольствий, тяга к лучшей жизни особенно велика», – гласила сенсационная, всколыхнувшая общественность статья в журнале «Хэмптонз Мэгэзин» за подписью генерала Теодора Бингама, бывшего комиссара нью-йоркской полиции. Универмаг – «настоящее пастбище для сутенера. Он присматривает себе привлекательную девушку, завязывает с ней знакомство, и – если видит, что за нее некому заступиться, – дальше задача легче легкого. Он ведет ее в театр, гуляет с ней по Центральному парку, везет на Кони-Айленд. Притворно сочувствует непростой жизни, обращая ее внимание на разодетых красавиц в собственных автомобилях. Отмечает, что этим женщинам тоже платят, но они попросту нашли способ жить полегче. Со временем эта отрава просачивается в ее сознание, и мы вскоре имеем очередного мотылька, опалившего крылья»[77].
Миф о том, что молодых женщин на низкооплачиваемых работах в универмагах и других местах переманивают в криминальную среду, существовал в рамках так называемой «паники белого рабства», ничем не обоснованной попытки приравнять порабощение афроамериканцев на южных плантациях к эксплуатации белых работников в эпоху индустриализации. Полугосударственные организации вроде чикагской Комиссии нравов или нью-йоркского Комитета Четырнадцати подсылали в универмаги своих агентов, дабы те разоблачили наличие подобной практики, но почти все их находки не оправдывали надежд: самые «скандальные» сообщения касались непристойных выражений среди работниц или, скажем, слухов о том, что кто-то из них находится «на содержании» того или иного зажиточного клиента. «Семнадцатилетняя продавщица доложила о приставаниях администратора, – сообщала одна из агенток, внедренных в “Мейсиз”, – но, стоило ей обратиться с жалобой к управляющему отдела, ее высмеяли». «Продавщица из отдела шляпок обесчещена клиентом; зарплата – десять долларов; стала проституткой»[78]. А в газетах то и дело попадались заголовки вроде «Низкие жалования толкают женщин в преступный мир»[79].



