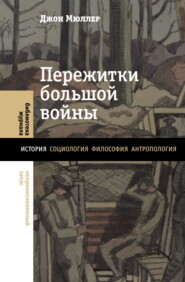
Полная версия:
Пережитки большой войны
Уже 25 сентября 1914 года представлявший Либеральную партию премьер-министр Великобритании Герберт Асквит объявил о четкой позиции по этому вопросу: за малыми странами «следует признать не меньшее право на место под солнцем, чем за их более могущественными соседями». Кроме того, Асквит расширял этот принцип, призвав к «решительному отказу от милитаризма как определяющего фактора в отношениях между государствами и при формировании будущего европейского мира», к «приходу на смену силе… европейского партнерства, основанного на признании равных прав, созданного и осуществляемого общей волей». Все это были впечатляющие высказывания: хотя до 1914 года Британия и была очагом антивоенной агитации, Асквит не относился к числу пацифистов. Вполне вероятно, что он и сам был несколько ошарашен тем, насколько его речь оказалась внезапно близка той шумихе, которую поднимали наиболее идеалистические представители антивоенного движения: всего год назад, указывал Асквит, его предложения «звучали бы утопической идеей». Однако, полагал он, победа в войне заодно позволила бы этому идеалу «получить признание среди европейских государственных умов и в скором времени стать их инструментом»[128].
В последние месяцы того же 1914 года Герберт Уэллс, в довоенное время также не сильно жаловавший пацифистское движение, написал книгу о задачах войны, название которой – «Война против войны (Меч мира)» – со временем превратилось в горький ироничный лозунг. Уэллс считал непосредственной причиной войны вторжение Германии в Люксембург и Бельгию, однако конфликт быстро приобрел характер «войны не народов, но человечества», поэтому ее задачами должны были стать «изгнание беса мирового безумия» и прекращение эпохи войн. Это, настаивал Уэллс, была «война за мир»[129].
Таким образом, по меньшей мере для британцев уже на ранней стадии Первой мировой ее целью стал мир – не просто победоносный мир, а вечный, устойчивый, установленный силой мир, если такое вообще возможно.
Соединенные Штаты также сыграли важную роль в подъеме идеи устойчивого, обеспеченного силой мира. В своем проливающем свет на этот процесс исследовании швейцарский политолог Уильям Раппард красочно описывает, как «семя» идеи вечного мира, вызревавшее преимущественно в Великобритании, «дало плоды на американской почве, куда оно было с прилежной заботой пересажено британскими садовниками, чтобы впоследствии его богатые всходы вернулись в Европу на крыльях красноречия президента Вильсона»[130].
Британцы с начала Первой мировой проявляли значительный интерес к настроениям за океаном по поводу войны и старались подтолкнуть Штаты выступить на их стороне. Позже Дэвид Ллойд Джордж, ставший премьер-министром Великобритании в 1916 году, без утайки говорил: «Условия мира были составлены так, чтобы убедить Америку и в особенности пацифистски и антиимпериалистски настроенного американского президента в том, что цели войны в принципе справедливы»[131].
За время пребывания в должности президента США Вудро Вильсон дважды отдавал приказ о вводе американских войск в Мексику, а когда в России после революции 1917 года началась Гражданская война, он скрепя сердце отправил небольшой контингент даже туда. Таким образом, у нас совершенно нет оснований считать Вильсона образцовым пацифистом. Однако британцы прекрасно знали о его сильных антивоенных устремлениях: «отвращение к войне», указывает Рассел Уэйгли, у Вильсона было «настолько острым, что граничило с пацифизмом». Аналогичным образом Арно Майер отмечает, что Вильсон испытывал «ярко выраженный ужас перед войной», а Александр и Джульетта Джордж говорят о его «антипатии к насилию». Президент Вильсон действительно издавна был восторженным сторонником таких предлагаемых антивоенным движением механизмов, как международный арбитраж и свобода торговли. В 1908 году он вступил в Американское общество мира, в 1912 году выступил перед Всемирным союзом мира, а первым государственным секретарем в период президентства Вильсона был назначен решительный противник войны Уильям Дженнигс Брайан. Вильсон не был ставленником антивоенного движения, однако его идеалистические взгляды на международные отношения во многом были созвучны идеям пацифистов[132].
Чтобы сыграть на склонностях Вильсона, британцы делали акцент на тех аргументах, которые и так органично соответствовали их политике и были важны для поддержания боевого духа их армии. Британцы подчеркивали, что «ведут не только войну за мир, но и войну против войны», как выразился в 1917 году Асквит. Кроме того, они преувеличивали масштабы зверств, творимых немецкими солдатами против мирных жителей Бельгии, приукрашивали нечеловеческую жестокость химического оружия, впервые использованного немцами в бою в 1915 году (для драматического эффекта британцы увеличили число жертв первой газовой атаки немцев в пять раз) и с самого начала проклинали Германию за пристрастие к злу «милитаризма»[133].
Постепенно Вильсон и американцы согласились с этими доводами. У США было множество причин вступить в войну, но важнейшей из них, подчеркивает Артур Линк, было желание Вильсона, чтобы «Соединенные Штаты выполнили свою миссию по обеспечению справедливого и прочного мирного урегулирования». Вильсону также отнюдь не было чуждо желание оставить свой след в мировой истории. Один из ключевых советников Вильсона полковник Эдвард М. Хауз проникновенно писал ему в 1918 году: «Повсюду стремительно крепнут настроения в пользу организованного противостояния войне, и я считаю необходимым, чтобы Вы стали во главе этой инициативы… Это будет одно из тех начинаний, с которыми Ваше имя будет ассоциироваться в веках». Действительно, знаменитое желание Вильсона «обеспечить миру гарантии демократии»[134] во многом было составляющей его антивоенного настроя. Вильсон, как и многие другие люди в Великобритании, Франции и Соединенных Штатах, пришел к убеждению, что «свобода – единственная гарантия мира», как позже скажет Ллойд Джордж[135].
Однако идея отказа от войны в «цивилизованном» мире, возможно, не требовала, чтобы среди ее главных застрельщиков выступал Вильсон. К 1914 году она уже была в ходу и обрела множество сторонников в Великобритании и Франции, да и в Германии и Австрии тоже, а вскоре после начала войны, как отмечалось выше, видные британские политические лидеры и интеллектуалы быстро ею прониклись и стали ее пропагандировать. В Америке с началом войны численность и активность антивоенных групп, и прежде имевших ощутимое присутствие в американской политике, резко увеличились, причем в их ряды вскоре входили уже не только известные представители Демократической партии Вильсона, но и такие ярые лидеры республиканцев, как Теодор Рузвельт и Уильям Говард Тафт[136]. По всей видимости, даже если бы на посту президента был не Вильсон, а кто-то другой, представление о том, что это должна быть последняя война, определяло бы американскую политику точно так же, как британскую.
Была ли необходимость в Первой мировой войне?
Представление о том, что войне как образу действий в рамках развитого мира должен быть положен конец, в преддверии Первой мировой стремительно набирало популярность. Массово распространялись общества борьбы за мир, в дело вступали известные бизнесмены, проводились международные конгрессы за мир, а правительства начинали замечать пацифистское движение и участвовать в нем. Лидеры либеральных политиков и феминистского движения считали противостояние войне частью своего интеллектуального багажа, а многие социалисты превращали это противостояние в ключевой пункт своей идеологии. Во время Итало-турецкой войны 1911–1912 годов и Балканских войн 1912–1913 годов они организовали масштабную и эффективную агитационную кампанию, которая помогла не допустить эскалации этих конфликтов[137]. Благодаря этим тенденциям сторонники мира стали ощущать, что их оптимизм не является совершенно беспочвенным. Выдающийся британский историк Дж. П. Гуч в 1911 году делал вывод, что «теперь мы можем с определенной уверенностью ожидать, что через некоторое время война между цивилизованными нациями станет таким же анахронизмом, как дуэли»[138].
Разумеется, Первая мировая стала потрясением для оптимизма сторонников мира, даже несмотря на то что усилила доверие к ним и заставила пацифистов работать с удвоенной силой. В ретроспективе некоторые участники движения вспоминали довоенную эпоху с чувством удовлетворения. Например, Норман Энджелл утверждает в своих мемуарах, что если бы Первую мировую можно было отсрочить на несколько лет, то за это время «в Западной Европе, вероятно, уже сложились бы такие настроения», которые позволили бы «избежать войны»[139].
Не исключено, что антивоенное движение двигалось к достижению некой необратимой динамики наподобие той, которую прежде обрело движение за отмену рабства. К тому же развитию антивоенного движения, вероятно, способствовало то обстоятельство, что за столетие, предшествовавшее Первой мировой войне, европейцы, видимо, сами того не замечая, привыкли к благам мирной жизни, особенно в экономической сфере. Основная трудность, однако, заключалась в том, что к 1914 году институт войны в значительной степени сохранял свою привлекательность и ощущение неизбежности, которые он приобрел за тысячелетия своего существования. Несмотря на впечатляющее и беспрецедентно долгое столетие почти полного отсутствия внутриевропейских войн, война по-прежнему была привлекательной не только для закоснелых милитаристов, но и для общественного мнения и интеллектуалов-романтиков как событие порой желательное и облагораживающее, зачастую полезное и прогрессивное и уж всегда волнительное.
Люди, владеющие искусством продаж, всегда готовы использовать случайные события и обстоятельства для продвижения своего товара, а успешная реклама зачастую оказывается не столько искусным манипулированием, сколько умением заработать на исторической конъюнктуре или оказаться в нужном месте в нужное время. Нужно уметь ухватиться за благоприятную возможность при первых же ее признаках и ковать железо, пока оно горячо. Поэтому, несмотря на то что противники войны с течением времени могли доказать, что мир во многих существенных аспектах конкуренции лучше войны, этого было недостаточно для гарантированного успеха. На деле до 1914 года антивоенное движение все еще воспринималось как чудаковатая маргинальная группа.
Иными словами, чтобы идея отказа от войны стала востребованным товаром, быть может, и потребовался еще один наглядный пример того, каким устрашающим на деле является этот убеленный сединами и проверенный временем институт. Первая мировая, возможно, не была намного ужаснее, чем многие предшествовавшие ей войны, но она разрушила комфортное представление о том, что войны в Европе непременно будут щедрыми на славные подвиги и скупыми на кровопролитие, напомнив европейцам о том, насколько чудовищными могут быть войны на их континенте. На сей раз европейцы по меньшей мере были готовы сделать первый шаг, чтобы принять это послание.
Глава 4. Вторая мировая война как катализатор антивоенных настроений
В середине прошлого тысячелетия благодаря формированию в Европе организованных армий и сил правопорядка и ставшему следствием этого возникновению упорядоченных государств война в определенной степени была поставлена под контроль. Однако европейцы по-прежнему считали ее естественным, неизбежным и зачастую желанным фактом реальности. Травма, нанесенная Первой мировой, побудила европейцев задействовать уже имеющиеся механизмы контроля над войнами, дабы полностью исключить войну как институт из международных отношений.
После Первой мировой развитые страны участвовали в войнах четырех типов. Во-первых, это комплекс войн, объединяемых понятием «Вторая мировая война»; во-вторых, это войны, связанные с холодной войной; в-третьих, это различные войны в европейских колониях; в-четвертых, это военно-полицейские операции, отличительные признаки и определение которых еще предстоит сформулировать. К последним относятся имевшие место после холодной войны отдельные случаи применения военной силы с целью урегулирования гражданских конфликтов и свержения вредоносных политических режимов. О войнах второго и третьего типа пойдет речь в следующей главе, войны четвертого типа являются основной темой глав 7 и 8.
А в этой главе мы рассмотрим войны первого типа, обратившись к государствам-агрессорам, развязавшим Вторую мировую. Наш вывод будет заключаться в том, что эта война, вероятнее всего, не состоялась бы, если бы не махинации одного человека – Адольфа Гитлера. Помимо этого, мы рассмотрим следствия подобного заключения и оценим, какое влияние Вторая мировая оказала на формирование неприятия войны в развитом мире.
Запрос на мир после Великой войны
Великая война (как ее называли на протяжении более чем двух десятилетий после окончания) преимущественно оставила после себя в Европе ощущение горечи, разочарования, надлома и взаимных упреков. Теперь война, как правило, больше не приветствовалась как отменное театральное действо, искупительная смута, очистительная буря или духоподъемное утверждение человеческого. Она пришла в соответствие с тем определением, которое дал «первый современный генерал»[140] Уильям Текумсе Шерман, называвший войну адом. Первая мировая привела в ужас тех, кто прежде нередко восхвалял войну и охотно предвкушал ее жестокие и радикальные катаклизмы. Всего за половину десятилетия противники войны, прежде бывшие осмеиваемым меньшинством, превратились в уверенное большинство: казалось, что теперь за мир выступает каждый[141].
Участники мирных переговоров 1918 года были твердо убеждены, что теперь войну следует либо контролировать, либо искоренить, и адаптировали под эти цели (по меньшей мере отчасти) многие из механизмов, за которые давно ратовали пацифисты. Так была учреждена Лига Наций – своего рода глобальное правительство, призванное высказываться от лица мирового сообщества и применять меры морального и физического воздействия к потенциальным нарушителям спокойствия. Была торжественно провозглашена недопустимость агрессии – расширения государственных границ военным путем, и государства, подписавшиеся под уставом Лиги Наций, впервые в истории официально взяли на себя обязательство «уважать и сохранять… территориальную целостность и существующую политическую независимость» всех стран – участниц организации[142]. Кроме того, появились правовые кодексы и органы, наделенные возможностями мирного разрешения межгосударственных споров. Пристальное внимание уделялось и вопросу ограничения вооружений, отчасти потому, что в послевоенное время пользовалась популярностью теория, сторонники которой считали Великую войну, равно как и войны меньшего масштаба до нее, делом рук алчных производителей оружия.
В это время война как таковая воспринималась многими как реальная угроза и настоящий враг, в связи с чем первоочередной задачей национальных интересов становилось сохранение мира между народами. Неотступный опыт 1914 года приводил к выводу, что лучшие способы предотвращения войны – это готовность идти на уступки и благонамеренное здравомыслие. Обиды можно загладить, а проявления враждебности, во многом основанные на недопонимании или упрощенческих взглядах, возможно сокращать. Однако некоторые историки сомневаются, что в 1914 году подобные действия привели бы к успеху, поскольку Германия, по их мнению, стремилась к войне и рассчитывала на победу, которая позволила бы ей значительно расширить подконтрольную территорию и утвердиться на ней в качестве господствующей державы. В 1914 году ситуация зачастую стремительно менялась, и мало какие мудрые действия могли предотвратить войну, по меньшей мере в тот момент. Кроме того, возможно, что в дальнейшем, с учетом определенного пространства для маневра, стремление всех действующих лиц к войне могло ослабнуть или даже сойти на нет. Так или иначе, события 1914 года давали пищу для размышлений, и из тех политических и военных телодвижений, которые привели Европу к катастрофе, западные сторонники мира определенно извлекли урок[143].
Но, как это часто бывает, нашлись лидеры, готовые различными способами использовать подобные настроения в собственных целях. Речь идет о трех странах – Италии, Японии и Германии.
Италия и Япония
Бенито Муссолини, пришедший к власти в Италии в 1922 году, а в 1927 году получивший диктаторские или почти диктаторские полномочия, был одним из тех немногих европейцев, которые и после Великой войны по-прежнему не скрывали свой восторг при первом упоминании войны. Фашистская философия Муссолини была проникнута неверием «в возможность и пользу вечного мира», а пацифизм он называл «проявлением трусости». «Лишь война приводит человека к величайшему напряжению всех его сил и отмечает печатью благородства каждого, у кого найдется храбрость встретиться с ней лицом к лицу», – писал Муссолини[144]. Отчасти побуждаемый подобными бредовыми анахронизмами, Муссолини стремился к войне, в которой он смог бы проявить отвагу и энергию, дабы заслужить собственную «печать благородства», и вскоре обнаружил привлекательную мишень. Ею оказалась Эфиопия – слабая, отсталая, не имевшая выхода к морю, малонаселенная феодально-племенная африканская страна, которая либо вовсе не интересовала, либо мало прельщала других европейских колонизаторов.
Несмотря на исключительный объем властных полномочий, Муссолини все же пришлось побороться за то, чтобы заручиться поддержкой внутри Италии для ведения войны в далекой Африке. Армия, король, консервативно настроенный истеблишмент и даже некоторые видные члены его фашистской партии категорически не проявляли желания участвовать в том, что Муссолини считал «большой игрой». Его начинание получило определенную поддержку со стороны Римско-католической церкви, желавшей обратить эфиопов в свою веру и принести им свет цивилизации. Кроме того, война обрела некоторую популярность в массах, поскольку воспринималась как месть за унизительное поражение, понесенное Италией в Эфиопии в 1896 году[145], которое все еще доставляло итальянцам жгучую боль[146]. Эфиопия сопротивлялась семь месяцев, но в итоге Италии удалось ее покорить. Популярность этой победы над страной, ценность которой была неочевидной для других европейских держав, придала Муссолини смелости: его чрезвычайно вдохновляло то, что страны, выступавшие за мир, оказались не готовы дать какой-либо существенный ответ его агрессии. Как следствие, Муссолини продолжил свои экзерсисы, так или иначе следуя прежним представлениям об успехе. В 1938 году он направил вооружение и войска на помощь фашистам в Гражданской войне в Испании, в 1939 году Италия аннексировала Албанию, а 10 июня 1940 года выступила против Франции и Великобритании на стороне Германии.
Однако каждый новый шаг Муссолини приводил к тому, что Италия всячески сопротивлялась. Армия саботировала грандиозный план нападения на Египет, а вступить в войну на стороне Германии итальянские генералы и адмиралы согласились, лишь когда стало очевидно, что Франция пала под натиском немцев (Италия оперативно направила туда несколько военных самолетов, дабы приложить руку к избиению лежачего), а Муссолини усыпил бдительность военачальников заверениями, что после Франции реальной войны не будет. «Генералы, – с отвращением жаловался он позже, – не хотели воевать». И хотя Муссолини был непревзойденным демагогом, он не смог пробудить значительный массовый энтузиазм к войне. Как отмечал Макгрегор Нокс, Муссолини «долгие годы тщетно пытался подготовить почву для того дня, когда итальянская общественность встанет с колен и будет требовать войны»[147].
Таким образом, даже при наличии харизматичного лидера, являвшегося довольно искусным поклонником войны, Италия едва ли была образцом крупного современного агрессора. Муссолини, с его безумными авантюрами и безучастными итальянцами, едва ли пробил бы значительную брешь в общеевропейском мире образца 1918 года без координации с действиями его союзников, а затем и хозяев – немцев.
Япония – далекое, менее развитое государство, которое едва проявило себя в Первой мировой войне, – представляла собой более значительную угрозу. У многих японцев мог сохраняться тот энтузиазм в отношении войны, который в Европе преимущественно ушел в прошлое. Как указывает Альфред Вагтс, Япония была единственной страной, где милитаризм старого пошиба пережил Великую войну[148].
К 1920-м годам новая японская армия стала средоточием воинственной романтической идеологии, делавшей акцент на национализме и экспансии. Создатели этой идеологии осмеивали материализм, связывая его с теми социальными классами, которые они презирали точно так же, как главную, по их мнению, угрозу – Соединенные Штаты. Поэтому они ухватились за мистическое представление о том, что историческая миссия Японии заключается в экспансии в Восточную Азию, дабы гарантировать мир в этом регионе и оградить сотни миллионов собратьев-азиатов от империалистического гнета. К 1936 году носители подобного мировоззрения поставили страну под свой контроль, зачастую при помощи заказных убийств. Военное министерство Японии провозгласило войну «отцом созидания и матерью культуры»[149].
Однако четкого плана действий у Японии не было: она ввязывалась в войны при помощи неуклюжих действий. Первый шаг был сделан в 1931 году, когда подразделения японской армии, дислоцированные в Маньчжурии, действуя во многом по собственной инициативе, по сути взяли этот регион под контроль. В 1937 году после нескольких военных инцидентов в Китае и серии непродуманных политических демаршей Япония приняла «бесповоротное решение завоевать Китай»[150]. После этого китайского «инцидента» Япония окончательно встала на военные рельсы как экономически, так и психологически, но издержки масштабной войны в Китае вскоре принесли проблемы в экономике, а кроме того, ведение войны в принципе ухудшало отношения японцев с англичанами, американцами и СССР (пограничные столкновения с советскими войсками в 1938 и 1939 годах обошлись японцам дорого). Затем, когда летом 1941 года Япония, применив силу, гарантировала себе военные базы на юге Индокитая, Соединенные Штаты ответили на это экономическим эмбарго, которое должно было продолжаться до тех пор, пока Япония не откажется от своих имперских амбиций. Запасы нефти и других ресурсов, необходимых для ведения войны, стремительно истощались, поэтому Япония решила захватить необходимое сырье и установить новый порядок при помощи серии согласованных нападений на колониальные владения Голландии, Франции, Великобритании и Соединенных Штатов. Следуя этому плану, 7 декабря 1941 года японцы совершили молниеносную атаку на соблазнительно расположенную в пределах досягаемости их авиации базу военно-морского флота США в Перл-Харборе.
Японцы были готовы пойти на риск крупной войны, но не отказаться от своих грандиозных замыслов. Изучив перспективы предстоящей кампании, военный министр Хидэки Тодзио резюмировал, что однажды жизнь подводит нас к моменту, когда, закрыв глаза, нужно совершить прыжок в неизвестность. Как отмечает Роберт Бьютоу, это романтическое утверждение соответствовало «традиции самураев», чьим потомком был Тодзио: «Готовность самураев принять любой вызов независимо от шансов на победу вошла в легенду». В отличие от Европы, в Японии эта готовность на риск проникла в общество довольно глубоко. Мнения японского народа по этому поводу никто не спрашивал; при этом как в армии, так и среди гражданских нашлось немало групп, которые настойчиво призывали не затягивать с войной, а некоторые из них угрожали убийством любым представителям верхушки за возможное несогласие[151].
Таким образом, в 1941 году Япония была в целом отсталой страной, где большая или тотальная война по-прежнему считалась возможным благом или почетной необходимостью, а имперский статус рассматривался как ключевой атрибут государственности[152]. Чтобы японцы усвоили урок, вынесенный европейцами из Первой мировой, потребовалась новая чудовищная война, и Япония в итоге оказалась прилежным учеником.
Гитлер как неизбежная причина европейской войны
Итак, война на Тихом океане не была неизбежной, но вероятность ее была отчетливой, поскольку Япония в целом была готова поставить на карту все ради удовлетворения своих чрезмерных имперских амбиций. В Европе же такие настроения, напротив, едва ли кто-то приветствовал, однако решающим фактором оказалась позиция одного-единственного человека. Без лидера Германии Адольфа Гитлера войны в Европе, скорее всего, так бы и не состоялось.
С таким выводом хотя бы в какой-то степени согласны многие авторитетные историки. Например, как утверждает Дональд Кэмерон Уотт, «действительно экстраординарным моментом в событиях, которые привели к началу Второй мировой, является то, что гитлеровская воля к войне смогла преодолеть фактически всеобщее нежелание воевать. Гитлер был готов к войне, желал ее и жаждал… Войны больше не хотел никто, хотя Муссолини был опасно близок к тому, чтобы поддаться на уговоры. Во всех странах военные советники предрекали поражение, а экономические – разорение и банкротство». В том же ключе рассуждает Герхард Вайнберг: «Вне всякого сомнения, любой другой немецкий лидер едва ли решился бы пойти на столь решительный шаг. Но сами предупреждения, которые Гитлер слышал от некоторых своих генералов, возможно, лишь укрепляли его уверенность в личной роли того единственного человека, который способен, готов и даже стремится повести за собой Германию и втянуть весь мир в войну». Ф. Х. Хинсли указывал, что «историки справедливо почти единодушны в том, что… причинами Второй мировой войны были личность и цели Адольфа Гитлера… Эту войну спровоцировала гитлеровская агрессивность». Уильям Манчестер тоже отмечает, что развязанной Гитлером войны «хотел лишь он один», а Джон Лукач считает, что Вторая мировая война «была немыслимой и остается необъяснимой без Гитлера». Наконец, Джон Киган констатирует, что «в Европе войны хотел лишь один-единственный человек – Адольф Гитлер»[153].



