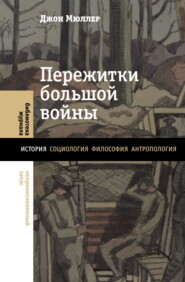
Полная версия:
Пережитки большой войны
59
О сущности партизанской войны см. Kaldor 1999, 97. О фазах партизанской войны, выделенных Мао, см. Griffith 1961, 20–22.
60
Имеется в виду так называемое Пасхальное наступление войск Северного Вьетнама, которое оказалось неудачным, что в дальнейшем позволило США выйти из войны на «почетных» условиях. – Прим. ред.
61
Keeley 1996, 42–48. См. также Lieven 1998, 5, 130, 324–354; Valentino 2004, chap. 6.
62
О преимущественно тщетном стремлении к «решающей» битве см. Weigley 1991. Однако решающими могут быть общие результаты таких войн, поскольку они способны приводить к прекращению существования проигравшего субъекта, на что указывает Кили (Keely 1996, 223).
63
McPherson 1997, 42.
64
Keeley 1996, chap. 5 и p. 175.
65
Keeley 1996, chaps 2–4, 6, 7 и p. 174–175. Эти конфликты зачастую именуются конфликтами «низкой интенсивности» во многом в том же смысле, в каком человеческий ущерб, причиняемый автомобильными авариями в Соединенных Штатах, тоже можно считать низким. В среднем каждый день в стране с огромной территорией в автокатастрофах погибает лишь примерно сто человек. Однако в совокупности автомобили причиняют больше смертей, чем большинство войн: ежегодно на дорогах погибают десятки тысяч человек, а каждое десятилетие – более четверти миллиона.
66
Contamine 1984, 23 (Контамин 2001, 33); Kaeuper 1988, 11; Howard 2000, 13; Tilly 1990, 184 (Тилли 2009, 265) (курсив добавлен); см. также Parker 1996, 1. По подсчетам Джеффри и Анжелы Паркер, в период между 1550 и 1650 годами европейские государства не воевали между собой всего один год, и «даже в этот единственный мирный год армии находились на марше и едва не разразилась большая война» (Parker G. and Parker A. 1977, 46).
67
Tilly 1985, 173 (Тилли 2016); Keegan 1987, 194; см. также: Ehrenreich 1997, 160, 174. Описанную организацию рекрутских наборов высмеивает Шекспир в хронике «Генрих IV» (часть I, акт 4, сцена 2 и часть II, акт 3, сцена 2).
68
О рекрутских наборах см. Parker 1995, 32–39. Об армии как приюте и спасении см. Keegan 1998, 48–49. О Столетней войне см. Wright 2000, 69.
69
О дезертирстве см. Parker 1996, 55–58; 1997, 180–182. Об осадах см. Parker 1995, 38.
70
Boardman 1998, 92, 110–111, 158.
71
Tilly 1990, 184 (Тилли 2009, 265); Tilly 1995, 173 (Тилли 2016). О выжигателях земли см. Keegan 1993, 13. О войне как деловом предприятии см. Berdal and Malone 2000, 1. См. также Parker 1996, 58–59; 1997, 179. Даже командовавший хорошо организованной армией шведский король Густав Адольф говорил, что «война должна кормить войну» (Millett and Moreland 1976, 15; см. также Contamine 1984, 57). Бессмысленное разрушение было основой подхода к войне у Чингисхана. Он считал «величайшим удовольствием в жизни громить врагов, гнать их перед собой, отнимать у них богатства, видеть, как те, кто им дорог, умываются слезами, скакать на их лошадях и прижимать к груди их жен и дочерей» (Kellett 1982, 292–293).
72
Kaeuper 1988, 84; Hale 1985, 179.
73
Wright 2000, 7–8, 4–5, 69, 72–73, 3. См. также Lynn 2003, 85–93.
74
Caferro 1998, xiv (о названиях и девизах компаний), 2 (описание лагерей кондотьеров и характеристика Хоквуда), 1 (история о юной монахине), 25–30 и 36–80 (о разрушениях). См. также Singer 2003, 216.
75
Keegan 1993, 13–16. Об армиях наемников см. Caferro 1998; Ehrenreich 1997, 179–181. См. также Parker 1997, 183–186; Levy, Walker, and Edwards 2001, 28.
76
Parker 1995, 41.
77
О короле Фридрихе см. Luvaas 1999, 72–28. О Веллингтоне см. Brett-James 1961, 269. Как утверждал один современник, английский вербовщик «отправится в те места, где у него будет меньше всего шансов встретить уравновешенных и респектабельных людей: в публичный дом, на ярмарку, на скачки или на поминки, в притоны праздности и разврата, и во многих случаях, одурманив какого-нибудь ленивого бродягу хмельным напитком, он сунет ему в руку шиллинг… Лишь немногих из тех, кто записался в армию добровольно, толкала на этот шаг бедность… некоторые опозорили свое доброе имя на прежней службе или работе, многие совершили проступки, за которые по закону должны были понести наказание, а большинство были беспробудными пьяницами» (Davies 1954, 68).
78
Brett-James 1961, 269.
79
Tilly 1985, 178. О так или иначе связанном с этим процессом и установленном позже контроле государства над каперством, пиратством и компаниями вооруженных наемников см. Thomson 1994.
80
Августин цит. по: Kalyvas 2001, 105 [В российском издании трактата «О граде Божием» (Блаженный Августин. Творения: В 4 т. Т. 3: О Граде Божием. Книги I–XIII. СПб.: Алетейя; УЦИММ-Пресс, 1998) этот фрагмент из кн. 4 гл. 4 трактата «О Граде Божием» выглядит следующим образом: «Когда подобная шайка потерянных людей возрастает до таких размеров, что захватывает области, основывает оседлые жилища, овладевает городами, подчиняет своей власти народы, тогда она открыто принимает название государства»]. См. также Tilly 1985, 184.
81
Tilly 1990, 185 (Тилли 2009, 266); Schroeder 2001; Levy, Walker, and Edwards 2001, 27.
82
Tilly 1990, 185 (Тилли 2009, 266). См. также Levy, Walker, and Edwards 2001, 18–19.
83
Luard 1986, 58–59. См. также Levy, Walker, and Edwards 2001, 17–19.
84
Luard 1986, 330–31, 354, 349, 361. Parker 1994, 42.
85
Clausewitz 1976, 87–88, 605–10 (Клаузевиц 1998, 55). O теории Клаузевица см. Brodie 1959, 37–38; 1976.
86
Цит. по: Levy 1983, 45.
87
См. также Blainey, 5–9. Барбара Эренрайх живо рассуждает о том, как война «впивается железной хваткой в человеческие культуры», и о ее «поразительной устойчивости перед лицом меняющихся обстоятельств… Война, по-видимому, гораздо более жизнестойка, чем любая отдельно взятая религия, а возможно, и более жизнестойка, чем религия как таковая» (Ehrenreich 1997, 231–224.) Однако за последние несколько столетий некоторым некогда воинственным культурам, похоже, удалось избавиться от «железной хватки» войны. Создается впечатление, что они вполне счастливы и довольны тем, что полностью изменили свою линию поведения в отношениях с соседями, решив совершенно избегать войн (см. также Keeley 1996, 32). Казалось бы, прочность и устойчивость, должны быть сделаны из более твердого материала, однако все это не означает, что более прочной материей, чем война, оказалась религия: скандинавским народам, по сути, удалось избавиться и от нее.
88
Разумеется, в рассматриваемый период большинство этих стран занимали меньшую территорию и не отличались столь внушительной экономикой, как, скажем, Британия или Франция. Но при достаточных усилиях некоторым из них удалось на какое-то время закрепиться в европейской военной системе, соперничая по меньшей мере с не самыми крупными игроками, такими как Италия или Австро-Венгрия. В 1710 году, когда Нидерланды и Швеция взяли курс на голландизацию, их армии и вовсе были более многочисленны, чем армии Британии или Австрии, и ощутимо превосходили числом армию Пруссии. См.: Kennedy 1987, 99. Жертвы, на которые этим странам требовалось пойти для сохранения своей позиции в военной системе, в относительных показателях, вероятно, были бы не больше, чем те, которые терпел Советский Союз, предпринимая затратные усилия по поддержанию военного паритета с США во время холодной войны, или те, на которые пошел Израиль в своем стремлении самостоятельно решать свою судьбу на Ближнем Востоке, или же те, что взвалил на себя Северный Вьетнам для расширения контроля над южной частью страны. Однако страны, которые взяли курс на голландизацию, пришли к выводу, что статус военной державы просто не стоит тягот и усилий. За индифферентностью или нейтральностью этих стран по отношению к войне иногда присматривали другие, более сильные государства. Однако это обстоятельство не было причиной стремления указанных государств к выходу из военной системы – оно просто ему способствовало. Кроме того, на деле некоторые из этих стран для поддержания своего нейтралитета вооружались до зубов.
89
Высказывание Смита цит. по: Jones 1987, 235 [рус. пер. цит. по: Аникин А. В. Шотландский мудрец: Адам Смит, в: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: ЭКСМО, 2007. С. 884]. О легких налогах и терпимости в управлении см. Rosenberg and Birdzell 1986, 116–117. О тяжести военных налогов см. Dessert 1995, 57–81.
90
Активисты антивоенного движения во многом напоминали «транснациональных предпринимателей от этики» – этот типаж обнаруживает Этан Нейделманн: в XIX веке люди такого склада могли успешно агитировать против пиратства, каперства и рабства, а в наши дни выступают против международной наркоторговли, загрязнения окружающей среды и истребления слонов и китов (Nadelmann 1990, 479–526). Напоминают они и «предпринимателей от идеологии», о которых пишет Нета Кроуфорд (Crawford 2002) (на самом деле это могли быть одни и те же люди) – в XX веке они первыми в истории человечества возвели идею деколонизации до уровня международной нормы (Crawford 2002). Подробнее об истории антивоенного движения см. следующие работы: Beales 1931; Hinsley 1963; Chickering 1975, chap. 1; Howard 1978, chap. 2; Mueller 1989, chap. 1; Cooper 1991.
91
Wilde 1946, 133–134.
92
Angell 1951, 145–149; J. D. B. Miller 1986, 4–8.
93
Joll 1984, 176–182. Об антивоенной деятельности французских социалистов см. Chickering 1975, chap. 8.
94
Имеется в виду Николай II, который выступил инициатором Гаагской конференции 1899 года и поддерживал идеи разоружения и мирового арбитража. Его отец Александр III также не испытывал симпатий к войне и заслужил неофициальный титул Миротворца, поскольку при нем Россия не вела ни одной войны. – Прим. ред.
95
О фон Зутнер см. Chickering 1975, 92–93, 327–328. Angell 1951, 146–147. См. также O’Connell 1998, 248–249.
96
Keegan 1993, 21; Jefferson 1939, 262–63.
97
Stromberg 1982, 1–2. См. также Mueller 1989, chap. 2.
98
О. У. Холмс – младший (1841–1935) был участником Гражданской войны (получил три ранения), в 1902–1932 годах входил в состав Верховного суда США, установив возрастной рекорд среди членов этой организации. – Прим. ред.
99
Имеется в виду эпизод Крымской войны, имевший место во время Балаклавского сражения 25 октября 1854 года, когда британские кавалеристы под командованием лорда Кардигана совершили героическую, но бессмысленную и гибельную для них атаку на позиции русской армии. Этот сюжет лег в основу многочисленных произведений английской литературы и живописи. – Прим. ред.
100
Холмс цит. по: Lerner 1943, 20. Черчилль цит. по: Weidhorn 1974, 20. Токвиль цит. по: Stromberg 1982, 186. Фридрих Великий цит. по: Bernhardi 1914a, 27. Мольтке цит. по: Brodie 1973, 264; Ryder 1899, 727. См. также Ruskin 1866, 84, 85, 89 (Рёскин 2018, 46, 48); Milne 1935, 56.
101
Treitschke 1916, 2: 599; Bernhardi 1914a, 26; Ruskin 1866, 88–89.
102
Bernhardi 1914a, 26; Treitschke 1916, 1:50. Ницше цит. по: Barclay 1911, 16. Мольтке цит. по: Chickering 1975, 392–393. См. также Cramb 1915, 128, 146; Kant 1952, 113 (section 28) (Кант 2020, 130). Кант оказался в хорошей философской компании, поскольку в том же духе рассуждал еще Аристотель: «Война вынуждает быть справедливым и воздержным, наслаждение же благосостоянием и досуг, сопровождаемый миром, скорее способны избаловать людей» (Aristotle 1958, 221–222/Аристотель 2016, 464). Высказывание Люса цит. по: Linderman 1987, 292.
103
Беллок цит. по: Stromberg 1982, 180. Штенгель цит. по: Chickering 1975, 394; Stromberg 1982, 11, 189.
104
Пирсон и Ренан цит. по: Langer 1951, 88–89. Золя цит. по: Joll 1984, 186. Адамс и Люс цит. по: Linderman 1987, 292. Стравинский цит. по: Stromberg 1982, 51. Представлением о том, что война может быть прогрессивной, прельстились даже некоторые противники войны, хотя они пытались утверждать, что времена, когда война действительно была полезной и необходимой, уже в прошлом. В лекции, опубликованной в 1849 году, американский эссеист Ральф Уолдо Эмерсон заключал, что «война воспитывает чувства, пробуждает к действию волю, совершенствует физическое телосложение, стремительно и близко сталкивает людей друг с другом в критические моменты, давая помериться силами». Но, по мнению Эмерсона, «воевать тянет именно невежественную и незрелую часть человечества». Поскольку цивилизация уже созрела для того, чтобы перейти на «более высокие стадии» стадии развития, считал Эмерсон, война идет на «спад», фактически «находится на последнем издыхании» (Emerson 1904, 151, 152, 155, 156, 159). Герберт Спенсер, видный сторонник социал-дарвинизма, пришел к аналогичному выводу. Он утверждал, что в прошлом война была «незаменима» в качестве «процесса, посредством которого нации были объединены, организованы и дисциплинированы», однако теперь она выполнила свою работу. Благодаря тому, что «Землю уже населяют более могущественные и разумные расы», нам остается только ждать, пока под «незримым давлением распространения индустриальной цивилизации варварство окончательно сойдет на нет» (Spencer 1909, 664–665); см. также: Langer 1951, 89).
105
Холмс цит. по: Lerner 1943, 19–20; Treitschke 1916, 2: 396; James 1911, 300–311; Tolstoy 1966, 1372 (Толстой 1981, 364).
106
Treitschke 1916, 2: 443. О «ватагах вооруженных людей» см. Esposito 1979, 217. О войне как «бодром и веселом деле» см. Lebow 1981, 251. Об иллюзии короткой войны см. Farrar 1973; Snyder J. 1984; van Evera 1984, 58–107. Впрочем, Бернхарди считал, что еще одна Семилетняя война «объединит и возвысит народ и уничтожит болезни, угрожающие здоровью нации» (Bernhardi 1914, 233). С этой точкой зрения соглашались некоторые соотечественники Бернхарди, см. Chickering 1975, 390–391; Freud 1957, 278 (Фрейд 2020, 94).
107
Howard 1984, 9; Schroeder 2001; см. также: Joll 1984. Фон Зутнер цит. по: Chickering 1975, 91; James 1911, 304 (курсив в оригинале). Роберт О’Коннелл так размышляет о предвоенном времени: «Для многих утверждение о том, что столь фундаментальный институт, как война, мог изжить свою целесообразность, было не просто неправдоподобным – оно полностью противоречило представлению людей о происходящем вокруг… [Они рассматривали] войну как паллиативную меру, как некий противовес скуке и сомнениям повседневности… [который] открывал возможность пережить приключение в современном сверхцивилизованном мире… Есть все основания полагать, что такие представления были широко распространены… среди людских масс во всех уголках промышленно развитого мира» (O’Connell 1998, 248).
108
Все это, к примеру, обессмысливает диалог двух персонажей написанной в 1906 году пьесы Бернарда Шоу «Майор Барбара»:
«– Ну что ж, чем разрушительнее становятся войны, тем скорее они прекратятся, верно?
– Ничего подобного. Чем разрушительнее война, тем больше в ней увлекательного» [Шоу Б. Полное собрание пьес в шести томах. Т. 3. Л.: Искусство, 1979. С. 80. Пер. Н. Дарузес].
Ужасные вещи зачастую привлекательны, но из этого не следует, что они при этом будут считаться желанными.
109
Toynbee 1969, 214; Luard 1986, 365; Brodie 1973, 30; Hobsbawm 1987, 326 (Хобсбаум 1999, 468); Holsti 1991, 175.
110
О восстании тайпинов см. Ho 1959, 275. О потерях в Первой мировой войне см. Sivard 1987, 29–31 (все оценки автора этой работы основаны на данных, собранных Уильямом Экхардтом). Что же касается совокупной оценки погибших в ходе восстания тайпинов, то здесь Рут Сивард приводит практически непостижимо заниженные данные (см. Ho 1959, 236–247).
111
В данной оценке приведены военные потери в том виде, как они детализированы в работе Сивард (Sivard 1987, 29–31) для европейских участников боевых действий. Иными словами, в эту статистику не входят военные потери Австралии (60 тысяч человек), Канады (55 тысяч), Индии (50 тысяч), Новой Зеландии (16 тысяч), Турции (1,45 млн) и Соединенных Штатов (126 тысяч). Учет неевропейцев существенно повлияет на результаты калькуляции: относительные показатели военных потерь окажутся ниже, поскольку показатели численности населения указанных стран и территорий резко увеличат базу для исчисления доли погибших. По оценке Колина Макэведи и Ричарда Джоунса (McEvedy and Jones 1978, 34), совокупные военные потери в ходе Первой мировой составили 8 млн человек, что существенно меньше, чем 12,6 млн, которые приводит Сивард. Тщательная и получившая широкое признания оценка совокупных военных потерь, выполненная в 1923 году, также ниже – между 10 и 11 млн человек (Dumas and Vedel-Petersen 1923, 144). По другим оценкам, общее число погибших в боях составило 9 млн (Winter 1989, 206; Small and Singer 1982, 89) или 7,7 млн человек (Levy 1983, 91). Общие оценки численности населения представлены в: McEvedy and Jones 1978, 19.
112
Botterweck and Ringgren 1986, 189–198. Если рассматривать написанное в Библии как буквальную истину, то народ Израиля предпринимал целый ряд подобных войн. Как утверждается в Библии, Господь был обеспокоен тем, что тогдашние обитатели земли обетованной могут сбить народ Израиля с истинного пути, научив его «делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих», и тем самым заставив израильтян согрешить. Следовательно, во избежание этого народу Израиля следовало истребить еретиков до того, как они сделают свое черное дело (Втор. 20: 16–18). В книге Иисуса Навина рассказывается о последовавшем за этим полном уничтожении народов Иерихона, Гая, Ливны, Лахиска, Эглона, Хеврона, Дебира, Асора и районов между ними (однако жители Гаваона пошли на сделку и были просто порабощены).
113
Josephus 1982, 450–451. О Рязани см. Brent 1976, 117, 120. О Герате см. Rashid 2000, 37. См. также Queller 1977, 149–153; Keeley 1996, 89–94.
114
Оценка Фридриха приведена в: Luard 1986, 51. О войнах в XX веке см. Small and Singer 1982, 82–99. О Тридцатилетней войне см. Parker 1997, 188; Holsti 1991, 313.
115
По оценкам Рут Сивард, в ходе Наполеоновских войн погибло 2,4 млн военных и гражданских лиц (Sivard 1987, 29). Учитывая то, что население Европы в то время оценивается в 180 млн человек (McEvedy and Jones 1978, 18), доля погибших оказывается равной 1,3 % против 4,1 % для Первой мировой войны. Однако авторитетные оценки потерь в Наполеоновских войнах, выполненные историками в XIX веке (оценки, более актуальные для задач нашего исследования, поскольку они влияли на представления о войне людей того времени), часто были намного выше. Например, Сивард оценивает совокупные военные потери в Наполеоновских войнах в 1,4 млн человек, однако большинство историков утверждали, что только французы потеряли от 1,7 млн до 3 млн солдат. Даже те, кто находил эту оценку завышенной, считали, что совокупные боевые потери в Наполеоновских войнах составляли до 2 млн человек (Dumas and Vedel-Petersen 1923, 28). По оценке Джека Леви (Levy 1983, 90), военные потери составили 1,9 млн человек, что также значительно выше, чем данные Сивард. Оценки численности потерь в Первой мировой войне приведены в прим. 2 на с. 97.
116
Имеется в виду битва при Аускуле между римлянами и армией эпирского царя Пирра. – Прим. ред.
117
См. Wedgwood 1938, 516.
118
Kaeuper 1988, 77–117. О примитивных войнах см. Keeley 1996. Данные на 1929 год приведены в: Overy 1982, 16. В ходе Тридцатилетней войны почти две трети расходов баварского города Нёрдлинген поглощали прямые военные затраты, а средний уровень благосостояния резко снизился. Хотя в течение следующих 20 лет город постепенно оправлялся от потерь, очередной цикл войн оставил его «неспособным решить свои финансовые проблемы». Для восстановления потребовалось еще 50 лет (что потребовало внешней помощи), но французские революционные войны вновь погрузили город в долговую яму (Friedrichs 1979, 154, 169). В XIV веке итальянский город Сиена каждые два года подвергался набегам наемных армий, что истощило его экономику и уничтожило состоятельность Сиены как независимого государственного образования (Caferro 1998). Как писал Николас Райт о Столетней войне, «само присутствие „дружественных“ солдат, номинально представлявших ту же воюющую сторону, что и их жертвы, прерывало функционирование хилой фискальной организации и препятствовало справедливому распределению налоговых поступлений. „Вражеские“ же солдаты непременно кормились за счет захваченной страны, и само их предназначение состояло в уничтожении или захвате ее налогооблагаемых ресурсов» (Wright 2000, 122).
119
В силу этого обстоятельства Первая мировая была существенно более разрушительной, чем предшествующие войны континентального масштаба, в части лишь боевых потерь. Джек Леви, проведя подсчет боевых потерь в показателях доли совокупного населения европейского континента, приходит к выводу, что Первая мировая по этому критерию была в 3,6 раза более разрушительной, чем Наполеоновские войны, и примерно в 2,4 раза более разрушительной, чем Тридцатилетняя война (Levy 1983, 89–91). Однако порождаемый войной ужас должен логически проистекать из тотальной природы ее разрушительной силы, а не просто из того обстоятельства, что на войне гибнут молодые люди в мундирах. «Ненужная» смерть «ни в чем не повинных мирных жителей», как правило, действительно воспринималась как главное злодеяние войны. Квалифицированное рассмотрение этого вопроса см. в: Holmes 1989.
120
Например, лишь 2 % американцев, пострадавших в ходе газовых атак, умерли в сравнении с 24 % погибших среди тех, кто получил пулевые или осколочные ранения; для британских солдат это соотношение составляло 3 % против 37 %; для германских – 3 % против 43 % (Gilchrist 1928, 48; см. также McNaugher 1990, 5–34). В заключительной главе официальной британской истории Первой мировой химическому оружию нашлось место в сноске, где утверждается, что газ «напрасно сделал войну некомфортной» (Edmonds and Maxwell-Hyslop 1947, 606).
121
Кое-кто действительно проникся этой идеей. Например, ведущий специалист армии США по вопросам медицинских последствий применения химического оружия Х. Л. Гилкрайст пришел к выводу, что газ «представляет наиболее гуманный вид оружия из всех когда-либо применявшихся на поле боя» (Gilchrist 1928, 47). В 1925 году британский военный аналитик Бэзил Лиддел Гарт высказал предположение, что «в случае новой мировой войны газ может легко оказаться спасением цивилизации от неизбежной в ином случае гибели» (Mearsheimer 1988, 90). См. также Stockton 1932, 536–539.
122
Linderman 1987, 266–297; Mueller 1989, 30–32, 38–39.
123
О Первой мировой как первой «литературной» войне см. Fussell 1975, 157. Wilson 1962, ix; Winter 1989, 826.
124
Brown 1968, 65, 164, 180–181; Churchill 1932, 246, 248; Freud 1930, 144 (Фрейд 2013, 64). Высказывание Болдуина цит. по: Kagan 1987, 26. Кроме того, на Западе было широко распространено мнение, что большая война приведет к глобальному экономическому кризису – при условии, конечно, что на планете вообще что-нибудь останется (см. Milward 1977, 16). См. также: Bialer 1986, 46–47, 158.

