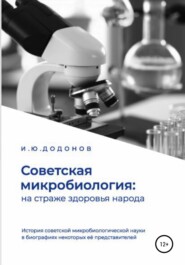 Полная версия
Полная версияСоветская микробиология: на страже здоровья народа. История советской микробиологической науки в биографиях некоторых её представителей
Правда, отправиться во вторую Дальневосточную экспедицию, организованную в 1938 году, Михаил Петрович по состоянию здоровья всё же не смог, о чём чрезвычайно сожалел
«…Как я завидую всем вам, там, – пишет он Е.Н. Левкович на Дальний Восток. – Вы можете всласть поработать на таком интересном деле! Меня чрезвычайно интересует вся ваша работа – особенно в отношении сывороточного лечения и клещевой передачи. Елизавета Николаевна, я только что недавно узнал, как мало годной для работы сыв[оротки] Вы имеете. Я бы порекомендовал Вам шире использовать сыв[оротки] реконвалесцентов, тем более, что у меня получился почти блестящий (“классический”) опыт серопрофилактики с человеч[еской] (моей) и кроличьей сыв[оротками]… Как-то приходится там Вам! Все ли здоровы? Главное, не повторяйте печальных прошлогодних примеров! Берегите своё здоровье!..» [20; 2].
Однако и оставаясь в Москве, М.П. Чумаков времени зря не терял.
Поправившись (относительно), он начинает работу во Всесоюзном Институте экспериментальной медицины, где заведует лабораторией. В этом же, 1938, году он организует вирусологическую лабораторию в Институте неврологии, на базе которой и продолжает исследования клещевого энцефалита (позднее эта лаборатория стала базой для организации отдела нейроинфекций в Институте неврологии, который также возглавил Михаил Петрович).
Как читатель уже мог заметить из письма М.П. Чумакова к Е.Н. Левкович, в 1938 году учёный сосредоточен на вопросах серотерапии и серопрофилактики клещевого энцефалита, и исследования его в данном направлении весьма успешны. Т.е. Михаил Петрович усиленно искал средство защиты людей от этого опаснейшего заболевания. Использование сыворотки, т.е. создание у людей пассивного иммунитета к болезни, на тот момент представлялось наиболее быстрым решением проблемы, способным уже «здесь и сейчас» уберечь людей.
Но, конечно же, сыворотка должна была явиться лишь первым шагом в борьбе с клещевым энцефалитом. В перспективе предполагалось создание вакцины, дающей гораздо более долговременную защиту, формирующую у человека активный иммунитет.
Вообще, необходимо сказать, что характернейшей чертой научной деятельности М.П. Чумакова, как отмечают работавшие с ним учёные, всегда была направленность на решение практических задач, т.е. на защиту людей от инфекционных заболеваний. Это не значит, что исследователь «не погружался» «в научные дебри», не рассматривал теоретические проблемы. Ещё как «погружался» и ещё как рассматривал. Но за всем этим «теоретизированием» Чумаков ни на миг не забывал, что он – врач. А главная цель врача – лечить и спасать людей.
В 1939 году Наркомздрав СССР организовал третью «противоэнцефалитную» экспедицию на Дальний Восток. Задача перед стояла вполне определённая – проведение вакцинации разработанной к тому времени вакциной (делалась из мозга заражённых клещевым энцефалитом мышей). И вновь из-за состояния здоровья М.П. Чумакова не включили в состав экспедиции.
Отрывок из письма М.П. Чумакова к Е.Н. Левкович на Дальний Восток:
«Страшно интересно знать, как вы там устроились и работаете, как прошла вакцинация, есть ли всё-таки заболевания и т.п.? Я не раз говорил Вам с завистью и восхищением, что на Вас в этом году легла тяжёлая, но и весьма интереснейшая, ответственнейшая задача – решить наиболее важный вопрос из всей проблемы энцефалита! Такой мне представляется вакцинация населения. Нечего говорить о том, что в решении этого вопроса заинтересован не только наш коллектив вирусников!..» [20; 2].
Но М.П. Чумаков всё-таки отправляется в экспедицию в 1939 году, только не на Дальний Восток.
Дело в том, что с 1937 года, т.е. с момента знакомства с клещевым энцефалитом, учёного не переставал мучать вопрос: а только ли на Дальнем Востоке существует очаг этой болезни? «Не выскочил» ли энцефалит за пределы Дальневосточного региона? По первым впечатлениям получалось, что клещевой энцефалит «укоренён» только на Дальнем Востоке. Недаром в первых научных сообщениях о нём очень часто употреблялось слово «эндемический». Однако М.П. Чумаков в этом сомневался.
Так вот, в 1939 году им была организована большая экспедиция на Урал. Почему на Урал? Оттуда приходили сведения о том, что местные жители иногда заболевают некой болезнью, симптомы которой очень походили на симптомы клещевого энцефалита. В ходе работы экспедиции энцефалитные клещи на Урале были обнаружены. Более того, М.П. Чумаков установил, что клещи передают вирус «по наследству»: носителями вируса являются не только взрослые особи, но и две предшествующие стадии развития этого паукообразного – личинки и нимфы. Это могло значить только одно: болезнь уже гнездится в природных очагах за пределами Дальнего Востока. Когда она туда «проскочила» – совсем другой вопрос.
В 1940 и 1941 годах (до начала Великой Отечественной войны) М.П. Чумаковым были организованы и проведены несколько экспедиций, в ходе которых им были обнаружены природные очаги клещевого энцефалита в Сибири, Казахстане и даже в Европейской части СССР.
В 1941 году группе учёных-участников четырёх экспедиций на Дальний Восток (А.К. Шубладзе, Е.Н. Левкович, В.Д. Соловьёву, П.А. Петрищевой, М.П. Чумакову, А.А. Смородинцеву, Е.Н. Павловскому) была вручена Сталинская премия 1-й степени с формулировкой «За открытия возбудителей заразных заболеваний человека, известных под названием “Весенне-летний и осенний энцефалит”, и за разработку успешно применяемых методов их лечения, одобренных Наркомздравом СССР». Вскоре после вручения премии началась Великая Отечественная война, и Михаил Петрович, как и все его коллеги, передал денежную составляющую премии в Фонд обороны.
Необходимо заметить, что среди лауреатов Сталинской премии, вручённой за открытие клещевого энцефалита и разработку методов борьбы с ним, не было руководителя экспедиции 1937 года Л.А. Зильбера и её участников А.Д. Шеболдаевой и Т.М. Сафоновой. Также как не было фамилий Зильбера и Шеболдаевой в списке авторов первой научной работы по клещевому энцефалиту, вышедшей в начале 1938 года («Этиология весенне-летнего эпидемического энцефалита»).
Эти учёные были арестованы в конце 1937 года. Им было предъявлено обвинение в попытках распространения энцефалита. Подробно указанные события освещались в главе, посвящённой Льву Александровичу Зильберу.
Здесь же скажем, что Михаил Петрович как самостоятельно пытался помочь своим арестованным товарищам (обращался в партийные органы и органы госбезопасности, писал письма Калинину и Сталину), так и принимал самое активное участие в коллективных попытках добиться их освобождения, т.е. неизменно подписывал письма, уходившие во властные структуры от тех или иных групп деятелей науки и культуры. Под письмом, адресованным Сталину, написание и отправку которого организовала в начале 1944 года З.В. Ермольева, которое дошло до адресата, и итогом которого явилось освобождение Л.А. Зильбера, также стояла подпись М.П. Чумакова.
Подобное поведение в те годы требовало большого мужества. «Михаил Петрович всегда был образцом честности и чести», – так характеризовали учёного проработавшие с ним много лет люди.
Дополнительным подтверждением такой характеристики служит участие М.П. Чумакова в коллективном обращении группы учёных, авторов первого научного сообщения о клещевом энцефалите, которые в 1958 году, восстанавливая справедливость, публично (через печать) попросили считать авторами этого сообщения также Л.А. Зильбера и А.Д. Шеболдаеву.
В годы войны М.П. Чумаков продолжал исследование клещевого энцефалита на базе возглавляемых им лабораторий в ВИЭМ и Институте неврологии. Одним из результатов данной работы было создание лечебной противоэнцефалитной сыворотки. Уже в 1942 году Михаил Петрович применил её во фронтовых условиях. В этом году пришли тревожные сообщения об участившихся случаях заболевания красноармейцев на Волховском фронте болезнью, напоминавшей своими симптомами клещевой энцефалит. Выехав в войска во главе бригады специалистов, М.П. Чумаков быстро подавил наметившуюся эпидемическую вспышку. При этом им были широко использованы как противоэнцефалитная вакцина, так и лечебная сыворотка собственной разработки.
В 1944 году М.П. Чумаков защитил докторскую диссертацию на тему «Клещевой энцефалит человека», в которой были отражены многолетние изыскания учёного в области изучения этой болезни, её возбудителя и методов борьбы с нею. Михаилу Петровичу присуждается звание профессора.
А уже летом 1944 года учёному пришлось столкнуться с новым заболеванием, которое на многие годы определило сферу его научных интересов.
В мае 1944 года советские войска завершили освобождение Крыма. Вскоре медико-санитарная служба Отдельной Приморской армии обратила внимание на случаи незнакомого заболевания среди местного населения, диагностика которого вызывала затруднения. Появились заболевания этой болезнью и в войсках.
Для выявления природы заболевания, его эпидемиологических и клинических особенностей в июле в Крым направляется комплексная экспедиция Главного военно-санитарного управления РККА и Института эпидемиологии и микробиологии. Руководителем экспедиции был назначен профессор М.П. Чумаков.
В короткие сроки экспедиции удалось установить вирусную этиологию заболевания, передачу вируса степными клещами (Hyalomma marginatum), выработать рекомендации по защите людей от заражения.
Болезнь, по предложению Михаила Петровича Чумакова, получила название Крымской геморрагичской лихорадки (КГЛ). Причём сам термин «геморрагическая лихорадка» также был введён в науку М.П. Чумаковым.
Вирус КГЛ выделили много позже – в 1968 году. Но сделал это также М.П. Чумаков (совместная работа с А.М. Бутенко). Ещё несколько позже в результате сотрудничества с американскими вирусологами была показана идентичность вируса КГЛ и африканского вируса Конго. Сейчас учёные говорят об единой группе вирусов КГЛ – Конго (или ККГЛ), установлено широкое распространение этой инфекции в Евразии и Африке.
Изучение ещё одного вирусного геморрагического заболевания, получившего название Омской геморрагичской лихорадки (ОГЛ), было проведено под руководством М.П. Чумакова в 1947 – 1948 гг. в центральных районах Омской области. Изучение болезни омскими специалистами и сотрудниками «чумаковского» отдела нейровирусов Института неврологии привело к выявлению возбудителя – вируса, переносимого видом клещей Dermacenntor pictus. Были получены данные о территориальном распространении заболевания в Омской области. В дальнейшем очаги ОГЛ обнаружили в Новосибирской, Тюменской и Курганской областях. М.П. Чумаков и его сотрудники из отдела нейровирусов Института неврологии создали и успешно аттестовали вакцину против ОГЛ.
Многие годы в круг научных интересов Михаила Петровича входило изучение лихорадочного геморрагического заболевания, которое впервые было обнаружено на Дальнем Востоке в период знаменитых «энцефалитных» экспедиций конца 30-х годов. По предложению А.А Смородинцева, эта болезнь получила название «геморрагический нефрозонефрит». В послевоенные годы М.П. Чумаков организовал изучение аналогичного заболевания на Европейской части СССР и предложил назвать его геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), т.к. была установлена принадлежность инфекции именно к группе геморрагических лихорадок. Сейчас это название является общепринятым.
Изучались эпидемиологические особенности ГЛПС, роль грызунов в сохранении и распространении вируса. Предпринимались настойчивые попытки выделить вирус ГЛПС. Однако раньше выделить вирус удалось южнокорейскому вирусологу Хо Ванг Ли, который и дал ему название «Ханта-вирус». Коллектив под руководством М.П. Чумакова установил антигенную специфичность штаммов вируса, циркулирующих на территории нашей страны, и провёл работу по созданию вакцины против ГЛПС.
Любопытно, что в 1949 году Михаил Петрович, «закоренелый вирусолог», предложил и возглавил комплексную программу ликвидации трахомы – инфекционного заболевания глаз, вызываемого бактериальной инфекцией. Болезнь была чрезвычайно серьёзной, приводящей просто к огромному числу случаев полной слепоты и неменьшему количеству случаев частичной потери зрения. Исследование, проведённое М.П. Чумаковым и его сотрудниками, позволило предложить эффективное средство лечения – мазь с тетрациклином. Трахома была ликвидирована по всей стране.
Послевоенные годы – время весьма быстрого карьерного роста Михаила Петровича (как мог убедиться читатель, весьма заслуженного).
В 1948 году его назначают заместителем директора по науке Института неврологии АМН СССР.
В 1949 году учёного избирают членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР.
Уже в 1950 году М.П. Чумакова назначают директором Института вирусологии имени Д.И. Ивановского. Михаил Петрович добился, чтобы в этот институт перевели из Института неврологии его «родной» отдел вирусных нейроинфекций. Вскоре отдел был преобразован в лабораторию полиомиелита и эндемических лихорадок.
Но столь успешное продвижение по карьерной лестнице оборвалось буквально в один миг. В 1952 году «разразилось» «дело врачей». Никакие репрессии ни самого М.П. Чумакова, ни его друзей, родственников, коллег не коснулись (всё-таки «на дворе» был не 1937 год). Однако в январе 1953 года в Институт вирусологии пришла разнарядка: сократить нескольких сотрудников (минимум трёх) с еврейскими фамилиями. Михаил Петрович, член ВКП(б) с 1940 года, был просто взбешён подобным распоряжением и заявил «разнарядчикм» в весьма резкой форме (а за словом в карман он никогда не лез и откровенно высказывал то, что думает, и «начальству» всех «мастей», и даже иностранным гостям, коли они этого заслуживали), что увольнять данных сотрудников у него нет никаких оснований, они – замечательные работники, и что он, как коммунист, совсем по-другому понимает национальную политику партии.
Последовал сначала выговор по партийной линии, затем – исключение из партии. Разумеется, воспоследовало и снятие с поста директора Института вирусологии. У Михаила Петровича были основания опасаться и более серьёзных последствий. Но обошлось…
Уже после смерти Сталина в марте 1953 года курс партии поменялся. Но ни партийное, ни научное «начальство» не спешили «реабилитировать» строптивого вирусолога.
Михаил Петрович в 1953 – 1954 годах был заведующим лабораторией эндемических лихорадок на своём «старом месте работы» – в Институте неврологии АМН СССР.
Но в 1955 году о «почти забытом» Чумакове «вспомнили» на самом высоком уровне, т.е. на уровне Советского правительства.
Дело в том, что в СССР «прорвалась» эпидемия полиомиелита.
* * *
Чтобы читателю было понятней, с какой угрозой столкнулись и человечество в целом, и наша страна, коротко расскажем об этой болезни и истории борьбы с ней.
На первый взгляд может показаться, что с полиомиелитом люди встретились только в ХХ веке, что именно в этом столетии совершенно новая болезнь обрушилась на человечество. Напрашивается даже некоторая аналогия с «испанкой»: эпидемия полиомиелита, так же, как и «испанки», разразилась в конце Первой мировой войны (в 1916 году в США началась первая большая эпидемия полиомиелита; в 1918 году там же, в США, вспыхнула эпидемия «испанки»).
Но подобное впечатление неверно, да и аналогия весьма поверхностна (основана на примерном совпадении начала эпидемических вспышек и совпадении места этого начала).
Если «испанка» и в самом деле явилась новой, ранее неизвестной разновидностью гриппа, заболевание которой очень быстро обрело характер пандемии, то полиомиелит был «давним знакомым» человечества. Что явилось действительно новым, так это массовый, эпидемический характер болезни (хотя до масштабов пандемии заболевание полиомиелитом тогда, в конце 10-х годов ХХ века, безусловно, не дотягивало).
Есть исторические данные, что полиомиелит существовал на протяжении многих тысячелетий. Очевидно, его знали ещё в Древне Египте. Барельефы некоторых египетских храмов имеют изображения людей с очень характерными «аномальными» конечностями, что заставляет медиков предполагать на барельефах изображения людей, искалеченных полиомиелитом. Археологи подтвердили подобные заключения врачей: при раскопках иногда встречаются мумии с такими изменениями костей конечностей (особенно ног), которые практически однозначно можно считать характерными именно для полиомиелита.
Интересные данные получены при раскопках в Гренландии: в слоях, относящихся к VI – V векам до нашей эры, встречаются захоронения, скелеты в которых имеют повреждения, также указывающие на полиомиелит.
Древнегреческий врач Гиппократ в одном из своих трактатов оставил описание болезни, при которой сохнут ноги, уменьшается объём мышц и наступает паралич конечностей. В этом заболевании также угадывается полиомиелит.
Однако со всей определённостью можно сказать, что на протяжении многих столетий заболевание не приобретало массовый характер. Потому-то дошедшие до нас медицинские трактаты древности и Средневековья упоминают его крайне редко. Более того, даже в медицинских книгах Нового времени о нём пишут нечасто.
Только в 1836 году было сделано первое точное описание клинической картины полиомиелита.
Название «полиомиелит» ввели в научный оборот только в 1874 году. Происходит оно от древнегреческих слов «полиос» – серый и «миелос» – мозг. Предложили такое название потому, что при смертельных случаях заболевания повреждаются именно отделы серого вещества спинного мозга.
Лишь на рубеже XIX и ХХ веков начали происходить небольшие по размерам эпидемические вспышки полиомиелита (в Скандинавских странах и США). Поскольку болезнь поражала в основном маленьких детей, её стали называть также детским параличом. Это второе название также закрепилось в медицинской литературе.
У разных людей болезнь протекала по-разному: одни умирали, другие на всю жизнь оставались инвалидами с парализованными ногами, третьи поправлялись.
В 1909 году австрийским врачам Ландштейнеру и Попперу удалось доказать вирусную природу полиомиелита (материал мозга умерших от полиомиелита лабораторных обезьян, пропущенный через фарфоровые фильтры, продолжал заражать других обезьян; отсюда был сделан вывод: носитель заболевания – вирус).
Постепенно учёные выяснили механизм действия вируса полиомиелита.
Любое наше движение происходит благодаря сигналам из головного мозга. Эти сигналы (нервные импульсы) передаются по волокнам нервной системы из головного мозга в спинной, а оттуда – к соответствующим мышцам рук, ног или других участков тела. Вирус полиомиелита, если ему удаётся проникнуть в спинной мозг, как раз и размножается в клетках проводящих путей спинного мозга. Данные клетки, в итоге, либо погибают, либо оказываются в значительной степени повреждёнными. Они теряют способность передавать нервные сигналы. И мышцы человеческого тела, не получая этих сигналов, перестают сокращаться (полностью или частично). Развивается либо слабость мышечных движений, либо полный паралич мышц (вариант зависит от количества погибших клеток нервных тканей).
Движения разных групп мышц контролируются различными участками спинного мозга: мышцы рук – клетками, лежащими на уровне шеи, мышцы ног – клетками, лежащими примерно на 30 см ниже, за мышцы дыхательной мускулатуры отвечают самые верхние отделы спинного мозга. В зависимости от того, какой отдел спинного мозга поражён полиовирусом, и развивается паралич соответствующих мышечных групп.
Чаще всего парализованными оказываются ноги. Гораздо реже наблюдается паралич мышц рук, спины, шеи, лица и дыхательных путей. В последнем случае человека ждёт мучительная смерть от удушья. Поддерживать жизнь у таких больных научились с помощью так называемых «железных лёгких» – специальных камер, в которых работу парализованных дыхательных мышц совершает перемена давления воздуха. Увы, восстановить работу повреждённых полиомиелитом клеток спинного мозга невозможно, а стало быть, человек, поражённый вирусом в такой форме, либо погибает, либо остаётся калекой на всю жизнь.
Выяснилось, что, по счастью, параличи развиваются далеко не у всех заразившихся полиомиелитом детей. Даже самые болезнетворные вирусы приводят к параличам у одного из 200 «подхвативших» их детей, менее злокачественные – у одного из 500 – 1 000. Тяжёлое течение заболевания имеет место, когда организм ребёнка по какой-то причине ослаблен (охлаждение, переутомление, борьба с другой болезнью и т.д.).
Дальнейшие исследования позволили установить, что все люди восприимчивы к полиомиелиту, практически каждый человек оказывается им инфицированным. Но у 85% инфицированных лиц болезнь протекает бессимптомно, приблизительно у 15% – как лёгкое или средней тяжести лихорадочное заболевание, и только примерно в 0,1 – 1% случаев происходит поражение центральной нервной системы (ЦНС), что и приводит к параличам.
Оказывается, вирус концентрируется в человеческом кишечнике. Это объяснило и основной путь его передачи – фекально-оральный. Именно с экскрементами вирус выделяется в окружающую среду, а оттуда тем или иным путём попадает в организм другого человека.
Но поражение ЦНС возникает только тогда, когда полиовирус из кишечника через лимфатические протоки «прорывается» в кровь. С кровью он проникает в головной и спинной мозг и начинает свою губительную работу.
Возможность подобного «прорыва» патогена вызвана понижением сопротивляемости организма по различным причинам: переутомление, переохлаждение, воздействие вредных веществ окружающей среды, борьба организма с другими заболеваниями, врождённые дефекты иммунной системы.
Полиомиелит – единственная из известных инфекционных болезней, которая не только не ослабла, не стала затухать, а как раз наоборот – усилила свой размах вследствие улучшения санитарно-гигиенических условий. Как ни парадоксально звучит, но это именно так. Можно даже сказать, что она явилась расплатой за цивилизацию.
Дело в том, что ранее неудовлетворительные санитарные условия жизни людей приводили к тому, что дети «встречались» с вирусом полиомиелита в первые же дни своего существования. (Подобная картина наблюдается и сейчас в слаборазвитых странах; поэтому чем там только не болеют, но вот эпидемических вспышек полиомиелита там нет и никогда не было.) Ребёнок неизбежно заражался им. Но, как известно, у новорождённых до полугода существует т.н. материнский иммунитет, т.е. естественный пассивный приобретённый иммунитет, который они получают от матери. В этом комплексе иммунной защиты «достаются» младенцам и противополиовирусные антитела. В результате, вирус развивался только в клетках кишечника, а если и «прорывался» в кровь, то встречал там барьер из материнских антител. При этом ребёнок становился иммунизированным к полиомиелиту на всю жизнь, хотя у него болезни и не было (точнее, она протекала бессимптомно).
Повышение жизненного уровня людей в ряде стран ничуть не изменило схемы работы материнского иммунитета у ребёнка, но привело к тому, что дети, содержащиеся в чистоте и достатке, стали «встречаться» с полиовирусом гораздо позже полугодовалого возраста, когда у них уже не было материнских антител, но при этом и собственная иммунная защита к данному заболеванию не сформировалась.
Отсюда и риск протекания заболевания в тяжёлой форме, т.е. с поражением ЦНС, отсюда и эпидемии. Конечно, на удачу для человека, даже при таком варианте «цивилизованного столкновения» с вирусом полиомиелита «срабатывало» то процентное соотношение, о котором мы писали выше: около 85% бессимптомных носителей (вирус «поселяется» в клетках стенок кишечника; иммунитет образуется); около 15% перенёсших болезнь в лёгкой или средней степени тяжести (как некую лихорадку; вирус в основной своей массе также «поселяется» в клетках стенок кишечника; иммунитет образуется); 0,1 – 1% тех, у кого поражена ЦНС.
Однако 0,1 – 1% – это тысячи и тысячи людей, в основном – детей.
Всё, о чём мы сейчас написали, было выяснено учёными не одномоментно – годы ушли на то, чтобы изучить природу полиомиелитной инфекции, схему её действия (как говорят учёные – этиологию).
Но ещё больше потребовалось времени, чтобы научиться от полиомиелита защищаться.
Первые попытки были предприняты сразу после начала эпидемических вспышек этого заболевания. Учёные заметили, что в крови заражённых полиомиелитом лабораторных обезьян образуются специфические антитела к вирусу. Кровь обезьян, которые не погибли, а поправлялись после болезни, защищала не болевших животных от полиовируса.
После этих опытов врачи в разных странах пытались использовать сыворотку перенёсших полиомиелит людей и лечить с её помощью больных или защищать контактных. Однако результаты оказались весьма странными: в одних случаях сыворотка помогала, в других – нет. Тогда объяснить это не могли, но было ясно, что сыворотка надёжной защитой от полиомиелита не является.



