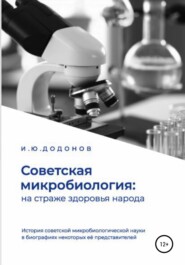 Полная версия
Полная версияСоветская микробиология: на страже здоровья народа. История советской микробиологической науки в биографиях некоторых её представителей
Кстати, интересно в связи с рассказом Т.И. Балезиной глянуть, как умеют господа «ревнители» «передёрнуть» факты. Так, г-н Шифрин, верно указывая на то, что это сама Т.И. Балезина рассказывала о находке штамма Penicillium crustosum в соседней лаборатории, говорит при этом, что исследовательница называла эту лабораторию военной [75; 461]. Как мы убедились, Тамара Иосифовна ни о какой военной лаборатории речи не вела. Выходит, М. Шифрин «позаимствовал» данную версию из Интернета. А может быть, сам её туда и «вбросил», измыслив вполне самостоятельно. Чего не сделаешь ради поиска и утверждения исторической «правды».
Госпожа Шерстнева провела большую работу, обнаружив в архивах множество информационных справок, из которых советское руководство получало сведения о работе над пенициллином у союзников (за что ей честь и хвала; говорим без иронии).
Но она не процитировала текст ни одной из справок, ограничившись весьма обобщённым пересказом содержания ряда из них. Отсутствуют в статье и указания на даты этих документов. Возникает естественный вопрос: почему? Очевидно, дело в том, что ни содержание, ни датировка данных справок не представляют никаких доказательств версии «шпионского» происхождения советского крустозина.
Лишь в одном случае г-жа Шерстнева делает исключение и приводит весьма обширный участок текста документа. Фигурирует в цитируемом отрывке и дата.
Предваряет цитирование Е.В. Шерстнева весьма торжественным заявлением:
«А вот другая архивная находка является неопровержимым доказательством причастности нашей разведки33 (выделено нами – И.Д.). Нами обнаружено несколько писем проф. Н. Бородина, доктора биологических наук, согласно легенде, находившегося в Великобритании в командировке с целью изучения производства эндокринных препаратов. Ограничимся лишь небольшой выдержкой из одного его письма, откровенно характеризующей его деятельность (выделено нами – И.Д.)» [74; 4].
Надо полагать, что другие письма профессора Н. Бородина столь откровенно его деятельность не характеризуют. Потому-то исследовательница и сосредоточилась на этом послании профессора.
Итак, она цитирует следующий текст:
«”…мне удалось сфотографировать в течение ночи совершенно секретный индекс 610 совершенно секретных работ по химии пенициллина… разумеется без ведома Флори и Чейна. …Посылаемый материал даёт полную информацию о всех работах, проделанных по химии пенициллина и его дериватов по 27.11.1945 (выделено нами – И.Д.), и является государственной тайной США и Англии”[13]34» [74; 4].
Действительно, перед нами неопровержимое доказательство деятельности профессора Н. Бородина «на ниве» научной разведки (научного шпионажа, если кому-то так больше нравится).
Только… Только какое отношение данный документ имеет к созданию З.В. Ермольевой крустозина? Н. Бородин передавал данные по состоянию на 27 ноября 1945 года. Т.е., в лучшем случае, именно в этот день их сфотографировал. Скорее же всего, сделал это позже. Ещё позже они оказались в СССР, ещё позже – у Ермольевой. При любом раскладе речь идёт о конце 1945 года (если не о начале 1946).
Напомним, крустозин выделен З.В. Ермольевой и Т.И. Балезиной в 1942 году. В 1943 году он проходил успешные клинические испытания, был налажен его весьма объёмный лабораторный выпуск. В феврале 1944 года наш крустозин «побил» оксфордский пенициллин во время сравнительных клинических испытаний. С ноября 1944 года крустозин проходил испытания во фронтовых условиях. С конца 1944 года начинается промышленный выпуск препарата. К концу 1945 года СССР уже год выпускает свой пенициллин (крустози) промышленным способом (то, что промышленный выпуск пенициллина значительно уступает количественно таковому в США, сути дела не меняет). Более того, Советский Союз к тому моменту уже официально закупил у Чейна технологию глубинного брожения.
Так вот, повторим свой вопрос: какое отношение информация, переданная профессором Н. Бородиным в конце 1945 года (в лучшем случае), имеет к созданию советского крустозина? Вопрос, как вы понимаете, риторический. Похоже, что «гора родила мышь».
Обвинение третье. Советский крустозин был хуже англо-американского пенициллина, гораздо менее эффективен. Утверждение, что крустозин показал лучшие результаты в сравнении с оксфордским пенициллином во время сравнительных клинических испытаний в феврале 1944 года – ложь советской пропаганды. «И это… враньё, – пишет М. Шифрин. – При одинаковом клиническом эффекте доза крустозина была на 10 – 15% выше» [75; 461].
Откуда подобная информация у указанного автора? Он ссылок на свои источники не даёт. Читатель же сам выше мог убедиться на основе приведённых документов, что в феврале 1944 года крустозин, наоборот, при достижении одинакового клинического эффекта с оксфордским пенициллином использовался в меньших дозах, чем последний. По результатам испытаний крустозина в полевых условиях в конце 1944 года главный хирург РККА Н.А. Бурденко счёл, что дозы отечественного и зарубежного препаратов должны быть одинаковы при сходных заболеваниях, что и нашло отражение в «Инструкции по применению пенициллина», утверждённой в мае 1945 года. Т.е. наш крустозин был однозначно не хуже западного пенициллина (а может быть, и лучше). Каковы же аргументы «ревнителей» (если фактов и документов ими никаких не приводится), когда они утверждают обратное?
А аргумент-то очень прост: «В итоге всё равно перешли на американский аналог. Значит, уступал» [54; 5]. Т.е. наш крустозин уступал западному пенициллину.
Читатель мог убедиться, что перешли на американский аналог вовсе не потому, что крустозин был его хуже, менее эффективен, а потому, что, к сожалению, самостоятельно мы не смогли освоить технологию глубинного брожения и вынуждены были закупить её в полном объёме, включая и используемый в ней производственный штамм (Penicillium chrysogenum). Последнее обстоятельство означало автоматический отказ от использования штамма Penicillium crustosum, т.е. от производства крустозина.
Таким образом, речь вовсе не о том, что американский пенициллин был лучше, а о том, что его можно было производить в гораздо большем количестве. Сверх того, использование технологии глубинного брожения вело к удешевлению производства препарата. Другими словами, проиграл не сам крустозин, а технология его промышленного производства.
Использование же «демоправдюками» подобного аргумента говорит лишь о том, что они то ли нарочно, то ли по незнанию путают качественные показатели препарата и достоинства технологии его массового производства.
Есть у «ревнителей» и ещё один аргумент:
«Нужно по результатам смотреть. Количество инвалидов ВОВ у СССР – запредельное просто. А смертность от ранений выше, чем у других воюющих сторон» [54; 3].
Вариант аргумента:
«И смертность от ранений в процентном соотношении у СССР была повыше, чем у союзников. А сколько инвалидов – 3 млн. Это примерно 25% от погибших. Невероятная цифра» [54; 5].
Такие утверждения, безусловно, «делают честь» «демоправдюкам», ибо в полной мере говорят либо об их дремучести (т.е. безграмотности), либо об их бесстыжести (т.е. отсутствии совести).
Ставить количество смертей раненых и количество инвалидов войны в зависимость только от эффективности отечественного пенициллина!
А скажите, господа «ревнители» очень своеобразно понимаемой исторической истины, не зависят ли приводимые вами показатели от масштабов и условий ведения боевых действий? А от достаточного количества эффективных лекарственных препаратов (это как раз к вопросу о том, как союзники с нами делились и самим пенициллином, и технологией его производства)? А скажите, всем ли раненым может спасти жизнь пенициллин? А всех ли раненых пенициллин может спасти от инвалидности (скажем, если у человека взрывом оторваны рука или нога, поражено зрение)?
Ответы на данные вопросы очевидны. И если вы их не видите, то это свидетельствует о вполне определённом диагнозе.
А «на закуску» вам, господа «демоправдюки», научный факт (факты, как известно, – вещь упрямая). Впрочем, его вы могли бы узнать и сами вместо того, чтобы пускаться в свои бредовые и бесстыжие рассуждения. Но раз уж не узнали, то позвольте его вам преподнести: крустозин (он же – бензилпенициллин) относится к т.н. пенициллинам G (есть ещё F, Х и К). Пенициллин G – наиболее эффективный из всех видов пенициллинов, обладает наибольшим противомикробным действием.
* * *
Ещё раз да простит нас читатель за столь обширный экскурс в «пенициллиновую тематику». Но его, по нашему глубокому убеждению, обязательно следовало предпринять.
Конечно, крустозин – не единственное научное достижение Зинаиды Виссарионовны Ермольевой, но, безусловно, одно из самых важных. Во всяком случае, именно оно сделало её имя столь известным. Именно с именем Ермольевой неразрывно связана история получения отечественного пенициллина. И, конечно же, крустозин (наш пенициллин) всегда был предметом гордости советских людей. Да, мы гордились и продолжаем гордиться самоотверженной работой советских учёных-микробиологов, которые в тяжелейших условиях войны, несмотря на подлое поведение союзников, смогли самостоятельно создать препарат, ничуть не уступавший союзническому аналогу, спасший жизни и сохранивший здоровье тысячам и тысячам советских солдат.
Очень много сейчас развелось желающих запятнать честное имя Зинаиды Виссарионовны Ермольевой и её сотрудников, принизить их заслуги, поиздеваться над тем, что нам свято, чем мы заслуженно гордимся. И рассказывая о жизни создательницы советского пенициллина, нельзя было сделать вид, что ничего подобного нет. Просто необходимо было дать отповедь разного рода «ревнителям» исторической истины, защитить память замечательной советской исследовательницы и её коллег, защитить нашу историю.
Однако вернёмся к биографии З.В. Ермольевой.
Итак, в 1947 году её снимают с поста директора Всесоюзного научно-исследовательского института пенициллина. Как мы помним, это было следствием проигрыша З.В. Ермольевой в «пенициллиновой гонке»: на базе нашего крустозина не удалось освоить технологию глубинного брожения, увеличивавшую производство препарата более чем на порядок и значительно удешевлявшую производственный процесс.
Конечно, данное событие можно расценивать как поражение, неудачу. Но необходимо заметить, что ВНИИ пенициллина под руководством З.В. Ермольевой вёл чрезвычайно успешную работу в области изучения антибиотиков и создания новых антибиотических препаратов. Так, уже в 1946 году был получен отечественный стрептомицин – антибиотик, о котором ещё в 60-х годах прошлого века говорили, что он победил туберкулёз (и не вина стрептомицина, что микобактерия оказалась чрезвычайно приспосабливающимся микробом и спустя годы стала невосприимчивой к действию препарата). Стрептомицин оказался эффективен не только против туберкулёза, но и против туберкулёзного менингита, туляремии, дизентерии, (даже!) лёгочной чумы и ряда других заболеваний.
При непосредственном научном руководстве З.В. Ермольевой было освоено промышленное производство стрептомицина.
В 1946 году вышла в свет монография З.В. Ермольевой «Пенициллин», в которой был обобщён многогранный опыт работы по пенициллиновой тематике. Специалисты до сих пор называют этот труд уникальным 35 [13; 12].
Уйдя с поста директора ВНИИ пенициллина, Зинаида Виссарионовна ещё несколько лет заведовала в институте отделом экспериментальной терапии. За эти годы ею и её сотрудниками были разработаны и внедрены в производство многие новые антибиотики, их модифицированные формы и комбинированные препараты антибиотиков: экмолин, экмоновоциллин, бициллин, тетрациклин, террамицин, дипасфен, эрициклин, левомицитин и другие. Многие из них эффективны и по сей день и успешно используются при лечении людей (а в ряде случаев и животных (например, террамицин)).
С 1952 года Зинаида Виссарионовна параллельно с работой во ВНИИ пенициллина возглавила кафедру микробиологии и лабораторию новых антибиотиков Центрального Института усовершенствования врачей (ныне – Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования (РМАНПО)). На этом посту она проработала до конца своей жизни.
Лаборатория ЦИУВ под руководством З.В. Ермольевой активно занималась изучением антибиотиков, разработкой и внедрением новых антибиотических препаратов.
Со второй половины 50-х З.В. Ермольева приступила к исследованию клеточных интерферонов. Изучение этого элемента противовирусной защиты организма человека было весьма продуктивно: в начале 60-х годов учёной удалось выделить интерферон и создать на его основе лекарственный препарат. Интерферон, разработанный Ермольевой, является противовирусным средством, которое по настоящее время применяется для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ. Немаловажным достоинством этого лекарства является дешевизна, что говорит о весьма совершенной технологии его производства, не требующей в то же время чрезвычайно сложных и дорогостоящих схем. Разработка подобной технологии – ещё одна заслуга исследовательницы36.
В 1952 году З.В. Ермольева основала журнал «Антибиотики» и долгое время являлась главным редактором этого периодического научного издания. Впоследствии она стала также заместителем главного редактора «Медицинского реферативного журнала».
За годы своей научной деятельности З.В. Ермольева опубликовала около 500 научных работ, из которых 6 – монографии.
Зинаида Виссарионовна была талантливым педагогом. Возглавляя кафедру микробиологии Центрального института усовершенствования врачей, она щедро делилась своим опытом и знаниями с врачами, проходившими обучение в институте.
Весомый вклад внесён ею в дело подготовки научных кадров. Она создала крупную школу отечественной медицинской бактериохимии.
«Зинаида Виссарионовна сплотила вокруг себя наиболее сильных микробиологов и очень ценила их труд, сохраняя команду и позитивную рабочую атмосферу в течение многих лет», – вспоминает доцент кафедры микробиологии РМАНПО Любовь Тараненко, которая работала под началом Ермольевой много лет, начиная с 1961 года.
Сколько научных специалистов подготовила З.В. Ермольева можно судить по следующим цифрам: под её руководством было написано и защищено около 180 диссертаций, в том числе 64 докторские.
Зинаида Виссарионовна пользовалась большим авторитетом среди медицинской общественности нашей страны. Также она достойно представляла советскую науку за рубежом: во Всемирной организации здравоохранения, на различных международных конференциях. Учёная являлась членом редколлегии международного «Журнала антибиотиков», издаваемого в Токио, членом Чехословацкого научного общества им. Пуркинье, членом президиума Общества СССР – Канада.
Родина высоко оценила многолетний самоотверженный научный труд Зинаиды Виссарионовны Ермольевой. Она – действительный член АМН СССР (т.е. академик), заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Сталинской премии, кавалер двух орденов Ленина, ордена Трудового Красного знамени, ордена «Знак Почёта» и ряда медалей. В 2018 году кафедре РМАНПО, которой много лет руководила З.В. Ермольева, присвоено её имя.
Зинаиды Виссарионовны Ермольевой не стало 2 декабря 1974 года.
Ещё в 1968 году, поздравляя её с 70-летним юбилеем, В.А. Каверин выступил в печати с открытым письмом. Вот выдержка из него:
«…Я не буду заниматься отвлечёнными размышлениями о сходстве между литературой и наукой. И всё же одну черту необходимо отметить, потому что она глубоко характерна для Вас. И наука, и литература – это творчество, в основе которого лежит неустанный кропотливый труд – труд, поглощающий все силы ума и сердца. Но среди учёных и людей искусства есть люди, которые работают, как бы прислушиваясь к какой-то затаённой радостной ноте, подобно тому, как музыкант, настраивая свой инструмент, прислушивается к камертону. Вы относитесь к этим счастливцам… Во всём, что Вы делаете, о чём думаете, звучит эта, то далёкая, то еле слышная, но отчётливая чистая нота. Вот почему Вы сделали в науке так много!» [31; 4].
Блестящее сравнение и совершенно верная оценка вклада Зинаиды Виссарионовны в науку.
Врач-новатор, крупный учёный, талантливый организатор здравоохранения, замечательный педагог, мужественный, честный и порядочный человек – такой навсегда вошла в историю советской медицины З.В. Ермольева.
ГЛАВА VII
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
ЧУМАКОВ
(1909 – 1993)
В 1988 году на советские экраны вышел фильм Александра Митты «Шаг». Тогда фильм практически не заметили, несмотря на то, что ставил его известный режиссёр (на счету которого такие картины, как «Друг мой Колька», «Сказка странствий», «Экипаж» и др.), а играли в нём замечательные актёры (Леонид Филатов, Олег Табаков, Комаки Курихара, Елена Яковлева). В конце «приснопамятной» Перестройки «общественный запрос» был на фильмы другого рода: «Маленькая Вера», «Интердевочка» и тому подобное. На их фоне повествование о работе советских микробиологов, борющихся со страшной болезнью – полиомиелитом, «теряло актуальность».
Даже из посмотревших в 1988 году картину мало кто знал, что у главного героя – доктора Гусева (роль его исполнил Леонид Филатов), был вполне реальный прототип – советский вирусолог Михаил Петрович Чумаков. Конечно, не надо искать абсолютного совпадения жизненных обстоятельств кинематографического героя и его прототипа (разница тут большая), но и тем не менее…
* * *
Михаил Петрович Чумаков родился 1 (14) ноября 1909 года в семье ветеринарного фельдшера и неграмотной крестьянки.
В публикациях встречаются различные указания на место рождения Михаила: в одних указывается деревня Ивановка Тульской губернии (ныне – Орловской области), в других – посёлок (уездный город) Епифань той же Тульской губернии.
Можно предположить, что родился Михаил в Ивановке, но вскоре после его рождения семья перебралась в Епифань.
Семья была многодетной (у Миши было пять братьев и сестёр) и далеко не зажиточной.
Неизвестно, как сложилась бы судьба Миши Чумакова, если бы не Великая Октябрьская Социалистическая революция. Учиться в начальной школе он начал до неё, показывал очень хорошие результаты, которые говорили о явной одарённости ребёнка. Но смогла бы небогатая семья «потянуть» дальнейшую учёбу Михаила?
Однако судьба сложилась так, что продолжил своё образование Миша уже при Советской власти. Лучший ученик Епифанской средней школы – он мог рассчитывать на поступление как на гуманитарные, так и на естественно-научные факультеты вузов (склонность имел и к одним, и к другим дисциплинам).
Во всяком случае, отправляясь в 16 лет (в 1925 году) поступать в Московский университет, Миша Чумаков ещё не определился, чему посвятить свою жизнь: документы он подал сразу на два факультета – юридический и медицинский. И на оба факультета успешно поступил.
Но склонность к медицине всё же перевесила, и молодой человек выбрал учёбу на медицинском факультете МГУ. Вскоре факультет этот был выведен из состава университета, и на его базе создан 1-й Московский медицинский институт, который Михаил с отличием и окончил в 1931 году.
Уже когда учёба в институте подходила к концу, в семью Чумакова пришла беда: отец Михаила заразился от больных животных сибирской язвой и очень быстро умер от этой неизлечимой болезни. Трагедия предопределила медицинскую специализацию Михаила Петровича – он решает посвятить жизнь борьбе с инфекционными заболеваниями, т.е. стать микробиологом.
Именно в соответствии с данным своим решением он получает после окончания вуза распределение в Вакцинно-сывороточную лабораторию Военно-санитарного управления РККА (позже лаборатория была преобразована в Военный научный медицинский институт РККА). Здесь М.П. Чумаков работает врачом-лаборантом. Его «участок работы» – раневые инфекции. Руководителями молодого учёного были профессор И.М. Великанов и военврач 1-го ранга З.И. Михайлова. Их Михаил Петрович считал своими первыми учителями в микробиологии.
Под руководством Ивана Михайловича Великанова врач-лаборант Михаил Чумаков делает первое научное открытие – разрабатывает методику диагностики газовой гангрены при различных травмах и ранениях.
Профессор И.М. Великанов советует своему молодому сотруднику поступать в аспирантуру Московского НИИ микробиологии, что тот и делает уже в 1932 году.
Учёба в аспирантуре проходила в период с 1932 по 1935 год. Научным руководителем Михаила Петровича стал профессор Илья Львович Кричевский. Под его руководством М.П. Чумаков пишет кандидатскую диссертацию, посвящённую роли ретикуло-эндотелиальной системы в иммунитете человеческого организма. Защита диссертации с успехом проходит в 1935 году.
В ноябре 1936 года М.П. Чумакова пригласили на работу старшим научным сотрудником в вирусологический отдел Института эпидемиологии и микробиологии АН СССР. Здесь его руководителем становится Лев Александрович Зильбер. Уже через несколько месяцев Чумаков – участник знаменитой Дальневосточной экспедиции во главе с Л.А. Зильбером. Цель экспедиции – изучение нового неизвестного ранее заболевания, которое примерно с 1934 года начало свирепствовать на Дальнем Востоке, унося множество жизней и превращая многих людей в калек.
О ходе работы этой экспедиции, ставшей настоящим научным подвигом группы советских учёных и во многом предопределившей развитие вирусологии в нашей стране, подробно рассказывалось в главе, посвящённой Льву Александровичу Зильберу.
Здесь лишь напомним, что экспедицией за кратчайший срок: а) был открыт возбудитель заболевания – вирус весенне-летнего энцефалита; б) установлено, что люди заболевают после укуса клеща, т.е. был открыт переносчик вируса (поэтому вирус с полным основанием назвали вирусом весенне-летнего клещевого энцефалита); в) разработаны и были применены методы неспецифической и серологической профилактики заболевания, что повело к резкому сокращению количества заболевших.
Если выделение вируса-возбудителя заболевания было произведено практически одновременно в так называемых Южном (Л.А. Зильбер и А.К. Шубладзе) и Северном (Е.Н. Левкович и М.П. Чумаков) отрядах экспедиции, то экспериментальное доказательство возможности передачи этого вируса иксодовыми клещами осуществил именно М.П. Чумаков (предположение о такой возможности выдвинул в самом начале экспедиции Л.А. Зильбер). Так что, Михаил Петрович имел полное право предложить уточнённое название этого заболевания: не просто «весенне-летний энцефалит» (вариант Л.А. Зильбера), а «весенне-летний клещевой энцефалит» или «клещевой энцефалит». Последний вариант сейчас признан во всём мире.
29 июня 1937 года во время вскрытия больного, погибшего от клещевого энцефалита, неспециализированными медицинскими инструментами (специализированных в экспедиции наблюдалась нехватка) М.П. Чумаков поранился и сам заразился энцефалитом. Ему повезло – он выжил. Но болезнь протекала крайне тяжело. Итогом стали потеря слуха (сначала полная, затем слух частично, крайне слабо восстановился на левом ухе; однако без слухового аппарата М.П. Чумаков даже этим ухом слышать не мог), пожизненный паралич правой руки и мышц шеи. Более того, Михаил Петрович не без оснований подозревал, что вирус остался «сидеть» в его организме и «ведёт» свою губительную «работу». Особенно это явственно стало в старости, когда начали проявляться симптомы паралича конечностей (отнялись ноги, почти перестала действовать и левая рука). Поэтому в последние дни жизни М.П. Чумаков принял решение о посмертном исследовании его органов на наличие в них вируса клещевого энцефалита, что и было выполнено его сотрудниками. Как говорится в подобных случаях, завещал своё тело науке. Между прочим, в двигательных участках коры головного мозга Чумакова, именно там, где он и предполагал сам, учёными были обнаружены молекулы РНК вируса клещевого энцефалита. Михаил Петрович оказался прав: вирус «сидел» в его организме.
Но мы «убежали» далеко вперёд. Вернёмся в 1937 год. Вот как описывала состояние М.П. Чумакова после экспедиции Е.Н. Левкович в одном из своих писем:
«Михаил Петрович вернулся в Москву на собственных ногах, но в плохом состоянии. Исследовался в клинике Маргулиса, и затем его отвезли в Севастополь в Институт Сеченова. В настоящее время у него резко поражён слух, ещё остались поражения тройничного нерва, правая рука парализована, левая значительно окрепла. Как он пишет, посещают его кризы тяжелейшего настроения. Я надеюсь, что из Севастополя он вернётся трудоспособным» [30; 5].
Как уже отмечалось, полностью физически восстановиться Михаилу Петровичу так и не удалось – он остался калекой. Но вот психологически М.П. Чумаков восстановился «на все сто процентов»: «кризы тяжелейшего настроения» ушли в небытие, перед коллегами вновь был энергичный, бодрый, готовый много работать учёный. И, конечно же, главной своей задачей на данном этапе он считал работу по дальнейшему изучению клещевого энцефалита, чтобы справиться с этим опаснейшим заболеванием. Вирус энцефалита на долгие годы становится «личным врагом» Чумакова.



