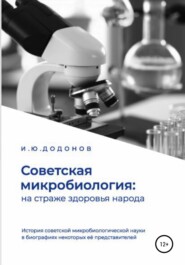 Полная версия
Полная версияСоветская микробиология: на страже здоровья народа. История советской микробиологической науки в биографиях некоторых её представителей
Я вдова, осталась после смерти мужа с 6-ю детьми с маленькой пенсией в размере 360 руб. в год. В настоящее время 2 сына у меня с начала войны в действующей армии, два в старших классах Донского кадетского корпуса, одна дочь замужем и последняя, упомянутая Зинаида, у меня на руках, которой мне как матери желательно было бы дать высшее образование. 1916 г. ноября 21 дня. Александра Ермольева» [37; 2].
Наказной Атаман пошёл навстречу вдове, её прошение было удовлетворено, и 30 ноября 1916 года Зинаида Ермольева была зачислена на первый курс Ростовского Женского медицинского института.
Интересная деталь: учиться в институте З.В. Ермольева начала в царской России, продолжила при Временном правительстве и в период белогвардейской Донской казачьей республики, а закончила уже при Советской власти.
Время было бурное, опасное и тяжёлое (гражданская война, эпидемии, угроза голода), но Зинаиде Виссарионовне повезло – осталась жива-здорова и имела возможность продолжать учёбу.
Желание Зинаиды Ермольевой победить холеру делало вполне естественным её интерес к микробиологии. Уже со второго курса мединститута девушка начинает заниматься научной работой под руководством известного микробиолога профессора В.А. Барыкина. Специализацией Владимира Александровича как раз была холера.
На многие годы холерный вибрион становится «любимым микробом» и для З.В. Ермольевой.
Энтузиазма у молодой исследовательницы-студентки было хоть отбавляй. Позже Зинаида Виссарионовна вспоминала:
«Будучи студенткой, я чуть свет лазила через форточку в лабораторию. Всё кругом было закрыто, а мне хотелось лишний часок-другой посвятить опытам» [37; 2].
В 1921 году З.В. Ермольева окончила Медицинский институт и была оставлена ассистентом на кафедре микробиологии.
Жизнь создавала «благодатную почву» для исследований З.В. Ермольевой: в 1922 году в Ростове-на-Дону вспыхнула эпидемия холеры.
Молодой врач-микробиолог принимает активное участие в борьбе с эпидемией.
Но успешная борьба с эпидемией – это не только ликвидация её последствий (т.е. карантинные мероприятия, лечение заболевших, дезинфекция), но и выяснение источника возникновения инфекционной вспышки (т.е. во многом – работа эпидемиолога).
В 1922 году в Ростове-на-Дону естественно было предположить, что болезнь пришла через воду (холерой преимущественно и заражаются через воду). Однако в многочисленных пробах воды из ростовского водопровода холерный вибрион не обнаруживался. Зато был обнаружен некий холероподобный вибрион. Но мог ли он быть причиной заболевания? Это сейчас хорошо известен полиморфизм возбудителя холеры, а тогда о том, что некоторые холероподобные вибрионы и есть холерный вибрион в «ином виде», учёные только догадывались.
Ассистентке кафедры микробиологии Ростовского Медицинского института Зинаиде Ермольевой предстояло доказать или опровергнуть, что «выловленный» в городском водопроводе вибрион может быть возбудителем холеры.
Исследовательница провела большую серию опытов на лабораторных животных. Их результаты показывали, что холероподобный вибрион ростовского водопровода и есть причина возникновения эпидемии. Требовалась ещё одна проверка, которая дала бы однозначный ответ, неопровержимое доказательство.
И эту проверку Зинаида Виссарионовна провела на себе (совершенно в духе Мочутковского и Минха): нейтрализовав желудочный сок содой (т.е. устранив тем самым один из защитных механизмов организма от желудочных инфекций), она выпила разводку, содержавшую около 1,5 млрд холероподобных вибрионов. Через 30 часов развилась клиническая картина классического холерного заболевания, а из организма исследовательницы был выделен типичный холерный вибрион.
Доказательство было получено, но оно едва не стоило З.В. Ермольевой жизни.
В протоколе этого эксперимента на себе было скромно записано: «Опыт, который едва не кончился трагически, доказал, что некоторые холероподобные вибрионы, находясь в кишечнике человека, могут превратиться в истинные холерные вибрионы, вызывающие заболевание» [59; 2].
Совершив научный подвиг, 24-летняя девушка сделала своё первое научное открытие.
На основании рекомендаций З.В. Ермольевой были созданы санитарные нормы хлорирования водопроводной воды, которые внедрили первоначально в Ростове, а затем стали использовать и по всей стране. Эти нормы используются до сих пор.
После победы над эпидемией холеры в Ростове Зинаиду Виссарионовну назначают заведующей бактериологическим отделением Северо-Кавказского бактериологического института.
В 1923 году в журнале «Юго-Восточный вестник здравоохранения» выходит её большая статья «К биологии холерного вибриона по материалу эпидемии за 1922 год в Ростове-на-Дону». Эта статья стала первой опубликованной научной работой молодой исследовательницы. Кстати, специалисты утверждают, что выводы статьи и в наши дни весьма актуальны.
Несколько позже публикуются результаты исследований З.В. Ермольевой о диастатическом ферменте холерных и холероподобных вибрионов, о желчи как факторе, способствующем биохимической и биологической изменчивости вибрионов. Ею был также предложен новый метод дифференциальной диагностики этих микробов и открыт ранее неизвестный науке светящийся холероподобный вибрион, который впоследствии стал носить её имя.
Профессор В.А. Барыкин видел большой потенциал своей ученицы. Поэтому, когда в 1925 году профессора пригласили работать в Москву, где он возглавил Микробиологический институт Наркомздрава РСФСР, Владимир Александрович порекомендовал перевести в столицу и З.В. Ермольеву как перспективного специалиста. Его рекомендации были услышаны: в этом же году З.В. Ермольеву переводят в Москву. Ростов Зинаида Виссарионовна покидала с одним небольшим чемоданом, значительную часть которого занимала коллекция из 500 лабораторных культур холерных возбудителей.
Интересный, говорящий о многом факт: в Москве З.В. Ермольева с самого начала работала не в институте у своего учителя, а получила самостоятельное назначение – возглавила отдел биохимии микробов Биохимического института при Наркомздраве РСФСР, т.е. уже в то время её рассматривали как крупного исследователя, способного к тому же осуществлять руководство научным коллективом.
Конечно же, Зинаида Виссарионовна общалась со своим учителем, бывала в его институте. Здесь-то и произошло событие, сыгравшее большую роль в её личной жизни. Она познакомилась с двумя молодыми учёными, работавшими в лаборатории профессора В.А. Барыкина, – Львом Александровичем Зильбером и Алексеем Александровичем Захаровым. И тот, и другой влюбились в Зинаиду. Она же ответила взаимностью Л.А. Зильберу. В 1928 году З.В. Ермольева и Л.А. Зильбер поженились.
Об этом совсем недолго продлившемся браке и отношениях, сложившихся между Зинаидой Виссарионовной и Львом Александровичем, коротко, но ёмко рассказал в своих воспоминаниях Вениамин Каверин – младший брат Л.А. Зильбера и в то же время друг З.В. Ермольевой:
«Он женился – это был третий и не последний брак – на Зинаиде Виссарионовне Ермольевой – событие неравнозначное для молодых супругов, потому что привязанность Льва продолжалась пять – шесть лет, а Зина (она была моим близким другом, и по имени-отчеству я её никогда не называл) полюбила его на всю жизнь и во имя этого чувства десятилетиями приносила ему бесчисленные жертвы.
Рассказывая о старшем брате, я волей-неволей буду вынужден не раз коснуться этих удивительных отношений. Они осложнялись двумя причинами, о которых необходимо упомянуть, чтобы дальнейшее было понятно. Первая заключалась в том, что с такой же преданностью, с такой же невозможностью отказаться от своего чувства Зину любил ближайший со студенческих лет друг Льва Алексей Александрович Захаров. […]
А вторая причина в полной мере относилась к личности Льва и заключалась в том, что, как ему тогда казалось, ему была “не показана” семейная жизнь. Пожалуй, о нём можно сказать, что он любил всех женщин на свете или, по крайней мере, жалел, что они, все до единой, не принадлежат ему – черта, характерная для людей холодных и страстных. Но Лев был сложнее. В нём соединялись и привязчивость, и ирония, и способность подняться над своей “холодной” силой во имя человечности и добра.
Однако в начале тридцатых годов неравнозначность отношений привела к тому, что Лев переехал из Москвы в Баку. Этому предшествовали счастливые события – поездка во Францию, где молодые прекрасно провели отпуск, успешно работая в Институте Пастера.
Потом начались ссоры, связанные, как это ни парадоксально, с нормами поведения в науке. У Льва всегда была нападающая позиция, у Зины – умиротворяющая, и возражения, не высказанные в докладах и на конференциях, разгорались дома. Было ли это соперничеством? Не думаю, хотя честолюбие в известной мере играло роль в расхолаживающих отношениях» [28; 2 – 3].
Итак, в 1928 году молодые супруги отправляются за границу. Да, это, конечно, можно расценивать как свадебное путешествие и отпуск (с учётом того, что пунктами назначения были Берлин и Париж), но, строго говоря, З.В. Ермольева и Л.А. Зильбер ехали работать, т.к. их направили на полугодовую научную стажировку в Институт Коха (Берлин) и в Институт Пастера (Париж). Тем не менее эти полгода – время, безусловно, счастливое для обоих (о чём можно судить по сохранившимся фотографиям).
Но по возвращении семейная жизнь довольно быстро «дала трещину». О причинах этого, наверное, вполне полно сказал В.А. Каверин. Остаётся только уточнить, что фактически брак распался уже в 1930 году, когда Л.А. Зильбер один, без жены, уехал на работу в Баку.
Зинаида Виссарионовна очень тяжело переживала разрыв. Она очень серьёзно заболела: какое-то время «…не было никакой надежды на выздоровление», – вспоминает В.А. Каверин. И при всей своей любви и уважению к старшему брату писатель в воспоминаниях не может удержаться от слов осуждения в его адрес в связи с этой ситуацией: «…Должен признаться, что была в моей жизни полоса, когда я не то что не любил брата, но был искренне возмущён его поведением. Она тесно связывается с историей этой, продлившейся, должно быть, не меньше года болезни» [28; 8].
Но Зинаида Виссарионовна была человеком волевым. Она смогла взять себя в руки, смогла одолеть болезнь. И, безусловно, помогла ей в этом работа.
С конца 20-х годов в работе З.В. Ермольевой, наряду с изучением холерного и холероподобных вибрионов, появляется ещё одно направление: поиски и изучение веществ, оказывающих антибактериальное действие. Уже в 1929 году ею совместно с И.С. Буяновской было выделено вещество лизоцим.
Здесь остановимся. Требуются некоторые комментарии и пояснения, дабы «успокоить» наших доморощенных любителей «заграницы», настаивающих на приоритетности во всех буквально вопросах западной науки и абсолютной несамостоятельности, вторичности, эпигонстве (также во всех буквально вопросах) науки советской.
Сразу скажем, что ни вторичной, ни эпигонской советскую науку мы не считаем. Как раз наоборот: советская наука (практически во всех отраслях) была передовой! И стыдиться нам тут нечего!
Вопросы же приоритетности – вопросы сложные. Более ранняя регистрация открытия или изобретения ещё не говорит о том, что открытие или изобретение были регистрирующим их учёным (изобретателем, инженером) сделаны и в самом деле раньше, чем его научным «конкурентом». «Конкурент» может лишь оказаться менее «прытким» именно в регистрации открытия или изобретения, а не в их реальном свершении. И причины этой меньшей «прыткости» могут быть самые различные (от простой беспечности в данном вопросе до удалённости от места, где регистрацию можно произвести).
Но даже реальное наличие хронологического приоритета в открытии (изобретении) само по себе не умаляет работы, поиска, усилий «конкурента». И, конечно же, не делает его подлым, злым, тупым.
Скажем, никому не приходит в голову клеймить Лавуазье как бездаря, компилятора, негодяя за то, что он полвека спустя после Ломоносова самостоятельно открыл закон сохранения вещества. Никто не выливает ушаты грязи на Китадзато за то, что он несколько позже Йерсона самостоятельно открыл возбудителя чумы.
Но… Как только дело касается более хронологически поздних самостоятельных открытий отечественных учёных, особенно советского периода, то «демоправдюки» буквально бьются в пароксизме «благороднейшего» гнева, буквально «слюной брызжут», стараясь доказать, что наши-то всё «списали», «сдебрили», «скомпилировали», «украли», ибо сами ни на что не способны, так сказать, «рылом-с не вышли-с», ибо «вторичны», «эпигоничны», «несамостоятельны».
Рассказывая о Зинаиде Виссарионовне Ермольевой, мы именно с подобным «прогрессивным» подходом современной российской исторической науки и столкнёмся, когда речь пойдёт о пенициллине.
Но, чтобы не наполучать от этих «демоправдюков» «шишек» и в вопросе о лизоциме, мы сразу заявим: нам известно, что хронологически Александр Флеминг открыл лизоцим раньше, чем с ним начала работать Зинаида Виссарионовна Ермольева, – ещё в 1921 году. И этот факт никто не собирается оспаривать, также, как никто и не умаляет заслуг замечательного учёного Александра Флеминга в открытии этого вещества.
Однако Флеминг, установив наличие лизоцима в слизистой оболочке носоглотки и слезах человека, в яичном белке, тканях ряда растений (как выяснилось впоследствии, лизоцим содержится в большинстве тканей человеческого организма, во многих тканях животного и растительного происхождения), не смог выделить его в чистом виде. Следовательно, и создание каких-то лекарственных препаратов на основе лизоцима Флемингу и его коллеге Эллисону, работавшему вместе с ним в данных исследованиях, было попросту «заказано».
И в том-то и заключался научный прорыв З.В. Ермольевой и И.С. Буяновской, что им удалось получить чистый лизоцим. Изучая его, З.В. Ермольева подтвердила выдвинутое ещё Флемингом предположение, что лизоцим является фактором естественного (видового) иммунитета.
На основании лизоцима уже в 1931 году Ермольевой и её научной группой был разработан ряд лекарственных препаратов, которые нашли применение при лечении глазных заболеваний и заболеваний лор-органов (уха, горла, носа).
Более того, исследовательница установила возможность промышленного использования лизоцима: в пищевой промышленности его стали применять для консервации икры, в ткацкой – для получения льняного волокна высокого качества.
В 1930 году Лев Александрович Зильбер был впервые арестован (по обвинению в распространении чумы в Нагорном Карабахе, где, на самом деле, ему удалось победить вспышку этой страшной болезни). Арест не привёл ни к суду, ни к заключению. После почти четырёхмесячного следствия учёный был освобождён.
Насколько хлопоты родственников, друзей и коллег (Вениамина Каверина, Юрия Тынянова, Алексея Захарова и других) сыграли в 1930 году роль в освобождении Л.А. Зильбера не известно. Но среди тех, кто добивался этого одной из наиболее активных оказалась З.В. Ермольева. В. Каверин вспоминает:
«…Возможно, помогли энергичные хлопоты Зины Ермольевой, которая, не помня незаслуженных обид, не теряя ни минуты, взялась за тяжкую, подчас унизительную работу, состоявшую из ежедневных писем, ходатайств, телефонных звонков и совещаний с друзьями. Впервые оценил я тогда её готовность к самопожертвованию, её поражающую смелостью натуру. Главную черту её характера нельзя было назвать отзывчивостью, которая предполагает существование двух существ: одно – сострадающее, другое – нуждающееся в сострадании. Оба они в ней как бы соединялись. Не теряя себя, она легко воплощалась в того человека, спасение которого было целью её настойчивости, сметливости, оптимизма, юмора (подчас в безвыходных ситуациях) и терпения, терпения и снова терпения» [28; 4].
Забегая вперёд, скажем, что те черты характера Зинаиды Виссарионовны, о которых пишет В. Каверин (самоотверженность, смелость, способность воспринимать чужую боль как свою собственную), а также её не исчезнувшая вместе с разрывом отношений любовь к Л.А. Зильберу, предопределили и будущие её хлопоты за него (во время арестов и заключений в 1937 – 1939 и 1940 – 1944 годах). Необходимо только добавить, что поскольку, по справедливому замечанию того же В. Каверина, «арест в 1937 году (уточним – с 1937 года – И.Д.) – это было нечто совершенно другое, чем арест в 1930-м», то хлопоты за Л.А. Зильбера в указанные годы требовали гораздо больших смелости и самоотвержения. И Зинаида Виссарионовна отдавал себе отчёт в том, чем для неё лично такие хлопоты могут закончиться (тем более, что с 1938 года ей пришлось усиленно хлопотать и за ещё одного «врага народа» – своего второго мужа Алексея Александровича Захарова). Поэтому с 1937 года она всегда держала наготове собранный чемоданчик со всем необходимым.
Но эти горькие страницы биографии нашей героини ещё впереди. Пока, в первой половине – середине 30-х годов, у неё всё складывается довольно благополучно. Разрыв с Л.А. Зильбером узаконен в 1934 году – супруги официально разводятся. Лев Александрович в 1935 году женится на Валерии Петровне Киселёвой. Выходит вторично замуж и Ермольева. Вторым мужем Зинаиды Виссарионовны становится Алексей Александрович Захаров, много лет безответно её любивший. Честный, благородный, добрый человек, крупный советский микробиолог А.А. Захаров послужил одним из прототипов Андрея Дмитриевича Львова в романе В. Каверина «Открытая книга» (вторым прототипом стал Л.А. Зильбер). Любила ли его Зинаида Виссарионовна так, как любила своего первого мужа? Вряд ли (мы уже говорили, что любовь к Л.А. Зильберу она пронесла через всю жизнь). Но, безусловно, не могла не испытывать к нему чувства некой нежной привязанности. Очевидно, эти нюансы отношений Ермольевой и Захарова показаны в романе В. Каверина (там они существуют между Татьяной Власенковой и Андреем Львовым).
В 1934 году Зинаида Виссарионовна становится доктором медицинских наук. Институт биохимии микробов, в котором она работает, входит в состав нового научного учреждения – Всесоюзного Института экспериментальной медицины (ВИЭМ).
Ермольева продолжает исследования по тематике лизоцима, а также не забывает и о своём «любимом микробе» – холерном вибрионе. Ею начаты работы по поиску и использованию холерного бактериофага. Не исключено, что уже в то время в качестве «факультативной» темы Зинаида Виссарионовна занимается изучением свойств плесени. Во всяком случае, «чудесными» свойствами плесневых грибков она интересовалась ещё в первые годы своей научной деятельности. Известно, что в Биохимическом институте эта её работа поддержки руководства не встретила. Однако вхождение института в состав новой научной структуры (ВИЭМ) могло дать З.В. Ермольевой возможность возобновить свои исследования свойств плесени. И хотя официально данная тема в списке её разработок того периода не значится, но очень вероятно, что определённые шаги в этом направлении предпринимались. Иначе трудно объяснить довольно быстрый успех соответствующих исследований в начале 40-х годов.
1937 год приносит новый арест Л.А. Зильбера. На сей раз учёный осуждён на десять лет лагерей. А в следующем, 1938, году арестовывают А.А. Захарова. Алексей Александрович и ещё ряд сотрудников ИЭМ им. Мечникова также, как и Лев Александрович Зильбер ранее, арестованы по доносам директора института Музыченко.
Методы физического воздействия, широко применявшиеся в те годы к подследственным, сломили А.А. Захарова, и он признался в проведении подрывной антисоветской деятельности. Ему и его коллегам вменялись сознательное приведение в негодность мобилизационного запаса бактериологических препаратов, убийство здоровых лошадей с целью сорвать производство сывороток, создание условий для оспенной эпидемии, заражение воды колодцев брюшнотифозными палочками, выпуск «фашистской» книги «Руководство по прививкам». Это первоначально (эти пункты обвинения фигурировали в доносе Музыченко). В признании, которое «выбили» из А.А. Захарова 9 марта 1938 года (арестован он был 12 февраля 1938 года), т.е. менее чем через месяц следствия, он «брал на себя», кроме указанных обвинений, и другие «грехи»: сознавался в создании вместе с профессором О.О. Гартохом контрреволюционной организации, которая ставила целью массовые убийства советских граждан, членов Советского правительства и лично товарища Сталина посредством различных микробов, а также шпионаже в пользу фашистской Германии. Причём заражение членов правительства Захаров якобы должен был осуществить лично, отравив холерными вибрионами фруктовые воды, поставляемые в Кремль.
Нетрудно представить, какая опасность нависла над Ермольевой: она, бывшая жена одного «врага народа», жена другого «врага народа», который собирался травить членов правительства холерными вибрионами, – сама микробиолог, занимающийся как раз этими самыми холерными вибрионами.
Почти можно не сомневаться, что дело на неё на Лубянке «было шито». Но З.В. Ермольевой повезло: лично её не тронули.
На какой-то момент повезло и Л.А. Зильберу (хлопоты родственников, друзей, коллег, в том числе и З.В. Ермольевой, сыграли свою роль) – его выпустили после полутора лет лагерей.
А вот спасти Алексея Александровича Захарова не удалось, несмотря на все хлопоты. Не помогли письма Вышинскому, Ульриху, Берии, многочисленные показания следствию, что А.А. Захаров невиновен, что показания из него «выбили», что он оговорил себя под действием пыток. А.А. Захаров – прекрасный человек, большой учёный, безвестно канул, никогда не вернулся к своей жене. Как он погиб? Точно не известно. По одним данным, он был расстрелян в октябре 1938 года. По другим (эту информацию выяснил Л.А. Зильбер) – скончался в одной из психиатрических клиник НКВД в 1940 году.
Зинаида Виссарионовна Ермольева замуж больше уже не вышла.
Но, несмотря на такие удары судьбы, на опасность, которая нависла над ней самой (и она прекрасно это осознавала), учёная продолжала работать. Очевидно, именно работа позволила ей не сломаться психологически в такое тяжёлое для неё время.
В 1938 году выходит труд, подведший итог её исследований лизоцима. Он так и называется «Лизоцим» («Успехи современной биологии», 1938 г., т. 11, вып. 1(4)).
Хорошие результаты достигнуты в работах с холерным бактериофагом. Полученный на его основе препарат вскоре пришлось широко применить на практике. В 1938 году в приграничных с Советским Союзом районах Афганистана вспыхнула эпидемия холеры. В 1939 году эпидемия продолжала шириться, возникла реальная угроза заноса инфекции на советскую территорию. И тогда Наркомздрав СССР направляет Ермольеву, известного специалиста по холере, в приграничные афганские районы для борьбы с заболеванием.
Прибыв с рабочей группой на место, исследовательница установила, что эпидемия холеры осложнена ещё и вспышками брюшного тифа и дифтерии. Началась напряжённая и опасная работа. Разработанный Ермольевой препарат оказался эффективен не только против холеры, но также и против «брюшняка» и дифтерии. Дело в том, что Зинаида Виссарионовна сделала его комплексным: он включал 19 различных видов бактериофагов. Эти «пожиратели бактерий», как оказалось, «питаются» не только холерными вибрионами, но и палочками дифтерии и брюшного тифа.
В ходе борьбы с эпидемией З.В. Ермольевой был предложен и успешно опробован новый метод экспресс-диагностики холеры.
Эпидемия была побеждена. Своей самоотверженной работой Ермольева заслужила уважение местного афганского населения. К ней почтительно обращались «ханум». Сотрудники Зинаиды Виссарионовны «усвоили» это обращение и впоследствии между собой нередко именно так называли своего руководителя. Позже «усвоил» такое обращение и англичанин Говард Флори – один из разработчиков пенициллина (но об этом ниже).
За успешную борьбу с холерной эпидемией в приграничных с СССР районах Афганистана З.В. Ермольева получила звание профессора.
В 1940 году в очередной раз был арестован Л.А. Зильбер (на сей раз он попал в лагеря почти на четыре года). И вновь Зинаида Виссарионовна – один из главных организаторов хлопот об освобождении учёного. Вновь она пишет письма, организует их коллективные подписания, ходит по инстанциям, звонит тем или иным лицам, от которых может зависеть пересмотр дела Льва Александровича.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. На фоне этой общей трагедии всей страны, всего народа личное не могло не отступить на второй план.
Зинаида Виссарионовна принимает активное участие в организации деятельности бактериологических лабораторий, входивших в состав военно-санитарных управлений фронтов. Надо заметить, что бактериологическая служба в действующих войсках была поставлена чрезвычайно высоко и работала очень эффективно: за годы войны в Красной Армии не случилось ни одной вспышки эпидемических заболеваний.



