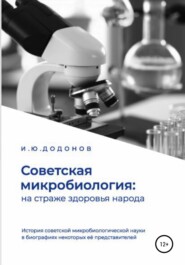 Полная версия
Полная версияСоветская микробиология: на страже здоровья народа. История советской микробиологической науки в биографиях некоторых её представителей
Хотя, конечно же, опасность этого постоянно существовала. Особенно велик был риск прихода эпидемии «с той стороны», т.е. из войск противника и с оккупированной врагом территории.
Так, летом 1942 года во время битвы за Сталинград в немецких частях, действовавших в районе города, вспыхнула эпидемия холеры. Болезнь могла легко перекинуться и на наши войска, и на мирных жителей, которые далеко не все были эвакуированы из города. С эвакуируемыми же, с вывозимыми в тыл ранеными холера могла «уйти» в глубь страны.
Ситуация складывалась очень серьёзная.
Говорят, что в связи с ней Сталин вызвал к себе наркома здравоохранения СССР Георгия Митерева и поставил вопрос ребром:
– Есть ли возможность предотвратить эпидемию холеры в наших войсках? И если есть, то что для этого нужно сделать?
– Послать в Сталинград профессора Ермольеву, – тут же ответил нарком.
И после паузы добавил:
– Наделив её чрезвычайными полномочиями.
Конечно, может быть, данный разговор – не более, чем легенда. Точнее, разговор именно с таким диалогом.
Но то, что в Сталинград на борьбу с надвигающейся эпидемией холеры отправляют З.В. Ермольеву, Сталин, как Верховный Главнокомандующий, конечно же, знал. И контролировал ситуацию в городе в связи и с этим вопросом тоже. Т.е. знал, как работает посланная туда на борьбу с угрозой эпидемии профессор З.В. Ермольева.
Спустя много лет, поздравляя Зинаиду Виссарионовну с 70-летием, волгоградцы писали ей:
«Нам всегда помнится, как в годы войны Вы встали в единый строй с защитниками города и возглавили борьбу с особо опасными инфекциями» [31; 2].
В. Каверин отмечал:
«З.В. Ермольева – учёный, известный не только своими трудами, но и врачебным подвигом в осаждённом Сталинграде» [31; 2].
Действительно, около 6 месяцев З.В. Ермольева провела в осаждённом врагом городе. Трудно представить, как там, под огнём противника, ей удалось наладить и с успехом осуществлять в наших войсках и среди оставшегося мирного населения работу по предотвращению распространения холерной эпидемии. В городе, где не осталось ни одного целого дома… Но она это сделала.
А начиналось всё крайне неблагоприятно. Ермольева с группой сотрудников на самолёте вылетела в Сталинград. Другим самолётом, грузовым, в город была отправлена большая партия холерного бактериофага (практически весь наличный запас этого препарата). Этот самолёт был сбит. Что делать в подобной ситуации?
Зинаида Виссарионовна решает организовать производство фага прямо на месте. Была создана подземная лаборатория, в которой начали производить препарат. Но для начала его производства необходимы были штаммы холерных вибрионов, вызвавшие заболевание в немецких войсках.
И вот наши войсковые разведчики получают приказ доставлять из-за линии фронта трупы немцев, умерших от холеры. Задание, конечно, выглядело очень странно. Но наши военные понимали, какова его цель. А вот противник недоумевал, зачем это русским холерные трупы его солдат.
З.В. Ермольевой удалось наладить в подземной лаборатории довольно широкое производство бактериофага. Достаточно сказать, что очень скоро количество ежедневно принимающих препарат достигло 50 тысяч человек (военных и остающихся в городе гражданских лиц). «Живая вода» – так полушутливо прозвали ермольевский препарат в Сталинграде. Шутили по-доброму. А вот то, что «вода» оказалась и впрямь живой – являлось чистой правдой. Стараниями учёных были спасены тысячи и тысячи жизней защитников города.
Кроме профилактических прививок бактериофагом З.В. Ермольева взяла под контроль все источники воды в Сталинграде: воду в них хлорировали. Большая разъяснительная работа о мерах предосторожности проводилась в войсках, среди населения, беженцев, эвакуированных. Нечего и говорить о том, что было налажено тщательнейшее наблюдение за состоянием здоровья людей. Разумеется, московским учёным в этом помогали военные медики. Для ускорения распознавания заболевания З.В. Ермольева усовершенствовала свой метод бактериологической экспресс-диагностики холеры, а также разработала метод групповых посевов, который дал возможность увеличить пропускную способность бактериологических лабораторий в 5 – 10 раз.
Эпидемия была остановлена «на пороге» Сталинграда: ни одного случая заболевания холерой с советской стороны зарегистрировано не было. А вот в германских войсках, по имеющимся данным, от холеры умерло 78 тысяч человек.
Наверное, это легенда (хотя, кто знает?), но говорят, что, когда готовилось наступление под Сталинградом, Сталин лично позвонил Ермольевой и справлялся об эпидемиологической ситуации в городе. При этом называл её «сестрёнкой» (Сталина звали Иосиф Виссарионович, Ермольеву – Зинаида Виссарионовна). Сестрёнка твёрдо ответила: «Мы своё дело выполним до конца».
З.В. Ермольева и её коллеги своё дело в Сталинграде выполнили до конца.
Вернувшись из Сталинграда, З.В. Ермольева в кратчайший срок готовит к печати свою монографию «Холера». В работе подведены итоги почти двадцатилетнего изучения холерного вибриона, описаны новые методы лабораторной диагностики, лечения и профилактики заболевания.
Героическую работу З.В. Ермольевой и её коллег в Сталинграде высоко оценили: учёные были удостоены правительственных наград (Зинаида Виссарионовна получила орден Ленина). В 1943 году З.В. Ермольева и Л.М. Якобсон стали лауреатами Сталинской премии 1-й степени с формулировкой: «За участие в организации и проведении большой профилактической работы на фронтах Великой Отечественной войны, за разработку новых методов лабораторной диагностики и фагопрофилактики холеры».
Денежную составляющую премии учёные передали в Фонд обороны. На деньги Ермольевой был построен истребитель, получивший её имя, – «Зинаида Ермольева».
* * *
В некоторых публикациях, посвящённых З.В. Ермольевой, можно прочесть, что Сталинскую премию она получила за разработку отечественного пенициллина-крустозина.
Это ошибка.
За что Зинаида Виссарионовна получила Сталинскую премию, читатель узнал выше.
Но подобная неточность ряда авторов весьма характерна: она говорит о том трудном пути, который прошёл отечественный аналог пенициллина («Тернистый путь крустозина», – как выразился один из авторов). Допускающие эту неточность просто не могут даже представить, что подобная разработка наших учёных осталась никак не отмеченной руководством страны, и государственную премию, полученную исследователями за другие заслуги, считают присуждённой именно за крустозин. Тем более, что и хронологически события оказываются переплетены (Сталинградская эпопея З.В. Ермольевой, получение ей крустозина, Сталинская премия, лауреатом которой стала исследовательница).
Но тернистый путь у нашего крустозина был не только тогда – в 30-х – 40-х годах прошлого столетия. После периода, когда «создание “советского пенициллина” являлось предметом гордости… СССР» [74; 1], этот путь (так и хочется сказать «на Голгофу») начался вновь. «Демократические» «правдоискатели» («демоправдюки») в своём «благородном» «правдоискательском» порыве выливают уже в наши дни ушаты грязи и на отечественный пенициллин, и на его разработчиков (прежде всего, конечно, на Ермольеву), и на Советское государство, которое посмело гордиться достижениями своих учёных, поправ тем самым этические устои науки и искажая исторические факты. Деепричастный оборот, заканчивающий предыдущее предложение, – это почти цитата из одной современной статьи [74; 7]. Вот такое отношение… не больше, не меньше…
Вкратце расскажем историю лекарственного использования плесени и открытия пенициллина.
То, что плесневые грибки обладают определёнными целебными свойствами, люди заметили довольно давно.
Издревле арабские наездники собирали плесень с сырых сёдел и лечили ею раны своих лошадей.
В XI веке персидский учёный и врач Ибн Сина (Авицена), а в XVI веке известный европейский врач Парацельс использовали плесневые грибки для лечения язв и ран у людей, о чём есть упоминания в их дошедших до нас трактатах.
Известно, что плесень применялась для врачевания инками в XV – XVI веках.
Новый всплеск интереса к медицинскому использованию грибков из рода Penicillium (от латинского «penicillus» – кисть; спороносные нити этих грибков – конидиеносцы, заканчиваются т.н. стеригмами, от которых отшнуровываются экзоспоры; стеригмы и экзоспоры имеют вид кисточек; отсюда и русское название этого вида грибков – кистевики) пришёлся на вторую половину XIX – начало ХХ века.
Первые шаги в этом направлении в 1868 – 1871 годах сделали русские учёные.
В.А. Манасеин – выдающийся терапевт своего времени, передовой общественный деятель и А.Г. Полотебнов – основоположник русской дерматологии почти одновременно занялись глубокими исследованиями антибиотических свойств зелёной плесени.
В 1868 – 1870 году А.Г. Полотебнов опубликовал в русских медицинских журналах ряд работ по этому вопросу. Учёный-медик, правда, сделал неверное теоретическое допущение, что зелёная плесень – родоначальник всех микробов, но в то же время им были проведены ценнейшие наблюдения по действию грибков-пенициллиумов на другие микробы. В частности, он писал: «Жидкость (в которой была посеяна зелёная плесень – И.Д.) при подобного рода опытах остаётся всегда прозрачной, обыкновенно она не содержит в себе ни одной бактерии» [45; 323].
В 1871 году в «Военно-медицинском журнале» появилась статья В.А. Манасеина, который, выступив против теоретических положений А.Г. Полотебнова о плесени как прародительнице всех микробов, в то же время подтвердил наблюдения своего оппонента относительно её антимикробного действия. Делая посевы зелёной плесени на различные среды, он отметил, что в этих средах «никогда не развивалось бактерий» [45; 323]. Следовательно, делал вывод учёный, плесень препятствует росту микробов.
Оба медика начали применять эмульсии и растворы, приготовленные на основе зелёного кистевика, в своей медицинской практике. Результаты были очень обнадёживающими.
«В поверхностных и глубоких, иногда кровоточащих язвах кожи, – писал А.Г. Полотебнов, – в продолжении 10 дней покрываемых сплошным слоем спор Penicillium с примесью бактерий, не происходит никаких осложнений (рожа, дифтерия и др.); напротив, иногда при таких условиях в язвах наблюдается самое резкое улучшение» [45; 324].
Учёный делал вывод: «Результаты проведённых мной опытов могли бы, я думаю, позволить сделать подобные же наблюдения и над ранами операционными, а также над глубокими нарывами. Только такие наблюдения и могли бы дать экспериментальное решение вопроса о значении плесени для хирургии» [45; 324].
Но большего сделать учёные-медики не смогли. Выделить лечебный компонент плесени, исследовать его, создать на его основе лекарственные препараты в то время не позволял уровень развития химической науки. Так что, со временем открытия и результаты работ А.Г. Полотебнова и В.А. Манасеина попросту забылись.
Спустя четверть века, в 1896 году, итальянский врач и биохимик Бартоломео Гозио, изучая причины поражения риса плесенью, вывел формулу антибиотика, схожего с пенициллином (это была микофеноловая кислота). Кислота, как заметил исследователь, подавляла рост бактерий сибирской язвы. Но довести своё открытие до стадии создания препарата Гозио не смог. Открытие итальянца постигла участь исследований Манасеина и Полотебнова – оно было забыто.
В 1897 году французский военный врач Эрнест Дюшен заметил то самое использование плесени арабами, о котором мы говорили выше. Дюшен тщательно обследовал плесень, опробовал её на морских свинках и выявил её разрушающее действие на палочку брюшного тифа. Результаты своих исследований врач отправил в Институт Пастера, но там на них почему-то не обратили никакого внимания. Итог тот же, как и в предыдущих случаях, – забвение.
В 1904 году русский учёный профессор М.Г. Тартаковский работал с грибком Penicillium glaucum, изучая его действие на возбудителя экспериментального тифа кур. М.Г. Тартаковский писал о результатах своего исследования: «Я наблюдал, что под влиянием Penicillium glaucum контагий экспериментального тифа кур погибал» [45; 324]. Эти наблюдения учёного не нашли никакого отклика в научной среде.
В 1913 году американским учёным Карлу Альсбергу и Отису Фишеру Блэку удалось получить из плесени кислоту (это была пенициллиновая кислота!). Они установили, что она обладает ярко выраженным противомикробным действием. Но… Началась Первая мировая война, и про открытие американских учёных «благополучно» забыли.
И вот в 1928 году британский микробиолог Александр Флеминг, занимаясь изучением вопроса мутаций стафилококка, обнаружил в некоторых оставленных незакрытыми лабораторных чашках, в которые попали из воздуха штаммы грибка Penicillium notatum, интересное явление: вокруг областей, куда попали штаммы плесени, бактерий не было (колонии стафилококков растворились, и вместо жёлтой мутной массы виднелись капли, напоминавшие росу).
«Короткая» память научной общественности проявилась в том, что для Флеминга наблюдаемый эффект явился полной неожиданностью.
Учёный сделал вывод, что плесень вырабатывает убивающие бактерии вещество, которое он назвал пенициллином.
Но и это очередное открытие «чудодейственной» силы плесени могла постигнуть участь предыдущих. Его вполне могли забыть. Да в общем-то и забыли.
Флеминг не смог выделить антибактериальное действующее начало плесени. Пробившись над проблемой несколько лет, он не двинулся дальше получения неочищенного фильтрата, который можно было применять только наружно, обрабатывая им раны и язвы. Другими словами, Флеминг дошёл до того рубежа, которого достигли чуть ли не 60 лет назад Полотебнов и Манасеин. Фильтрат этот к тому же довольно быстро терял свои антимикробные свойства.
Британские учёные весьма холодно встретили открытие своего коллеги. Неудачи с получением чистого пенициллина и невосприятие открытия научной общественностью привели к тому, что Флеминг забросил работы по этой теме, опубликовав несколько статей по ней.
И здесь случай вмешался в историю этого открытия второй раз. Первый раз он предстал в виде незакрытой лабораторной чашки с культурой стафилококка, второй – принял образ двух учёных.
Это были биохимик Эрнст Чейн, эмигрировавший в Англию из Германии с приходом к власти там нацистов в 1933 году, и патолог Говард Флори.
Исследователи случайно наткнулись в одном из научных журналов за 1929 год на статью Флеминга о пенициллине и его свойствах. Тема заинтересовала их (в особенности Чейна как биохимика). Причём (интересный факт), лично Флеминга ни Флори, ни Чейн не знали, познакомились с ним позже, когда опубликовали результаты своей работы, и даже вынуждены были признаться, что считали Флеминга давно умершим.
Чейн и Флори начали работу в 1939 году, уже после начала Второй мировой войны, а в марте 1940 года Чейну удалось получить первые миллиграммы пенициллина. Он ещё содержал примеси, т.е. был не слишком чистым, но, тем не менее, успех был достигнут.
К 24 августа 1940 года работа над очисткой препарата и его проверка на лабораторных животных дали результаты, о которых Чейн и Флори сообщили в медицинском журнале «Ланцет». Статью в нём прочёл Флеминг и отправился в Оксфорд, где работали учёные, получившие в чистом виде открытый им пенициллин. Тут-то и состоялось знакомство Чейна и Флори с «усопшим» открывателем.
В феврале 1941 года была проведена первая инъекция пенициллина человеку. Испытуемым стал полицейский, умиравший от заражения крови. После нескольких инъекций его состояние заметно улучшилось, появилась надежда на выздоровление. Но, к сожалению, полученного препарата было ещё очень мало. Уколы пришлось прекратить, и полицейский скончался.
Однако положительная динамика была налицо. Клинические испытания (вполне успешные) провели ещё на ряде пациентов. В том числе испытал на себе препарат и сам Флори, заразившись в лаборатории стрептококком.
Встал вопрос о необходимости наладить производство пенициллина в промышленных масштабах. Англия сделать это не смогла – не хватало средств. Тогда Флори передал технологию производства американским учёным, и сам отправился работать в Соединённые Штаты.
Американцам довольно быстро удалось наладить промышленное изготовление препарата. Фармацевтические компании, получив от государства большие субсидии, открыли сразу несколько заводов (к 1944 году их количество достигло 21). Но даже на таком большом количестве предприятий в 1943 году удалось произвести всего лишь 12 873 грамма (!) пенициллина, что было эквивалентно примерно 21 млрд т.н. оксфордских единиц, в которых измерялась активность пенициллина. Это было совсем немного, т.к. в зависимости от заболевания один курс терапии требовал от 50 тыс. до 1,5 млн оксфордских единиц.
Но американскими учёным в самом начале 1944 года была разработана и внедрена новая технология т.н. глубинного брожения (до того пользовались технологией поверхностного брожения). Это позволило резко увеличить выпуск препарата: в 1944 году американская промышленность произвела уже 500 млрд оксфордских единиц. К марту 1945 года потребность американской и английской армий в пенициллине была закрыта, пенициллин поступил в гражданский оборот, а также стал поставляться союзникам (т.е. в СССР).
А как же обстояло дело в Советском Союзе?
З.В. Ермольева, и это уже указывалось, ещё будучи молодым исследователем, вела какие-то работы по изучению антимикробных свойств плесневых грибков. С уверенностью можно говорить, что во второй половине 30-х – начале 40-х годов в ВИЭМ она неофициально продолжала это изучение. За данное предположение говорит получение советского пенициллина-крустозина уже в 1942 году. И это при том, что в 1941 – 1942 годах Зинаида Виссарионовна часто выезжала на фронт (в Сталинграде вообще провела около полугода), работала над производством и холерного бактериофага, и так называемого раневого фага (препарат, увы, оказался неудачным). Из Москвы Ермольева и группа её сотрудников не эвакуировались. А теперь представьте, в каких условиях им приходилось работать: фактически в осаждённом городе, под бомбёжками.
Однако же, несмотря на все указанные обстоятельства, в 1942 году получен крустозин. На пустом месте подобные открытия не делаются.
Правда, можно встретить такое утверждение: Ермольева ознакомилась со статьёй Флори и Чейна в августовском номере «Ланцета» за 1940 год не то в июле, не то в августе 1941 года, и вот, мол, эта статья и позволила ей разработать крустозин [75; 458].
Но, как говорится, смотри выше: «из ничего не сделать ничего», да ещё в таких условиях.
Фактом, свидетельствующим о самостоятельности советских разработок пенициллина, является то обстоятельство, что наш препарат получен из другого вида пенициллинового грибка, нежели английский: у нас его получили из Penicillium crustosum (отсюда и название – крустозин), англичане и американцы первоначально работали с Penicillium notatum.
В ряде статей можно прочесть, что уже в 1943 году в СССP был налажен массовый выпуск пенициллина.
Тут возникает вопрос, что подразумевать под словом «массовый»? Если авторы говорят о промышленном производстве, то подобное утверждение ошибочно. Никакого промышленного производства пенициллина в Советском Союзе в 1943 году ещё не было.
А вот довольно масштабный выпуск крустозина в своей лаборатории Зинаида Виссарионовна наладила. Вместе с сотрудниками (Т.И. Балезиной, Л.М. Левитовым, В.А. Севериным, А.П. Уразовой, Ф.Ф. Цуриковым, М.И. Жилабо) она получала, испытывала на активность, стерильность и безвредность значительные партии препарата (200 – 300 литров жидкого крустозина ежемесячно) и отправляла их в больницы и госпитали Москвы.
Применение крустозина давало ошеломляющие результаты. Зачастую людей буквально «возвращали с того света». Так, одним из первых вылеченных стал красноармеец с тяжёлым ранением ноги. Раздробление костей осколками привело к ампутации бедра. Однако после операции начался сепсис, и красноармеец считался безнадёжным. Уже на шестой день применения крустозина состояние больного значительно улучшилось, а посевы крови стали стерильными, что свидетельствовало о победе над инфекцией.
В ноябре 1943 года на Тегеранской конференции Сталин заговорил о пенициллине, продемонстрировав тем самым, что он прекрасно информирован и об английских разработках этого препарата, и о уже существующем в США его широком промышленном производстве. Заявив, что у нас имеется свой аналог лекарства, Иосиф Виссарионович попросил прислать к нам делегацию с образцом английского пенициллина.
Остаётся только гадать, какую хорошую мину пришлось сделать Черчиллю и Рузвельту при плохой игре – ведь ни англичане, ни американцы со своими русскими союзниками информацией о препарате не поделились. Очевидно, проклиная хорошо работающую советскую разведку, загнанный в угол Черчилль пообещал прислать в СССР самого Флори.
Говард Флори прибыл в Москву в феврале 1944 года. Тут-то и состоялось то самое «состязание» по сравнению эффективности оксфордского пенициллина и советского крустозина, о котором рассказывает в своём романе В. Каверин (Флори у него выведен под фамилией Норкросс).
И действительно, советский крустозин «взял верх» в этом своеобразном соревновании. В воспоминаниях Вениамин Александрович специально подчеркнул, что протоколы сравнительных клинических испытаний сохранились. Очевидно, в конце 80-х годов прошлого века, когда вышел его «Эпилог», и когда т.н. Перестройка в СССР не только шла полным ходом, но и «пошла в разнос» всего и вся, уже было немало «прогрессивных» личностей, которые начали обвинять писателя в вымышленности изложенных в романе событий, касающихся разработки отечественного пенициллина. В. Каверин вынужден был защищаться.
А вот и выдержка из итогового протокола:
«…Клинический эффект был получен при лечении как английским, так и русским препаратом, однако следует признать,.. что дозы пенициллина-крустозина ВИЭМ были, при равной клинической эффективности, значительно – до 10 раз – ниже оксфордского препарата…» [59; 4].
Как видим, в «Открытой книге» В. Каверин просто процитировал подлинный протокол испытаний.
Профессор И.Г. Руфанов, в клинике которого (та самая Яузская больница) и под общим руководством которого проводились сравнительные клинические испытания английского пенициллина и советского крустозина, докладывал по их результатам наркому здравоохранения СССР Г.А. Митареву, что наш антибиотик «в некоторых отношениях… превосходит иностранный препарат, требуя для излечения сепсиса значительно меньшего количества единиц» [74; 6].
Флори искренне поздравил своих советских коллег с победой и заявил, что на него «особенно большое впечатление произвела та энергия и то искусство, с которым… получили результаты с пенициллином в Москве за короткий срок» [74; 3].
Слова об особой энергичности наших учёных были наполнены глубоким конкретным смыслом, а не являлись общей фразой. Действительно, англичанин не мог не восхищаться тем фактом, что в разработке нашего крустозина (чрезвычайно удачной, как следовало из результатов «состязания») участвовало всего 9 человек (это весь штат лаборатории Ермольевой, включая её саму), в то время в англо-американском проекте было задействовано свыше 500 специалистов.
Выступая с ответной речью, З.В. Ермольева, в частности, сказала (просим читателя обратить внимание на её слова):
«Работа по пенициллину привлекла наше внимание потому, что автором этого препарата является Флеминг, являющийся также автором лизоцима, с которым наша лаборатория работала много лет… На препарат пенициллина мы обратили особое внимание с начала войны, когда появились работы Флори и Абрагама, когда мы получили сведения о методе очистки этого препарата и его клиническом применении» [74; 3].
Зинаида Виссарионовна добавила, что планирует также «получить некоторые детали технологического процесса и особенно – подробную химическую характеристику препарата» [74; 3].
Итак, З.В. Ермольева не заявляла ни о каких своих приоритетах. Напротив, подчёркивала первенство англичан и в открытии пенициллина (Флеминг), и в получении чистого препарата (Флори), заявляла, что использовала их информацию, публиковавшуюся в открытой научной печати, в своей работе. Но поскольку отечественная разработка всё-таки стала фактом, то Ермольева официально просила союзников помочь с наладкой промышленного выпуска препарата у нас в стране.
Кстати, ещё в 1941 году Наркомздрав по просьбе З.В. Ермольевой запрашивал у британского правительства штаммы плесени, с которыми работали Чейн и Флори. Тогда англичане попросту отмолчались, и мы нашли свой собственный пенициллин.



