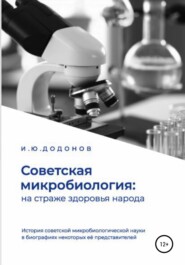 Полная версия
Полная версияСоветская микробиология: на страже здоровья народа. История советской микробиологической науки в биографиях некоторых её представителей
Подобное смягчение наказания Льва Александровича, тем не менее, в восторг не привело. Проходя под конвоем мимо судей, он выкрикнул: «Когда-нибудь лошади будут смеяться над вашим приговором!» [24; 8]
Л.А. Зильбер был помещён в один из лагерей близ Котласа. Первый год рубил лес. Потом лагерное начальство решило использовать его по специальности – Зильбера определили врачом в лагерную больницу.
Родственники и друзья Льва Александровича (В.А. Каверин, Ю. Тынянов, З.В. Ермольева, А.А. Захаров), как и во время первого ареста в 1930 году, пытались добиться освобождения, писали письма, ходили по «инстанциям». За Л.А. Зильбера также ходатайствовали виднейшие учёные страны. В конце концов, В.А. Каверину удалось передать письмо новому наркому внутренних дел Берии.
Приход нового главы НКВД ознаменовался пересмотром множества дел: многие осуждённые были освобождены из мест заключения. Так случилось и с делом Л.А. Зильбера. Хлопоты и письма родственников, друзей и коллег сыграли свою роль – Берия отдал распоряжение о повторном расследовании, и летом 1939 года Лев Александрович был освобождён без судебного разбирательства и восстановлен в правах.
Нельзя не сказать, что хлопоты за друга стоили свободы и жизни известному микробиологу Алексею Александровичу Захарову. Его арестовали в феврале 1938 года (т.е. ещё при Ежове) по доносу того же Музыченко. Правда, последний обвинял А.А. Захарова не только в беспокойстве за «врага народа», но и в куда более серьёзных преступлениях: он и ещё одиннадцать сотрудников Института микробиологии, по утверждению Музыченко, «сознательно привели в негодность» мобилизационный запас бактериологических препаратов, убивали здоровых лошадей, чтобы сорвать производство сывороток, старались создать условия для оспенной эпидемии. А Захаров, сверх того, ещё обеспечил выпуск «фашистской» книги «Руководство по прививкам», срывал все научно-исследовательские и практические работы, «провёл первый опыт заражения колодцев бациллами брюшняка, что привело к вспышке этой болезни в г. Зарайске среди рабочих местной промышленности» [28; 17].
Алексей Александрович не выдержал пыток и «сознался» в несовершённых им преступлениях.
Примечательно, что Л.А. Зильбер после своего освобождения подключился к попыткам, которые предпринимались друзьями и коллегами А.А. Захарова с целью спасти учёного и его сотрудников.
Бесплодными эти попытки не были – некоторые учёные, арестованные вместе с Захаровым, были освобождены. Но, увы, это не коснулось Алексея Александровича. Подробности дела Захарова ни Зильберу, ни Ермольевой (жене Захарова), ни другим его друзьям и коллегам так и не стали известны. Единственное, что удалось выяснить, так это то, что «в результате следствия» Алексей Александрович оказался в психиатрической клинике, где и скончался в 1940 году. Но и эти данные не стопроцентно точны, т.к. есть и другая версия, по которой его расстреляли в конце 1938 года.
«После освобождения летом 39 года он приехал в Ленинград. Никогда я не видел его в таком подавленном состоянии. Он похудел, поседел, впрочем, едва заметно. И прежде он был похож на мать прямотой, откинутыми плечами, гордой осанкой, но теперь при взгляде на него мне припомнились минуты, когда мама, глубоко расстроенная, старалась справиться с собой и что-то недоумённо-горькое скользило в её тонких поджатых губах», – так описал брата после его выхода из заключения в 1939 году Вениамин Каверин [28; 14].
Безусловно, после полутора лет заключения, следствия с пытками Лев Александрович не мог не ощущать подавленности, моральной, да и физической усталости. Потрясение, испытанное им, было огромно. И тем не менее он сохранил свой внутренний стержень, остался самим собой. Это сразу заметили окружающие его люди.
«Зильбер вернулся к нам, немало не надломлен, не подавлен и почти не говорил о происшедшем, – вспоминал его сотрудник Н.В. Нарциссов. – Новых идей у него было так много, что всё остальное отошло на задний план» [24; 8].
Действительно, Лев Александрович сразу же с головой уходит в работу.
В 1939– 1940 гг. он создаёт новую вирусологическую лабораторию в Центральном институте эпидемиологии и микробиологии Наркомздрава РСФСР (впоследствии это – ИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи АМН СССР). Здесь же он возглавляет отдел иммунологии и вирусологии злокачественных опухолей. Т.е. Лев Александрович вернулся к проблематике вирусного происхождения рака.
Но не была поставлена точка в исследовании клещевого энцефалита.
Коллективная статья по энцефалиту, о которой упоминалось, вышла в свет в 1938 году. Однако среди её авторов не значились фамилии Л.А. Зильбера и А.Д. Шеболдаваевой, попавших под следствие, а затем осуждённых к заключению в лагерях23. Понятно, что учёные-авторы статьи были здесь ни причём: фамилии Зильбера и Шеболдаевой были убраны по распоряжению властных инстанций, и исправить эту несправедливость в тот момент возможности не было.
Лев Александрович, выйдя из заключения, не стал терять время на восстановление справедливости и опубликовал ставшую классической, основополагающей работу по клещевому энцефалиту «Весенний (весенне-летний) эпидемический клещевой энцефалит». Эта большая статья увидела свет в журнале «Архив биологических наук» (1939 г., т. 56(2)).
Также в журнале «Современная медицина» (1939 г., № 23) выходит его статья «Весенний (весенне-летний) эндемический клещевой энцефалит».
Лев Александрович работает над монографией «Эпидемические энцефалиты». В декабре работа завершена, книга сдаётся в набор. Монография должна увидеть свет в 1940 году. Но…
Летом 1940 года Л.А. Зильбера снова арестовывают. То ли Музыченко не унимался и продолжал «строчить» доносы на Зильбера, то ли следственные органы сами «проявили инициативу» и сочли, что освободили учёного напрасно. Так или иначе, но Лев Александрович опять попадает на Лубянку. В ходе следствия ему вновь предъявляют обвинения в измене родине, диверсиях и шпионаже. И, как и прежде, Л.А. Зильбер категорически всё отрицает. Конечно же, показания «выбивают»: Льва Александровича несколько раз в ходе следствия помещают в Сухановскую пыточную тюрьму.
Его сокамерник по Лубянской тюрьме в конце 1940 года Меньшиков позже вспоминал:
«…Вскоре нас повели в баню, я увидел его спину и понял без слов. Профессор попал в камеру прямо из пыточного отделения Сухановской тюрьмы, у него были перебиты рёбра, сломана левая рука, и я тёр ему спину, осторожно обходя свежие рубцы. Но иногда увлекался, задевал, и однажды, поймав мой взгляд, он сказал негромко: “Очень били”» [35; 2].
Но результат пыток оказался нулевым – Лев Александрович ничего не подписал, не признал никаких обвинений, никого не оговорил.
Очевидно, и в этот раз данный факт спас ему жизнь. Расстрельного приговора вновь не последовало, но снова дали десять лет.
Отбывать наказание отправили на Север, за Полярный круг, в ПечорЛАГ.
Как говорил сам Л.А. Зильбер, «это было самое тяжёлое заключение – едва не погиб от истощения и непосильного труда» [24; 8].
Его спас случай. У жены начальника лагеря были тяжёлые роды, и Лев Александрович удачно принял их: и мать, и ребёнок были живы и здоровы.
После этого Льва Александровича вскоре сделали начальником лагерного лазарета. Условия жизни стали значительно легче.
Учёный организует при лазарете небольшую лабораторию. Первой работой, выполненной в ней, стало получение дрожжей с использованием для этой цели оленьего мха (ягеля). Для чего нужны были эти дрожжи? Дело в том, что многие заключённые страдали пеллагрой – тотальным авитаминозом. Обычно заболевание пеллагрой оканчивалось смертью заболевшего.
«…Я узнал, – пишет Л.А. Зильбер, – что олений мох – ягель – содержит много углеводов, и организовал довольно значительное производство дрожжей, используя обработанный соответствующим образом олений мох в качестве среды для их размножения. Дрожжи были очень важным продуктом в наших условиях, главным образом, как источник витаминов. При подкожном введении они оказывали весьма благоприятное действие на тяжёлые авитаминозы и дистрофии, в которых не было недостатка. Мои дрожжи спасли немало жизней» [24; 9].
Лев Александрович даже разработал на основе дрожжей препарат антипеллигрин.
В ПечорЛАГе дрожжи и антипеллигрин спасли свыше 600 человек. За это заключённому Зильберу была объявлена благодарность от администрации лагеря.
Более того, Льву Александровичу разрешили получить авторское свидетельство на антипеллигрин. Заявителем изобретения стал Народный комиссариат внутренних дел СССР.
Пошло лагерное начальство на встречу Л.А. Зильберу и тогда, когда он выступил с предложением организовать конференцию лагерных врачей. На ней учёный поделился с коллегами своим способом борьбы с пеллагрой.
В маленькой лаборатории при лазарете Л.А. Зильбер также научился добывать спирт из ягеля. И хотя изобретение это было весьма ценно, ведь оно позволяло не тратить на производство спирта дефицитные в годы войны зерно и картофель, но первоначально широкого хода ему администрация ПечорЛАГа не дала (или не заинтересовались «выше»), и использовалось оно какое-то время исключительно в «местных» масштабах, т.е. в лагере, где сидел сам изобретатель.
Можно только удивляться и восхищаться тому, что, находясь в лагере, на базе маленькой, «самиздатом» оборудованной лаборатории при лагерном лазарете Лев Александрович вернулся к своей работе по вирусной теории происхождения раковых опухолей. «Было много времени, чтобы думать и планировать во всех деталях каждый опыт», – рассказывал он после освобождения [28; 23].
Однако для опытов нужны были лабораторные животные. Но где их было взять? Ясно, что никто Зильберу «классических» лабораторных животных (белых мышей и крыс, морских свинок, кроликов и обезьян) доставлять не стал бы. Учёный нашёл выход. Он решил использовать обыкновенных домашних и полевых мышей, которых за табак для него ловили заключённые. Правда, «на них было трудно экспериментировать», – признавался Лев Александрович.
История с антипеллигрином и конференцией лагерных врачей привлекла к Зильберу внимание в центральном аппарате НКВД. Очевидно, там решили, что подобного заключённого нужно использовать с большей эффективностью, говоря другими словами – по специальности.
Л.А. Зильбер был этапирован в Москву. Начальник лагеря, явно расположенный к учёному уже после случая с принятием тяжёлых родов у его жены (а тут ещё эти истории с дрожжами-антипеллигрином, спиртом из ягеля и конференцией лагерных врачей), намекнул Льву Александровичу, что, возможно, речь идёт о пересмотре дела.
Поэтому в Москву Л.А. Зильбер ехал с надеждой на освобождение. Однако сбыться ей было не суждено.
Его доставили под Москву, в загорский тюремный институт особого назначения (т.е. в так называемую «шарашку»), и здесь предложили работать в лаборатории, занимающейся разработкой бактериологического оружия.
Л.А. Зильбер наотрез отказался. Вениамин Каверин в воспоминаниях пишет: «…Он в её возможности (т.е. бактериологической войны – И.Д.) не верил, утверждая, что, если бы она была возможна, человечество давно освободилось бы от крыс и других вредных животных и насекомых. Но причина, без сомнения, была и другая, более глубокая: он не хотел участвовать в бактериологической войне, если бы она оказалась возможной»24 [28; 22].
Предложение повторялось ещё несколько раз, но результат оставался неизменен – учёный категорически отказывался принимать участие в подобной работе.
Убеждали, угрожали. Но на сей раз уже не били. Один раз для придания весомости убеждению посадили на две недели в камеру с уголовниками. Результат оказался противоположным ожидаемому: уголовники не только не испугали Зильбера, но, наоборот, он стал в камере «паханом», побив предыдущего «пахана». В камере был установлен человеческий, а не «уркаганский» порядок.
В конце концов, начальство махнуло рукой и, вспомнив об открытом Л.А. Зильбером способе производства спирта из ягеля, направило его в другую «шарашку» – «химическую».
Здесь, помимо «основной деятельности», т.е. работ по производству спирта из оленьего мха, Лев Александрович получил возможность возобновить исследования по вирусной теории рака. Им была организована лаборатория, в которой ему разрешали задерживаться допоздна. Интересная деталь – оборудование для оснащения лаборатории, по его собственному утверждению, он получил «с воли», из института, в котором работал до заключения (надо полагать, из ЦИЭМ Наркомздрава РСФСР). Оттуда же ему периодически доставляли научную литературу, в том числе иностранную [28; 23]. Факт, достойный удивления. Однако, если учесть, что об освобождении Л.А. Зильбера ходатайствовал нарком здравоохранения, то станет ясна и эта доставка оборудования и литературы, и уверенность начальника лагеря на Печоре, где учёный отбывал свой срок и откуда его этапировали в Москву, что его дело будут пересматривать. Очевидно, после ходатайства наркома вопрос о пересмотре дела действительно вставал, но, в конечном итоге, в пересмотре было отказано.
Тем не менее в «шарашке» Л.А. Зильберу создали весьма благоприятные условия для его работы как микробиолога и иммунолога. «…К моим услугам было всё необходимое, – пишет Лев Александрович в воспоминаниях. – Работа быстро наладилась и развивалась успешно. Это было громадное наслаждение оставаться одному в лаборатории, читать, думать, экспериментировать, забывать о всём остальном» [23; 5].
Появились весьма значимые результаты исследований, которые Л.А. Зильбер захотел передать «на волю» с целью их публикации (пусть даже под вымышленным именем).
Вопрос рассматривал некий высокий чин из центрального аппарата НКВД, которого Лев Александрович в воспоминаниях называет комиссаром 2-го ранга25 [23; 1].
Этот комиссар отказал учёному, заявив, что «сейчас война и никого ваш рак не интересует» [23; 1]. При этом энкавэдэшник ещё и поёрничал: «Что же, может быть опубликовать это ваше “произведение” в “Известиях” или “Правде”?» [23; 2].
После провала попытки передать результаты своих исследований для публикации в научных изданиях законным путём, т.е. с разрешения начальства, Лев Александрович пытается сделать это тайно. Риск? Безусловно. И огромный. Но Зильбер всё-таки решается. Что двигало им? Он сам так объясняет это:
«Припадки грудной жабы участились. Не хотелось больше работать. Сознание, что всё сделанное никогда не увидит света, было мучительным. Учёный не может работать только “для себя”. Во многих случаях работу двигает своеобразное “любопытство”. Очень интересно узнать, как природа “сочинила” тот или другой процесс, каков его механизм. Но потребность сообщить познанное людям выше и сильнее этого “любопытства”…»26 [23; 5].
В лаборатории нашлась тонкая папиросная бумага отличного качества. На ней оказалось возможным мельчайшим шрифтом писать карандашом. Лев Александрович написал на этой бумаге статью «Вирусная теория происхождения рака». На одном из свиданий с Зинаидой Виссарионовной Ермольевой и Вениамином Кавериным ему удалось скрытно передать статью, свёрнутую в пакетик размером со среднюю пуговицу, Ермольевой.
Как рассказывает сам Лев Александрович, на следующем свидании он рассчитывал передать Зинаиде Виссарионовне точно таким же образом написанную записку, в которой просил бы её опубликовать статью независимо от его участи, под любой вымышленной фамилией [23; 7 – 8], [28; 30].
Но вряд ли что-нибудь из этого получилось бы.
Вениамин Каверин вспоминает:
«Надежда была сумасбродная, фантастическая, продиктованная отчаянием. Само содержание статьи отталкивало своей новизной, своим несходством с теми направлениями, которые в ту пору были приняты в онкологии. Никто не стал бы печатать такую статью, подписанную никому неизвестной фамилией» [28; 30].
К счастью, придумывать ухищрения с целью публикации статьи о вирусном происхождении раковых опухолей не пришлось – довольно скоро после описанного свидания Лев Александрович оказался на свободе и получил возможность опубликовать статью обычным порядком, под своим именем.
Сработали многочисленные хлопоты родственников, друзей и коллег. За три с половиной года третьего заключения Льва Александровича они составили вполне «критическую массу». Но «каплей», запустившей «цепную реакцию», поведшей к освобождению учёного, стало ещё одно письмо (адресованное на сей раз лично Сталину), «организованное» З.В. Ермольевой. Зинаида Виссарионовна собрала под этим письмом подписи ведущих учёных страны, среди которых были академик Н.Ф. Гамалея, главный хирург Красной Армии Н.Н. Бурденко, вице-президент Академии медицинских наук СССР Л.А. Орбели, академик В. Энгельгард, М.П. Чумаков, В.Д. Соловьёв и другие. Конечно же, подписала письмо и сама З.В. Ермольева – также известный в стране учёный (в том числе известный и самому Сталину).
Письмо, подписанное виднейшими учёными страны, не могло не привлечь внимания вождя. Но всё-таки Зинаида Виссарионовна решила подстраховаться: на конверте письма значилось имя одного Н.Н. Бурденко. Расчёт был прост – в военное время Сталин обязательно ознакомится с письмом главного хирурга РККА.
Очевидно, так и произошло. Во всяком случае, реакция на письмо была молниеносной: письмо было передано в Кремль в 10 часов утра 21 марта, и уже в тот же день Лев Александрович был освобождён (точнее, в самом начале следующего дня, в первом часу ночи, как вспоминает сам Л.А. Зильбер).
Сама «скорость» освобождения и «зелёный свет», который получил Л.А. Зильбер для своей научной деятельности сразу после освобождения, на наш взгляд, несомненно, указывают на то, что Сталин лично «поучаствовал» в судьбе учёного.
Однако есть и другая версия, излагаемая некоторыми «демократическими» авторами (см., например, М. Шифрин «Сто рассказов из истории медицины», стр. 434). Они полагают, что Сталин никаких распоряжений об освобождении Л.А. Зильбера не отдавал, а сделал это Берия или другие высокопоставленные работники НКВД. «Нет никаких следов распоряжения Сталина ни в устной, ни в письменной форме», – пишет М. Шифрин. Уж не знаем, какие следы устного распоряжения надеется найти этот автор да ещё спустя более чем 75 лет после события. Сомневаемся также, что он основательно поработал в архивах, чтобы так однозначно заявлять об отсутствии распоряжения письменного.
Но, впрочем, сейчас не об этом. Версия о «гэбистской инициативе» в освобождении Л.А. Зильбера исходит от самого Льва Александровича. Вот что он писал в своих воспоминаниях:
«Казалось ясным, что я освобождён по прямому распоряжению И.В. Сталина, документы об освобождении, по-видимому, не успели ещё приготовить.
На следующий день мне привезли все мои вещи. Они даже не подвергались осмотру. Самое важное, что в полном порядке были все мои записи, протоколы опытов, копии заявлений.
27 марта мне привезли справку об освобождении, из коей явствовало, что я освобождён решением Особого Совещания от 25 марта(!).
Всё это укрепило меня в мысли, что И.В. Сталин лично распорядился о моём освобождении. Много лет спустя я узнал, что это не так. Письмо столь видных учёных произвело переполох в руководящих кругах тогдашнего КГБ. Было, вероятно, не ясно, как будет реагировать на него И.В. Сталин. А вдруг и им достанется. Решили освободить и не передавать письмо Сталину. Эту версию сообщил один из военных прокуроров, близко знакомый с моим делом» [23; 14].
Честно говоря, от версии этого военного прокурора очень «отдаёт» «кукурузными пачатками». Она примерно из той же «оперы», что Сталин командовал армией в годы войны, знакомясь с обстановкой «по глобусу». Лев Александрович охотно принял её и воспроизвёл в своих мемуарах по той простой причине, что любить Сталина и НКВД ему было особо не за что.
Казалось бы, подтверждает «гэбистскую версию» освобождения Л.А. Зильбера и З.В. Ермольева, тоже считавшая, что учёного выпустили по личному распоряжению Берии, а не Сталина. Её, мол, информировал один высокопоставленный работник НКВД, чью дочь вылечили пенициллином [75; 434].
Конечно, крайне сомнительно, чтобы письмо, адресованное Верховному Главнокомандующему главным хирургом Красной Армии в военное время «затерялось» в «коридорах НКВД». Стал бы тот же Берия пускаться во все тяжкие и играть в подобные рискованные игры из-за какого-то Зильбера? Что, это разве был единичный случай? Разве за одного Зильбера просили вождя довольно известные в стране люди?
К тому же не забудем – письмо напрямую передали в Кремль, а не на Лубянку. А в Кремле ведь работает секретариат вождя. Охрана вождя, возглавляемая генералом Власиком, формально подчинена Берии, но на деле весьма автономна.
Берии пришлось бы действовать в полном смысле «по-шпионски», похищая письмо из Кремля.
И какое письмо? Ходатайство за арестованного учёного?
Стоит овчинка выделки?
На наш взгляд, сценарий маловероятный.
В большей степени можно согласиться с «демократическими» авторами в отношении сомнительности другого факта, который связан с освобождением Льва Александровича. Впрочем, многие «демократические» авторы этот факт тоже повторяют без тени сомнения в его истинности.
Сначала предоставим слово уже цитировавшемуся здесь М.Шифрину:
«В литературе и документальных фильмах о Зильбере утвердилось неизвестно откуда взявшееся мнение, будто он был освобождён по приказу Сталина и великий вождь даже принёс Льву Александровичу свои извинения» [75; 434].
Нас в данном случае интересует утверждение, выделенное в тексте цитаты жирным шрифтом, т.е. о необоснованности версии об имевшем месте свидании между Сталиным и Зильбером вскоре после освобождения последнего и о том, что Сталин якобы принёс учёному извинения за допущенную по отношению к нему несправедливость.
В самом деле, например, ещё один «демократический» автор Е. Юлиш излагает дело так:
«Сталин, узнав о злоключениях этого выдающегося человека, извинился перед ним за несправедливость и собственноручно вручил ему Сталинскую премию – высшую награду для учёных того времени (какое фарисейство, какая низость – ломать людей, их судьбы, жизнь, а потом извиняться и награждать!)» [77; 14].
Лично мы не видим ничего низкого и фарисейского ни в извинениях перед человеком за совершённую по отношению к нему со стороны государственных органов несправедливость, ни в награждении его за имевшие место заслуги. Может быть, по мнению г-на Юлиша, извиняться было не надо, да и исправлять допущенные ошибки было не надо. Т.е., другими словами, пусть бы Зильбер продолжал сидеть по лагерям и «шарашкам». Только напомним этому автору, что приговорён Зильбер был к десяти годам, а на дворе стоял 1944 год, причём в самом его начале. И получалось, что сидеть Льву Александровичу оставалось ещё шесть с половиной лет. И при его состоянии здоровья до конца срока он мог и не дотянуть. Так что мы с г-ном Юлишем не согласны.
Но вопрос сейчас в другом. М. Шифрин вполне справедливо отмечает: «…Ни о каких “извинениях” Зильбер не рассказывал. Скрывать подобный факт он при своём громадном честолюбии не стал бы, особенно в последние десять лет, т.е. после ХХ съезда» [75; 434].
Действительно, в воспоминаниях о свидании со Сталиным Лев Александрович ничего не говорит. И хотя аргумент М. Шифрина о ХХ съезде выглядит весьма спорным (как раз после этого съезда «бравировать» своими встречами с вождём стало уже «немодно»), но всё же нельзя не признать, что версия о встрече Сталина и Зильбера выглядит весьма легендарной. Письменных свидетельств, т.е. документов, подтверждающих то, что она состоялась, пока не известно. Очень неплохо бы было проверить, например, журналы посещений, которые велись в приёмной Сталина, за 1944 – 1946 годы. Они с большой вероятностью поставили бы точку в этом вопросе.
Но как бы там ни было (были личное свидание и «очные» извинения или не были), но свои извинения Сталин фактически принёс делами.
Льву Александровичу через несколько дней после освобождения вернули его квартиру (по счастью, в ней вообще никто не жил). Он был восстановлен на старом рабочем месте, т.е. вновь возглавил отдел вирусологии в Центральном институте эпидемиологии и микробиологии. Вскоре он организовал в этом институте первый в стране отдел общей иммунологии [76; 2].
В 1945 году на базе отдела вирусологии и отдела общей иммунологии в ЦИЭМ создаётся отдел вирусологии и иммунологии опухолей, во главе которого становится Л.А. Зильбер. Т.е у Льва Александровича теперь появляется вполне специализированная база для продолжения работ по вирусной теории происхождения рака.
17 января 1945 года по инициативе наркома здравоохранения СССР в «известиях» публикуется статья Л.А. Зильбера «Проблема рака», в которой учёный в популярной форме изложил свою вирусную теорию происхождения злокачественных опухолей27.



