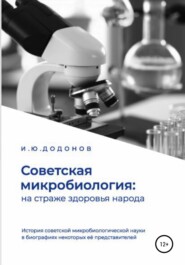 Полная версия
Полная версияСоветская микробиология: на страже здоровья народа. История советской микробиологической науки в биографиях некоторых её представителей
А вторая причина в полной мере относилась к личности Льва и заключалась в том, что, как ему тогда казалось, ему была “не показана” семейная жизнь. Пожалуй, о нём можно сказать, что он любил всех женщин на свете или, по крайней мере, жалел, что они, все до единой, не принадлежат ему – черта, характерная для людей холодных и страстных. Но Лев был сложнее. В нём соединялись и привязчивость, и ирония, и способность подняться над своей “холодной” силой во имя человечности и добра.
Однако в начале тридцатых годов неравнозначность отношений привела к тому, что Лев переехал из Москвы в Баку. Этому предшествовали счастливые события – поездка во Францию, где молодые прекрасно провели отпуск, успешно работая в Институте Пастера.
Потом начались ссоры, связанные, как это ни парадоксально, с нормами поведения в науке. У Льва всегда была нападающая позиция, у Зины – умиротворяющая, и возражения, не высказанные в докладах и на конференциях, разгорались дома. Было ли это соперничеством? Не думаю, хотя честолюбие в известной мере играло роль в расхолаживании отношений» [28; 2 – 3].
Как бы там ни было, но в Баку в 1929 году, где Л.А. Зильбер получил должность директора Азербайджанского института микробиологии и одновременно должность профессора и заведующего кафедрой микробиологии медицинского факультета Бакинского университета, он уехал один, без З.В. Ермольевой, что фактически и означало конец их семейной жизни.
«Тем не менее переезд Льва в Баку был подсказан и другими обстоятельствами, не имевшими почти ничего общего с его семейными делами», – пишет В.А. Каверин.
Точнее будет сказать, что именно они, эти обстоятельства, и были главными причинами, обусловившими переезд Льва Александровича из Москвы в Баку, а переезд этот лишь ускорил крах брака с Зинаидой Виссарионовной Ермольевой.
Лучше всего о данных обстоятельствах говорит сам Л.А. Зильбер:
«Без особого сожаления я оставил в 1929 году Москву, где заведовал отделением в Институте микробиологии Наркомздрава, директором которого был мой учитель, профессор Владимир Александрович Барыкин. Уже восемь лет я работал в этом институте. Накопились знания и опыт. Хотелось испытать свои силы на изучении большой, сложной проблемы. Идей было много, а возможностей мало. Всё отделение состояло из двух человек: меня и моей сотрудницы Елены Ивановны Воструховой.
Разладились и хорошие, дружеские в течение многих лет отношения с В.А. Барыкиным. Его теория иммунитета получала чувствительные удары со всех сторон. В моих экспериментах, которые вначале подтверждали её, появлялось всё большее количество опровергающих её данных. Но В.А. не соглашался с ними, и они не печатались.
Эти и многие другие обстоятельства и побудили меня принять приглашение занять должность директора Азербайджанского института микробиологии. Одновременно я был выбран на кафедру микробиологии Медицинского института» [22; 1].
Итак, главные причины отъезда в Баку – научные разногласия с учителем и желание получить возможность для масштабной самостоятельной работы.
Несколько слов об отходе Л.А. Зильбера от физико-химической теории иммунитете В.А. Барыкина. Да, эта теория всё больше проигрывала в состязании с химическим направлением в иммунологии, сам Л.А. Зильбер получал всё новые и новые результаты, противоречащие ей. Но как же он стал объяснять те явления, которые раньше, по его мнению, подтверждали иммунологическую концепцию В.А. Барыкина, в частности параагглютинацию и параиммунитет?
Уже примерно к середине 20-х годов Л.А. Зильбер начинает видеть причину этих явлений во взаимном влиянии бактерий при совместном росте in vivo или in vitro (в жизни или в пробирке).
Он разрабатывает остроумную методику для совместного выращивания микроорганизмов in vitro, проводит трудоёмкие и тонкие опыты по совместному культивированию сальмонелл и протея с целью изменить антигенные свойства протея. Эти опыты дали, однако, скромные результаты, хотя Льву Александровичу и удалось временно изменить антигенную структуру протея, который стал агглютинироваться сывороткой против брюшнотифозных микробов.
В 1928 году Л.А. Зильбер выпускает свою первую научную монографию – «Параиммунитет». Интересная, превосходно написанная (как и все работы Л.А. Зильбера) она, по сути, ознаменовала его полный отход от физико-химической концепции иммунитета В.А. Барыкина. В ней возможной причиной параиммунитета называлось именно взаимное влияние микроорганизмов друг на друга. Учёный рассмотрел в работе все имеющиеся в то время данные по этому влиянию, дал глубокий критический анализ возможных его механизмов. И хотя, в итоге, он пришёл к выводу об отсутствии достоверных объяснений параиммунитета, был склонен видеть в нём лишь общее свойство некоего биологического резонанса, механизм которого неизвестен, но научный разрыв с В.А. Барыкиным стал совершенно очевиден.
Здесь следует добавить, что, безусловно, выводы монографии «Параиммунитет» не могли удовлетворить самого Л.А. Зильбера, ибо носили явно предварительный, незаконченный характер. Поэтому несколько лет спустя Лев Александрович вернётся к данной проблеме, но уже в рамках вирусологии, в которой он станет специализироваться (но об этом несколько ниже).
А пока Л.А. Зильбер отправляется в Баку, где, казалось бы, его ждут блестящие научные перспективы, учитывая те должности, которые ему предстояло занять.
Однако не можем удержаться от того, чтобы не привести мнение Д.К. Заболотного по поводу указанных назначений, которое он высказал Л.А. Зильберу (по воспоминаниям Льва Александровича):
«Я часто встречался с ним (Д.К. Заболотным – И.Д.) при своих поездках в Ленинград и на различных совещаниях. Он очень дружески относился ко мне и подарил два больших тома – отчёт о маньчжурской чуме. Я советовался с ним, ехать ли мне в Баку. Он сказал:
– Всё у вас там будет, резонанса не будет. А без резонанса трудно работать. Никто не станет возражать, спорить, – он улыбнулся. – А ведь поспорить-то вы любите.
Не раз я потом вспоминал его слова»19 [22; 3].
Впрочем, не только слова Даниила Кирилловича пришлось вспоминать Льву Александровичу в Азербайджане, но и подаренная «старым чумагоном» книга по чуме очень скоро пригодилась.
В самом начале 1930 года в городке Гадрут, что в Нагорном Карабахе, вспыхнула эпидемия чумы.
Как выяснилось впоследствии, первым заболел местный семнадцатилетний юноша, застреливший за несколько дней до этого какого-то грызуна и снявший с него шкурку. Первоначально у юноши была диагностирована простая пневмония, и он был госпитализирован в местную больницу, в общую палату. Вскоре заболели лежавшие с ним больные и медперсонал. Среди заболевших оказался и врач Худяков. Только после этого уже заболевший Худяков и военврач стоявшей неподалёку от Гадрута воинской части Марголин поняли, что имеют дело с лёгочной чумой, приняли первые меры для предотвращения распространения болезни и сообщили в Баку о случившемся. До приезда санитарно-эпидемического отряда из столицы Азербайджана борьбу с эпидемией в Гадруте возглавил военврач Марголин. Он также заразился чумой и вскоре умер.
Руководство Азербайджана и Наркомат здравоохранения республики поручили возглавить борьбу со вспышкой чумы директору Института микробиологии, т.е. Льву Александровичу Зильберу.
Прибывший в Гадрут бактериологический отряд под руководством Л.А. Зильбера разместился в местной школе, т.к. больница была очагом инфекции.
О дальнейшем сам Лев Александрович вспоминал следующее:
«Уже в первые дни выяснились странные обстоятельства. Чума была лёгочной, форма инфекции – капельная, её можно было ликвидировать сразу, нужно только прервать контакт больного со здоровыми и изолировать тех, кто уже был в контакте. Всё это было быстро сделано… Однако возник второй и третий очаг» [24; 4].
«Как-то поздно вечером ко мне на квартиру зашёл уполномоченный НКВД20. Я жил в небольшой комнатке недалеко от школы.
– У меня к вам серьёзный разговор, профессор, – сказал он, садясь по моему приглашению на единственный стул. – Дело в следующем. У нас получены весьма достоверные сведения, что здесь орудуют диверсанты, переброшенные из-за рубежа. Они вырывают чумные трупы, вырезают сердце и печень и этими кусочками распространяют заразу. Эти сведения совершенно точны, – сказал он ещё раз, заметив недоверие на моём лице.
– Вы знаете, товарищ, – отвечал я, – чумной микроб очень легко выращивается на питательных средах. За несколько дней можно получить в лаборатории такое громадное количество этих микробов, что их хватило бы для заражения сотен тысяч людей. Зачем же диверсантам вырезать органы из трупов? Вероятно, те, кто послал их, могли бы иметь чумные культуры.
– Не стоит обсуждать эти вопросы, необходимо убедиться, целы ли уже захороненные трупы. Можете вы немедленно организовать вскрытие могил и осмотр всех захоронений? Придётся делать это тайно, ночью, потому что население будет считать это осквернением могил, и могут начаться волнения» [22; 7].
«…И вот ночью при свете факелов мы вскрывали могилы умерших от чумы, и представьте моё не только удивление, но просто ужас, когда в третьей или четвёртой могиле у трупа оказалась отрезанной голова, нет печени, селезёнки, сердца. Попалось ещё несколько таких трупов. Что это могло значить?
Население в этом районе отсталое, религиозное, контакт труден… Думать о диверсии не приходилось, любой диверсант мог иметь культуру чумной бациллы, если бы хотел использовать её во зло…» [24; 4].
«…Диверсанты, которые вскрывали трупы и вырезали сердце и печень, неминуемо должны были сами заразиться чумой, если только они не были бактериологами или врачами, знающими, как предохранить себя от заражения. […]
Но никаких диверсантов поймать не удалось.
Были проверены списки всех заболевших, чтобы выяснить, нет ли среди них посторонних, не живущих в Гадруте людей. Однако все заболевшие были жителями Гадрута. То же оказалось и в других селениях, где были заболевания.
Что за таинственная история!
Разгадка пришла совершенно неожиданно» [22; 8, 10].
«…В одном из аулов нашёлся человек, который немножко говорил по-русски и рассказал мне, что в их краях существует легенда: если начинают умирать семьями, значит, первый умерший жив. Надо привести на его могилу коня, и если конь будет есть овёс, – а какой же конь не будет есть овёс! – умерший жив, надо отрезать его голову, а сердце и печень дать родственникам. А там все между собой в родстве.
…Мне сразу стала ясна эта печальная картина» [24; 4].
«Это было страшно. Страшно не только своей необыкновенностью, но и тяжелейшими последствиями. Чумной микроб, высушенный в тканях, может годами оставаться живым. Если кусочки чумных органов остались у населения, то как их найти, чтобы обезвредить? И как ликвидировать подобную вспышку? Ничего подобного не знала история чумных эпидемий во всём мире. Ни в одном учебнике не было нужных рецептов.
Я не спал всю ночь. Одни планы сменялись другими, критиковались, отвергались. Под утро наметилась система мер, которая показалась целесообразной. Я телеграфировал об этих мерах наркому здравоохранения. Через несколько часов я был вызван телеграммой в Баку на заседание Совнаркома для доклада» [22; 9].
Л.А. Зильбером был предложен, а СНК Азербайджана одобрен следующий комплекс мер:
1) Весь район заболеваний должен быть оцеплен войсками, чтобы воспрепятствовать выходу из района кого-либо, кто мог бы унести кусочки заражённых чумой органов.
2) Все трупы должны быть сожжены.
3) Для всего населения района должны быть присланы утеплённые палатки и полный комплект одежды, начиная с белья и кончая обувью и верхней одеждой.
4) Всё население должно быть раздето донага, переодето в казённую одежду и переведено из своих жилищ в палатки. Это должно быть сделано под строгим контролем, чтобы никто не мог захватить в новую одежду кусочки чумных тканей, если они имеются. Вся собственная одежда должна остаться в жилищах.
5) При этом переселении должны строго соблюдаться правила изоляции лиц первичного и вторичного контакта с чумными больными.
6) В район эпидемии необходимо направить химические команды, которые должны подвергнуть тщательной дезинфекции хлорпикрином все строения района. Хлорпикрин – одно из лучших дезинфицирующих средств при чуме: он убивает чумного микроба, блох и грызунов, уничтожая, таким образом, всю цепь, по которой инфекция может попасть к человеку.
7) В район эпидемии должны быть присланы врачебно-питательные отряды.
Эти меры были осуществлены в полном объёме, быстро и решительно. В итоге, через две недели с эпидемией было покончено.
Окончание борьбы с эпидемий ознаменовалось для Зильбера двумя событиями.
Первое – конфликт с наркомом здравоохранения Азербайджана. Возник он из-за того, что Лев Александрович отказался сжигать гадрутскую больницу, ставшую очагом инфекции, чего настойчиво требовал нарком.
«Сжигать больницу было совершенно не нужно, – поясняет в своих воспоминаниях Лев Александрович. – Каменное, добротно построенное здание было трижды продезинфицировано, в том числе хлорпикрином, и не представляло решительно никакой опасности» [22; 11].
Л.А. Зильбер сообщил об этом наркому, но тот повторил категорический приказ: «Сжечь!» Последовал обмен ещё несколькими телеграммами, и поскольку нарком оставался непреклонен, то Л.А. Зильбер попросту занял здание больницы со своим бакотрядом, чем спас его от уничтожения. «Сжечь хорошее здание больницы, столь нужной населению, так, зазря, я просто не мог. Когда ещё им построят новое!» – рассказывал он впоследствии.
Не исключено, что именно подобное «своеволие», не возымевшее, казалось бы, никаких последствий, сыграло затем с учёным «злую шутку».
Второе событие – болезнь Льва Александровича. Заболела и бактериолог санитарно-эпидемического отряда, одна из ближайших сотрудниц Л.А. Зильбера (в воспоминаниях он называет её Верой Николаевной, не упоминая фамилии). Были все основания предполагать, что учёные заразились лёгочной чумой при ликвидации эпидемии. Вагон, где они находились, отцепили от состава, окружили военными. К счастью, оказалось, что оба заболели туляремией.
В Баку Л.А. Зильбер был встречен как герой. Нарком здравоохранения Азербайджана представил его к ордену Красного Знамени. Также Лев Александрович стал кандидатом в члены АзЦИКа.
И всё-таки причина эпидемической вспышки в Гадрутском районе оставалась невыясненной. Руководство республики и местное ГПУ продолжали настаивать на занесении чумы извне, из-за границы, т.е. на версии диверсионного акта.
Л.А. Зильбер не без основания сомневался в этой версии.
Пока он находился «в лучах славы», ему удалось просмотреть в бакинских библиотеках и архивах медицинские журналы, отчёты больниц, медицинских обществ и санитарных врачей за последние пятьдесят лет. Оказалось, что в соседних с Гадрутом районах несколько раз до революции имели место чумные вспышки, т.е. для данных районов чума была эндемична. За давностью лет об этом попросту позабыли. Таким образом, вспышка в Гадруте могла быть связана с массовой миграцией грызунов из соседних районов, имевшей место в том году. Причиной миграции послужило большое количество зерновых, оставленных на полях в районе Гадрута (их попросту не успели полностью убрать). Эти-то грызуны, являющиеся, как известно, «природными резервуарами» чумы, и занесли болезнь в Гадрут. Ведь первым заболел юноша, застреливший какого-то грызуна и снявший с него шкурку.
Республиканский Наркомат здравоохранения согласился, в конечном итоге, с доводами Л.А. Зильбера. В Гадруте была создана специальная наблюдательная станция, и вспышек чумы в этом районе больше уже не было.
Тем нелепее выглядит последовавший вдруг арест Льва Александровича. Его обвинили в распространении чумы! Чем было вызвано такое обвинение? Ведь он, Зильбер, чуму победил, установил причины возникновения эпидемии и загадочного распространения болезни.
Уж не случай ли с не уничтоженной в Гадруте больницей сыграл роковую роль? ГПУ, «прошляпившее» диверсантов, на деятельности которых оно продолжало настаивать, решило «отыграться» на «пособнике» диверсантов, который не захотел уничтожить чумной очаг? А почему не захотел? А потому что намеревался распространять чуму и дальше.
Лев Александрович находился под следствием в Баку три месяца. Никаких признательных показаний он не подписывал.
Наконец, на четвёртый месяц учёного этапировали в Москву. Здесь разобрались довольно быстро: Зильбер был выпущен на свободу, а все обвинения с него сняты. На протяжении нескольких последующих лет Лев Александрович работал без каких-либо ограничений, получил докторскую степень, занимал ответственные должности, выполнял очень важные поручения. Данные факты говорят о том, что все подозрения в «диверсионной деятельности» с него были сняты. И сняли их вполне законным путём, т.е. московские следователи госбезопасности сделали это, ознакомившись с материалами дела и найдя обвинения, предъявленные Л.А. Зильберу, абсолютно безосновательными.
Тем не менее в ряде современных «демократических» (т.е. антисоветских) писаний можно прочесть следующую версию этого освобождения:
«Его спасло заступничество Максима Горького. К знаменитому писателю с письмом обратился младший брат Льва Зильбера писатель Вениамин Каверин» [24; 6].
Вот так категорически и однозначно: мол, никакой законности в стране не было, только одно заступничество знаменитостей и могло спасти.
Что ж? Дадим слово самому В.А. Каверину. Предварительно заметим, что Вениамин Александрович описал эту ситуацию в книге своих воспоминаний «Эпилог» (глава «Старший брат»). Книга создавалась писателем в самом конце 80-х годов прошлого века, и нахваливать Советскую власть у него уже надобности не было («ветры перемен»). И он, собственно, уже не нахваливал. Итак:
«Наконец, И.А. Груздев,.. приехавший в Москву по предложению Горького (он работал над его биографией), предложил мне передать письмо и поговорить о брате.
Но неутешительным показался мне его рассказ о том, как это произошло. Горький выслушал Груздева и, сказав: “Трудное дело. Ох, трудное дело!” – с нераспечатанным письмом в руке пошёл отдыхать.
Так и не знаю, помог ли он освобождению брата, но его выпустили через четыре месяца – невероятный случай! Хотя, возможно, помогли энергичные хлопоты Зины Ермольевой, которая, не помня незаслуженных обид, не теряя ни минуты, взялась за тяжкую, подчас унизительную работу, состоявшую из ежедневных писем, ходатайств, телефонных звонков и совещаний с друзьями» [28; 5 – 6].
Так-то… Сам В. Каверин не знает, помог ли в освобождении брата Горький, или хлопоты З.В. Ермольевой сыграли роль, а может быть, не то и не другое. Но современные «правдюки» «знают всё» (ниже мы увидим, что они и про Зинаиду Виссарионовну Ермольеву «знают всё»).
Как бы там ни было, но в мае 1930 года, пробыв в заключении под следствием более трёх месяцев, Л.А. Зильбер был освобождён.
Уже в этом же месяце, т.е. в мае 1930 года, в Центральном институте усовершенствования врачей в Москве ему присваивается звание профессора и одновременно (без защиты) учёная степень доктора наук. В этом институте он возглавляет кафедру микробиологии. Параллельно Лев Александрович становится заведующим микробиологическим отделом Государственного научно-исследовательского института Наркомздрава РСФСР им. Тарасевича. С 1932 года Л.А. Зильбер – заместитель директора по науке Института инфекционных болезней им. И.И. Мечникова.
В 1932 году он руководит ликвидацией вспышки оспы в Казахстане.
Что касается научных интересов Л.А. Зильбера в это время, то именно тогда, в начале 30-х годов, состоялся его «приход» в вирусологию.
Начинается всё с возобновления его работы над АД-вакцинами (очевидно, по горячим следам борьбы с чумной эпидемией в Гадрутском районе Азербайджана). О результатах этой работы Н.Ф. Гамалея высказался следующим образом: «Противочумные вакцины Зильбера оказались в десятки раз эффективнее всех других, предложенных когда-либо у нас и за границей…» [24; 6].
Но, напомним, АД-вакцины, предложенные Львом Александровичем ещё в первой половине 20-х годов, стали следствием его исследований в области термостабильности антигенов и антител. Поэтому возвращение к АД-вакцинам повлекло за собой и возобновление изучения явления белковой термостабильности, а затем – параагглютинации и параиммунитета.
Уйдя от объяснения этих интереснейших явлений с позиций физико-химической теории иммунитета В.А. Барыкина, Л.А. Зильбер «остановился» в конце 20-х годов на том, что видел их причину во взаимодействии микробов друг с другом. Но механизмы данного взаимодействия так и остались невыясненными.
Теперь исследователь возвращается к проблеме с позиций вирусологии. Так начались работы учёного по изучению симбиоза вирусов и непатогенных микробов. В 1932 году он получает вместе с Е.И. Воструховой культуру оспенного вируса на дрожжах.
Эти исследования открывали тогда новые перспективы в изучении не только вирусов, но и других микробов, их взаимодействия с вирусами. Как отмечают современные специалисты, «в настоящее время они приобретают особый интерес как уникальные модели для изучения отношений вируса и клетки» [4; 6].
Лев Александрович увидел во взаимодействии микробной клетки и вируса новое явление, которое он назвал аллобиофорией. Это явление, как полагал Л.А. Зильбер, является общей закономерностью. Учёный считал, что при естественной инфекции всегда имеет место взаимное влияние различных микроорганизмов, в том числе вирусов и бактерий. Именно аллобиофория, по его мнению, может играть большую роль в параиммунитете, параинфекции и вообще в эпидемиологии вирусных заболеваний.
Таким образом, можно смело утверждать, что Л.А. Зильбера привели к вирусологическим исследованиям его ранние иммунологические работы по параагглютинации и параиммунитету и неудовлетворённость в их первоначальной интерпретации.
Но в вирусологию Л.А. Зильбер пришёл уже как опытный микробиолог и иммунолог. Поскольку этот раздел микробиологической науки находился тогда в начальной стадии своего бурного развития, то он открывал самые блестящие перспективы для новых исследований. А это в наибольшей мере соответствовало исследовательскому стилю, темпераменту и таланту Льва Александровича, всегда стремившегося к новым, трудным проблемам и работе с узловыми вопросами науки.
Став «адептом» вирусологии, Л.А. Зильбер со свойственной ему энергией выступает за необходимость организации широкого изучения вирусов в нашей стране, добивается организации исследовательского центра по вирусологии.
В 1935 году состоялось первое Всесоюзное совещание по проблеме ультравирусов (в самом начале главы мы о нём упоминали). В его созыве Лев Александрович принимает самое деятельное участие. Он же выступает на совещании с программным докладом, в котором говорит о большой роли вирусов в биологии, медицине и сельском хозяйстве. Здесь впервые им чётко формулируются перспективы вирусологического подхода к раку.
Организаторская деятельность Л.А. Зильбера по созданию в СССР вирусологических центров оказалась весьма эффективной. Уже в конце 1935 года начинают работать созданная им Центральная вирусная лаборатория Наркомздрава РСФСР и организованный им же отдел вирусологии в Институте микробиологии АН СССР.
В этих первых советских вирусологических центрах работали в основном молодые начинающие учёные, как правило – ученики Л.А. Зильбера. Оно и понятно – новый, «прорывной» характер научного направления привлекал именно молодёжь с её энергией, незашоренностью мышления, жаждой открытия широких, неизведанных путей в науке. Словом, молодые сотрудники Льва Александровича были во многом подстать ему.
Безусловно, вирусная теория рака увлекла и захватила Л.А. Зильбера, став на многие годы лейтмотивом его исследований и просто размышлений (ибо, увы, жизнь Льва Александровича складывалась так, что далеко не всегда он мог заниматься научной работой, но об этом ниже). Конечно же, вирусология опухолей была в исследовательских планах учёного. Как утверждает М. Шифрин, программа исследований Центральной вирусной лаборатории на 1937 год включала эту проблематику [75; 429].
Но деятельность первых советских вирусологических центров под руководством Л.А. Зильбера была значительно шире: изучались механизмы иммунитета к вирусам, разрабатывались вопросы взаимодействия вирусов с другими видами микробов (в частности, с возбудителем сыпного тифа), велись работы по выделению вируса гриппа, и шло интенсивное его изучение.



