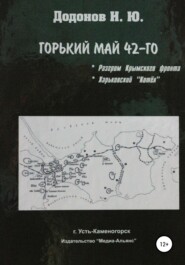 Полная версия
Полная версияГорький май 42-го. Разгром Крымского фронта. Харьковский котёл
Совершенно непонятно, из каких соображений исходили указанные авторы, поправляя немцев в их статистических выкладках. Какими данными они руководствовались при этом?
Здесь необходимо отметить, что именно немецкая цифра пленённых в окружении под Харьковом служит главным основанием для заявлений о том, что советские цифры потерь в Харьковском сражении сильно занижены. Правда, серьёзным и объективным исследователям хорошо знаком не только советский «эффект занижения» своих потерь, но и немецкий «эффект завышения» потерь противника, другими словами, завышение немцами своих «достижений». Вот и в отношении немецких данных о советских потерях под Харьковом добросовестные историки замечают, что «эта информация не совсем объективна, …немцы потери противника явно завышают» [9; 79].
Говоря о потерях Красной Армии в Харьковском мая 1942 года сражении, нельзя не упомянуть о потерях среди советских военачальников. Попавшие в окружение вместе с вверенными им войсками десятки высших и старших красных командиров до конца выполнили свой долг. Когда требовала обстановка, они становились плечом к плечу со своими солдатами, ходили в отчаянные штыковые атаки, горели в танках. Кто-то вырвался из окружения во главе больших групп бойцов, как, скажем, генерал-майор Е.Г. Пушкин (командир 23-го танкового корпуса), дивизионный комиссар К.А. Гуров (член Военного совета Юго-Западного фронта), генерал-майор А.Г. Батюня (начальник штаба 6-й армии). Но очень многие погибли в «котле». Среди них: заместитель командующего войсками Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко, командующий 6-й армией генерал-лейтенант А.М. Городнянский, член Военного совета 6-й армии бригадный комиссар И.А. Власов, командующий 57-й армией генерал-лейтенант К.П. Подлас, начальник штаба 57-й армии генерал-майор А.Ф. Анисов, член Военного совета 57-й армии бригадный комиссар А.И. Попенко, командующий артиллерией 57-й армии генерал-майор Ф.Г. Маляров, командующий армейской группой генерал-майор Л.В. Бобкин, командир 21-го танкового корпуса генерал-майор Г.И. Кузьмин, командир 150-й стрелковой дивизии генерал-майор Д.Г. Егоров, командир 47-й стрелковой дивизии генерал-майор Ф.Н. Матыкин, командир 270-й стрелковой дивизии генерал-майор З.Ю. Кутлин, командир 337-й стрелковой дивизии генерал-майор И.В. Васильев и многие другие [5; 13], [9; 73], [16; 239], [6; 213], [14; 61-62], [17; 353-354].
Хочется привести такие подробности. Командарм-6 А.М. Городнянский погиб в рукопашной схватке. Поражённые его бесстрашием немцы привезли тело генерала на захваченном танке в село Орлиноорское и похоронили с воинскими почестями [21; 5].
Вместе с командующим армейской группой генерал-майором Л.В. Бобкиным погиб его 15-летний сын. Отец и сын, не расставаясь, вместе колесили по дорогам войны. Вместе они и погибли во вражеском «котле» [17; 354].
И пусть этот скорбный список погибших под Харьковом в мае 1942 года советских генералов будет укором совести тех современных авторов, которые смеют писать о том, что наши солдаты в окружении были брошены командованием на произвол судьбы.
Что касается потерь вооружения и техники в боях под Харьковом, то они уже приведены нами в таблице № 1.
Ещё в 1942 году советские военные отмечали, что указанные цифры занижены, т.к. по ряду соединений информация отсутствовала.
Немецкие же данные таковы (отметим, что касаются они именно «котла»): уничтожено и захвачено 2 026 орудий, 1 249 (1 250) танков и 540 самолётов [23; 407], [4; 239], [9; 73].
Мы не располагаем информацией, чтобы корректировать как советские, так и немецкие данные о потерях наших войск в технике и вооружении. С уверенностью можно говорить лишь о том, что реальные цифры этих потерь лежат где-то между советскими и немецкими данными по ним.
Единственный пункт, о котором хотелось бы сказать, так это танковые потери.
В статье В. Казака «Харьковский котёл» фигурирует цифра – 775 потерянных нашей стороной танков. Как видим, она отличается от официальных советских данных (652 танка) на 123 боевые машины. Источник появления цифры «775» у В. Казака, как представляется, следующий. В своём докладе в Ставку ВГК от 15 мая 1942 года главнокомандование Юго-Западного направления отметило, что за четыре дня боёв (12, 13, 14 и 15 мая) потери 38-й армии в танках составили около 100 единиц [5; 436-438]. В документах, на основании которых составлена таблица № 1, сведения о танковых потерях 38-й армии отсутствуют, т.е. они не вошли в итоговое число «652». Сложение последнего числа и данных о, примерно, сотне танков, потерянных армией К.С. Москаленко к 16 мая (с обычным «припуском на увеличение», который так любят некоторые исследователи), и дали цифру потерянных нашей стороной танков, которую приводит в своей статье В. Казак. Безусловно, такой подсчёт несколько условен, ведь часть из «около ста» потерянных бригадами 22-го танкового корпуса к 16 мая машин могла вернуться в строй (и наверняка возвращалась). С другой стороны, бригады этого корпуса, «закреплённого» за 38-й армией, и в последующие дни, получив пополнение материальной частью, принимали участие в боях и, следовательно, несли потери. Тем не менее, с оговорками, уточнение В. Казака по танковым потерям мы принимаем.
Но людским и материальным уроном последствия поражения под Харьковом в мае 1942 года не ограничиваются.
Прежде всего, инициатива действий, которая до сего момента находилась в руках советских войск, была ими утрачена. По крайней мере, на юге советско-германского фронта, т.е. на том направлении, которое стало в тот момент решающим.
Мы лишились выгодного плацдарма, приобретение которого было оплачено дорогой ценой. Немцы же сделали первый шаг к созданию такой конфигурации фронта, которая была им нужна для нанесения решительного удара на Кавказ и Сталинград (план «Блау»). Вторым и третьим шагами в этом направлении явились наступления по плану «Вильгельм» (цель – разгром северной группировки советских армий в районе Харькова, т.е. 21, 28 и 38-й армий) и плану «Фридерикус–II» (цель – окружение 9-й и 38-й армий) [17; 344-349].
ГЛАВА V
«АНАТОМИЯ» КАТАСТРОФЫ
И.В. Сталин назвал наше поражение под Харьковом проигрышем в наполовину выигранной битве [5; 459-460], [9; 74], [27; 5].
Современный российский исследователь К.В. Быков написал так:
«Это поражение стало для нас самым неоправданным, самым обидным за всю историю Великой Отечественной войны» [5; 14-15].
Так в чём же были причины харьковской катастрофы? Почему многообещающая, имеющая большие шансы на успех, удачно начатая операция советских войск закончилась крахом?
На фоне событий сражения мы попытались обозначить эти причины, разобраться в некоторых спорных, на наш взгляд, вопросах.
Заключения некоторых исследователей, сводящие всё к виновности тех или иных лиц в командовании РККА, страдают однобокостью.
Крайним упрощенчеством являются как заявления: «Во всём виноват Сталин», так и обвинительные приговоры Тимошенко и Хрущёву (это, мол, всё из-за них).
На самом деле, имел место целый комплекс причин, приведших к поражению. И если уж говорить о том, кто виноват в возникновении этого комплекса, то мы даём ответ: «Советское командование на уровне Ставки Верховного Главнокомандования, Генерального штаба РККА, главнокомандования Юго-Западного направления, командования Юго-Западного и Южного фронтов, а также некоторых армий, корпусов и дивизий». Такой ответ покажется кому-то странным, но тем не менее, на наш взгляд, он наиболее объективен.
Итак, каковы же причины?
1) Ставка ВГК и Генштаб неверно определили стратегическое направление, на которое будут направлены главные усилия германской военной машины. Такого удара на Юге наше высшее командование не ждало. Соответственно, необходимых сил для парирования удара на этом направлении не имело.
И здесь надо отметить, что первоначально командование ЮЗН оказалось дальновиднее Ставки ВГК и Генштаба. Как видно из его мартовского доклада в Ставку, Юго-Западное направление оно считало равнозначным Западному.
2) Ставка ВГК в лице Сталина, разрешив, несмотря на возражения Генштаба, проведение наступательной операции под Харьковом, не выделила Юго-Западному направлению для неё достаточно дополнительных сил. Сталинская формулировка: «Считать операцию внутренним делом командования направления», – означала не только то, что начальник Генштаба не должен был вмешиваться в вопросы подготовки и проведения операции, но и то, что командование ЮЗН должно рассчитывать, в значительной степени, на свои наличные силы. Между тем операция хоть и определялась как локальная, но носила довольно большой масштаб, а войска направления были сильно измотаны практически непрерывными наступательными боями января-апреля 1942 года. В этих условиях введение в состав северной ударной группировки Юго-Западного фронта 28-й армии, на формирование которой к тому же была обращена часть сил 38-й армии, проблемы не решало [16; 220-223]. Южная группировка в Барвенковском выступе не получала даже такого усиления. Поэтому маршал С.К. Тимошенко вынужден был массировать свой ударный «кулак» на Барвенковском плацдарме за счёт и без того ослабленных 9-й и 57-й армий Южного фронта. Тем самым было создано то южное «мягкое подбрюшье» наступающих с юга-востока на Харьков сил ЮЗФ, которое оказалось столь уязвимым.
Теоретически войскам 9-й и 57-й армий лучше всего было поставить активные наступательные задачи, что позволило бы сковать силы противника к югу от Барвенковского выступа и предотвратить всякую опасность немецкого удара «под дых» бьющей на Харьков 6-й армии А.М. Городнянского и обеспечивающей своим наступлением на Красноград этот удар с запада и юго-запада армейской группе Л.В. Бобкина. Но понёсшие большие потери в январско-апрельских наступлениях 9-я и 57-я армии были не способны не только наступать, но и обеспечить прочную глубокоэшелонированную оборону, плотность войск в которой соответствовала бы уставным (вполне обоснованным) требованиям.
В таком положении изначально виновата всё-таки Ставка ВГК. Но и ответственности с командования ЮЗН снимать нельзя. Ведь С.К. Тимошенко и И.Х. Баграмян не могли не осознавать наличие «Ахиллесовой пяты» в построении своих войск. Но, осознавая, тревогу не били, не настаивали, не убеждали, не доказывали. «Взяли под козырёк» и пошли исполнять, полагаясь, очевидно, на русский «авось».
3) «Харьковское сражение было проиграно в большой степени из-за плохой разведки», – считает К.В. Быков [5; 10]. И мы вполне согласны с этим выводом исследователя.
Командованием Юго-Западного направления, подчинённых ему фронтов и армий, фактически не была вскрыта противостоящая войскам направления немецкая группировка. Неожиданностью явилось наличие в районе Харькова второй танковой дивизии, никто не увидел (или не придал значения?) концентрации сил противника против южного фаса Барвенковского выступа, в частности, «проглядели» две(!) немецких танковых дивизии. Ожидали увидеть крупную танковую группировку в районе Змиева, где её не было и в помине, и уже в ходе наступления, делая «поправку» на Змиев, продолжали держать «в загашнике» два танковых корпуса (вместо их быстрого введения в прорыв).
Словом, били чуть ли не в слепую. Даже контуров «Фридерикуса–I», начало которого мы упредили всего на шесть дней, командование ЮЗН не определило. А ведь после почти года войны можно было даже просто предположить, как будут действовать немцы. Излюбленный их приём – «подсечение» флангов – был уже на горьком опыте 1941 года познан Красной Армией, а применить его в таком «удобном месте», как «узкогорлый» Барвенковский выступ, немцам «сам бог велел». Подобное предположение должно было привести к целенаправленному сбору развединформации, чтобы предположение подтвердить или опровергнуть. Но ничего этого сделано не было.
4) Промахи при проведении операции.
Первый из них – позднее введение в бой 21-го и 23-го танковых корпусов. Опоздали на 3-4 дня, что позволило немцам к юго-западу от Харькова закрепиться на тыловых оборонительных рубежах, подтянуть резервы на угрожаемый участок. Эффекта этот запоздалый ввод не имел. А что могло получиться, введи С.К. Тимошенко танковые корпуса в дело 13-го или, хотя бы, 14-го мая? На наш взгляд, об этом очень убедительно пишет известный российский историк А. Исаев. Предоставим ему слово:
«Своевременный ввод в бой 21-го и 23-го танковых корпусов мог заставить немецкое командование отказаться от «Фридерикуса» и бросить все силы на отражение удара обходящих Харьков танков. Командующий группы армий «Юг» фон Бок был на грани этого решения, и только твёрдость Гальдера позволила, в конце концов, провести урезанный «Фридерикус» (так называемый «Фридерикус-Юг» – И.Д.), принёсший успех немецкой стороне. В случае прорыва к западу от Харькова двух крупных механизированных соединений мог уже дрогнуть Гальдер, или фон Бок мог начать принимать самостоятельные решения по раздёргиванию ударной группы Клейста. Маршал С.К. Тимошенко медлил с вводом в бой танковых корпусов, поскольку не был достигнут решительный результат наступления северной ударной группировки. Однако глубокий прорыв в обход Харькова мог сам по себе вызвать вскрытие фронта в полосе армии Д.И. Рябышева. Хотя бы вследствие отвлечения на отражение удара корпусов одной из двух танковых дивизий, 3-й или 23-й» [17; 349-350].
К этим словам остаётся лишь добавить, что С.К. Тимошенко медлил с введением танковых корпусов в бой не только из-за сложностей на участке северной группы войск, но и из-за отсутствия должного авиаприкрытия выдвижения танковых корпусов (самолёты были переброшены в помощь северной группировке), и из-за опасений танкового контрудара из района Змиева (в случае такого контрудара силы одного из корпусов могли быть использованы для его парирования).
За данный оперативный промах целиком отвечает командование Юго-Западного направления.
Второй промах – «побригадное раздёргивание» 22-го танкового корпуса, приданного 38-й армии. Командование ЮЗФ-ЮЗН разрешило проделать это командарму-38 К.С. Москаленко. В результате танки корпуса использовались как танки НПП (непосредственной поддержки пехоты) различными дивизиями 38-й армии. Уже в первый день боёв, проламывая оборону противника, танковые бригады понесли значительные потери. Во второй день бригады бросали навстречу начавшим контрнаступление 3-й и 23-й танковым дивизиям немцев. Пытаясь сдержать немецкий танковый удар, бригады лишились почти всех танков. А ведь мощное подвижное соединение, каковым был 22-й танковый корпус, могло быть введено в прорыв в полосе 38-й армии уже по результатам боёв 12 мая. Успехи армии К.С. Москаленко были за этот день наиболее значительны. Удар единого танкового корпуса не только не дал бы отступившим немцам возможности опомниться и закрепиться на тыловых рубежах, но и сорвал бы само сосредоточение для контрудара 3-й и 23-й танковых дивизий противника. Как в этом случае развернулись бы дальнейшие события, остаётся только гадать. Однако можно с уверенностью сказать, что худшими, чем оказались в действительности, они бы не были. Скорее всего, глубокий прорыв армии К.С. Москаленко в сочетании с нажимом 28-й и 21-й армий заставил бы немцев под Харьковом уйти в «глухую» оборону. Северная группировка советских армий не выпустила бы инициативу из своих рук, не переходила бы периодически к обороне, не пятилась бы назад, отдавая противнику с таким трудом отбитую территорию. Кроме того, взаимодействие с 6-й армией А.М. Городнянского по окружению чугуевско-балаклеевской группировки немцев становилось вполне реальным.
Итак, этот оперативный просчёт на совести командарма-38 и командования ЮЗН, которое командарма «не поправило».
Третий оперативный промах – «самовольное» наступление 9-й армии на Маяки 7-15 мая. Будучи теоретически весьма полезным и необходимым (овладение Маяками расширяло устье Барвенковского выступа), в конкретных условиях первой половины мая 1942 года на том участке фронта оно было вредно. Что бы ни говорил К.В. Быков, пытаясь оправдать командарма-9 Ф.М. Харитонова и командующего Южным фронтом Р.Я. Малиновского, но в этом неудачном наступлении бесполезно сжигались силы и 9-й армии, и фронтовых резервов, силы, которых и так было недостаточно для создания прочной обороны. Кроме того, затеянная именно в связи с «Маяковской» операцией перегруппировка сил 9-й армии и резервов Южного фронта привела к тому, что ряд частей и соединений к началу немецкого наступления не оказались на отведённых им участках оборонительной линии, что, как вы понимаете, усилению отпора противнику не способствовало.
Слово «самовольное», говоря о наступлении на Маяки, мы не зря взяли в кавычки. Начавшись по инициативе генерала Ф.М. Харитонова, оно было фактически одобрено Р.Я. Малиновским. Но и командование Юго-Западного направления, узнав об идущих на левом фланге 9-й армии боях, не прекратило их тут же. Несколько дней С.К. Тимошенко и И.Х. Баграмян наблюдали за событиями под Маяками. И только 15 мая отдали приказ о прекращении бесплодных попыток овладеть этим населённым пунктом. Формально они не отдавали приказ штурмовать Маяки, а по сути молчаливо эту операцию одобрили.
Таким образом, ответственность за данный промах лежит на командующем 9-й армией генерале Ф.М. Харитонове, командующем Южным фронтом генерале Р.Я. Малиновском и командовании Юго-Западного направления.
Четвёртый оперативный промах…
Тут полагалось бы написать о несвоевременности приостановки наступления 6-й армии и армейской группы Бобкина и разворота их сил против войск Клейста. И обвинить в этом либо Сталина, либо Тимошенко.
Но мы так делать не станем. И вот почему. Вопрос этой своевременности-несвоевременности сложней, чем кажется. Рассуждения типа: «Вот если бы развернули войска 17-го или хотя бы 18 мая, то ничего бы не произошло…», –грешат тем, что идут от знания случившегося, ретроспективны. Если же исходить всё-таки из обстоятельств того времени, другими словами, рассуждать исторически, то выводы столь однозначными не будут.
Прежде всего скажем, что считать виновными в развороте ударной группировки Юго-Западного фронта, наступавшей из Барвенковского выступа, только к вечеру 19 мая 1942 года Ставку ВГК и лично Сталина нельзя. Как представляется, на основании имеющихся документов и воспоминаний советских военачальников нами было убедительно показано, что никаких препятствий С.К. Тимошенко в принятии этого решения раньше Сталин не чинил.
Но и обвинять командование ЮЗН в игнорировании факта немецкого прорыва, непринятии достаточных мер к остановке наступления противника, предпринятого на южном фасе Барвенковского плацдарма, тоже неверно.
Меры принимались. Как только к вечеру 17 мая была хоть в какой-то мере прояснена обстановка в полосе обороны фронта Р.Я. Малиновского, на отражение наступления группы Клейста были отряжены значительные силы: 2 кк, 14 гв. сд, 5 кк, 12 и 121 тбр, 333 сд, 343 сд, батальон ПТР, 92 отб, полк «катюш», одна сд и одна тбр из состава 37-й армии. Несколько позже (в ночь с 17 на 18 мая) был отдан приказ генералу А.М. Городнянскому о выводе из боя 23-го танкового корпуса и сосредоточении его на рубеже реки Берека.
Всех этих сил было бы вполне достаточно, чтобы сдержать немецкий удар, но имел место ряд обстоятельств, которые не позволили это сделать: соединениям и частям, отряжаемым для выполнения указанной задачи, необходимо было время на перегруппировку и сосредоточение, ряд соединений (5 кк, 333 сд, 12 и 121 тбр) уже были втянуты в бои с немцами, в которых понесли значительные потери, плохая связь затрудняла управление войсками.
Вот теперь мы назовём четвёртый оперативный промах: командование ЮЗН принимало меры к остановке немецкого наступления без достаточного учёта реальной обстановки. Оно не владело всей полнотой информации о ней и не учитывало оперативность, скорость действий немцев.
Отдельно выделим пятый оперативный промах. Ответственность на нём лежит полностью на командующем 6-й армии генерале А.М. Городнянском. С запозданием в 12 часов он выполнил приказ С.К. Тимошенко о выводе из боя и переброске на рубеж Береки 23-го танкового корпуса. С запозданием в 10 часов генерал исполнил приказ маршала (был отдан в ночь с 18 на 19 мая) о выводе из боя и переброске в район Михайловка – Лозовенька 21-го танкового корпуса и 248-й стрелковой дивизии. Итогом обоих промедлений явилось занятие этих районов немцами, что содействовало образованию кольца вокруг советской барвенковской группировки.
Немаловажной причиной всех этих промахов было отсутствие у советских военачальников достаточного опыта в проведении крупных наступательных операций, особенно, на окружение противника. «Советским командующим ещё предстояло выучить тонкости ведения наступлений и взаимного влияния обходов и ударов», – отмечает А. Исаев [17; 350].
5) Отдельной причиной харьковской катастрофы мы должны выделить состояние связи в войсках Юго-Западного направления. Опора на проводную связь, недостаточное использование радиосредств, радиобоязнь на всех уровнях командования, начиная со штабов фронтов и заканчивая штабами дивизий, привели к тому, что управление войсками направления было неудовлетворительным. Командование направления не владело всей полнотой оперативной информации, его решения были запоздалыми и не отвечающими обстановке. Повторилась ситуация лета-осени 1941 года. Совершенно прав историк А.И. Уткин, когда пишет:
«Удручала лёгкость германских и тяжеловесность неуклюжих советских военных усилий» [35; 342].
Вторит ему и другой современный российский историк А. Киличенков:
«Со стороны всё это напоминало беспорядочные перемещения войск по обширной степи, сквозь которую стремительно продвигались немецкие танковые колонны» [24; 220].
Одной из основных причин этой тяжеловесности и беспорядочности была плохая связь, которая максимально осложняла управление войсками.
6) Повлияло на результаты Харьковского сражения и то, что войска Юго-Западного направления, понеся большие потери в наступательных операциях зимы-весны 1942 года, в значительной степени были пополнены новобранцами, не имевшими боевого опыта. Это сказалось на боевых качествах частей и соединений, в особенности – стрелковых. Вот что сказано о подготовке наших пехотинцев в докладе, обобщающем боевой опыт 3-й танковой дивизии вермахта под Харьковом:
«Пехота русских слаба. Она ни за что не будет атаковать позиции неприятеля без соответствующей поддержки танковых подразделений…
Русская пехота не может организованно противостоять массированным атакам наших танков. В случае огневого соприкосновения пехотинцы противника паникуют и оставляют свои позиции» [9; 77-78].
К сожалению, это, в значительной степени, правда. Несмотря на то, что харьковская эпопея знает немало случаев героизма и самопожертвования наших пехотинцев, нередки были и случаи, о которых говорит немецкий доклад. Неумелые, нерешительные действия пехоты зачастую сводили на нет все старания артиллеристов, лётчиков, танкистов. Так было, например, при штурме Маяков или при прорыве внешнего кольца окружения силами сводного танкового корпуса и 38-й армии.
Кстати, этот же доклад говорит о наших танкистах:
«Однако, несмотря на все недостатки и слабую организованность частей РККА, их танки конструктивно не уступают нашим, индивидуальная подготовка танковых экипажей также очень хороша (выделено нами – И.Д.)» [9; 78], [4; 239].
Упомянутые «слабая организованность частей РККА», низкие боевые качества нашей «Царицы полей» были следствием не только большого количества необстрелянного солдатского состава, но и значительного числа молодого, неопытного или малоопытного командирского состава низовых звеньев (в звене «взвод – рота – батальон»). После потерь 1941 года и первых месяцев 1942 года в войсках было много командиров, призванных из запаса или окончивших краткосрочные курсы комсостава. Но командирами, как и солдатами, не рождаются. Опыт – дело наживное. К сожалению, учиться пришлось в крайне жёстких условиях.
7) Нельзя не упомянуть и о таком факторе наших неудач, как превосходство противника в авиации. Конечно, к маю 1942 года ни количественного, ни качественного превосходства над немцами в самолётах мы не имели. Но в Харьковском сражении главную роль сыграло всё-таки не это. Советские военно-воздушные силы уступали немецким в организационном отношении. Авиация немцев была сведена в воздушные флоты (группу армий «Юг» поддерживал 4-й воздушный флот). Единые командование, органы управления и аэродромного обеспечения позволяли немцам без труда сосредотачивать усилия своей авиации на нужных им участках фронта.
Советские же военно-воздушные силы в организационном отношении были сильно раздроблены. Основная масса боевых самолётов фронтов входила в состав армейской авиации, используемой в основном командующими общевойсковых армий. В состав фронтовой авиации выделялось небольшое количество самолётов. Всё это затрудняло массированное использование авиации для решения задач операции. Недаром, имея в начале наступления под Харьковом (12 мая) полное господство в воздухе, наши ВВС уже 14 мая его утратили.

