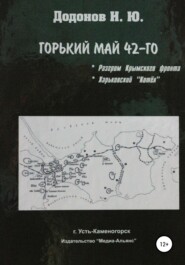 Полная версия
Полная версияГорький май 42-го. Разгром Крымского фронта. Харьковский котёл
«…Помню, как нас подняли по тревоге, построили в одну колонну, быстро выдали оружие, боеприпасы и двинули в поход. На Турецком валу западнее Керчи мы встретили врага. Наше подразделение было атаковано тремя цепями фашистов. Стрелки мы были хорошие, положили гитлеровцев в 100-150 м от нашего рубежа и расстреливали их на выбор. Но вот подошли фашистские танки и стали методически вести огонь по нашим окопам. Мы начали нести потери. Мой товарищ курсант Алексей Попов подносил патроны, осколком снаряда ему срезало плечевой сустав. Из открытой раны его хлестала кровь, был виден кусок плечевой кости, но Алеша, несмотря на это, подавал нам здоровой рукой патроны. Только по приказу он ушёл в тыл на медицинский пункт. Понимая, что в бою каждый боец дорог, он отказался от сопровождающего. Курсант Саулич вёл огонь из ручного пулемёта. Пуля пробила ему грудь навылет. Сплюнув сгусток крови, он спокойно сказал: «Ранило», – и продолжал стрелять. Помню, был ранен в ногу Саша Громов, говорили, что был убит автоматной очередью Володя Дроздов, который до войны жил в Ленинграде на Обводном канале недалеко от Фрунзенского универмага. У нас не было действенных средств борьбы с танками, поэтому пришлось отходить. Отступали цепью в тумане, задерживаясь на отдельных рубежах. Мужественно действовали в бою и другие наши курсанты: мой товарищ по сварочному техникуму Борис Нутрихин, бывший механик кинотеатра «Селькор» Виктор Болдырев, который проживал где-то около Исаакиевского собора, наш комсорг Анисимов, Виктор Паничев, Саша Якушев, наш гитарист Максаков, Каштымов и другие. Мало кому из наших ребят удалось благополучно выбраться с Керченского полуострова» [1; 26-27].
На северную оконечность Турецкого вала начался выход частей 47-й и 51-й армий. Но эти войска уже были совершенно дезорганизованы и проходили рубеж вала не задерживаясь. Попытки формирования отрядов из отступающих ни к чему не привели, так как эти отряды практически сразу разбегались после налётов вражеской авиации [25; 55].
Видя, что командование Крымским фронтом всё более утрачивает управление войсками, и положение наших войск на Керченском полуострове становится всё более угрожающим, Ставка ВГК в 23.00 11 мая приказывает главнокомандующему Северо-Кавказским направлением маршалу С.М. Будённому следующее (директива № 170375; на неё мы уже ссылались чуть выше):
«Ввиду того, что Военный совет Крымфронта, в том числе Мехлис, Козлов, потеряли голову, до сего времени не могут связаться с армиями, несмотря на то, что штабы армий отстоят от Турецкого вала не более 20-25 км, ввиду того, что Козлов и Мехлис, несмотря на приказ Ставки, не решаются выехать на Турецкий вал и организовать там оборону, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: главкому СКН маршалу Будённому в срочном порядке выехать в район штаба Крымского фронта (г. Керчь), навести порядок в Военном совете фронта, заставить Мехлиса и Козлова прекратить свою работу по формированию в тылу, передав это дело тыловым работникам, заставить их выехать немедленно на Турецкий вал, принять отходящие войска и материальную часть, привести их в порядок и организовать устойчивую оборону на линии Турецкого вала, разбив оборонительную линию на участки во главе с ответственными командирами.
Главная задача – не пропускать противника к востоку от Турецкого вала, используя для этого все оборонительные средства, войсковые части, средства авиации и морского флота.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Василевский»
[32; 201].
Так закончился день 11 мая. В своих мемуарах Манштейн хвастливо заявил, что в этот день 22-я танковая дивизия немцев, выйдя к Азовскому морю, окружила около 8 советских дивизий [19; 264]. Мы видели, что окружение это не было полным, что у советских войск оставался свободный коридор, которым они и воспользовались. Выход по нему продолжался, кстати, до 13 мая включительно [1; 26]. Некоторые части и подразделения немцам всё же удалось окружить в районе Ак-Монайского перешейка. Но количество окружённых никак не могло равняться 8 дивизиям [1; 25]. Кстати, Манштейн столь преувеличил свои «достижения», видимо, именно в мемуарах, т.е. после войны. Приходится полагать, что в мае 1942 года он был более объективен и скромен. Во всяком случае, в мае 1942 года немецкий военный журнал «Deutsche Wehr» не преувеличивал так этот успех. Его корреспонденты писали неопределённо о каких-то окружённых советских частях, которым частично удалось прорваться на восток [1; 25]. Где корреспонденты могли почерпнуть эту информацию, как не в штабе Манштейна?
12 мая Козлов и Мехлис выехали на Турецкий вал в район Султановки, куда выходили части 44-й армии [25; 55]. Точнее будет сказать, что когда-то это были воинские части, составлявшие соединения, входившие в армию. 12 мая глазам командующего фронтом, работников штаба фронта, армейского комиссара предстал поток неуправляемой массы людей, стремящихся к Керченскому проливу. Позднее Л.З. Мехлис докладывал в Ставку, как штаб 44-й армии и представители фронта останавливали отходящие в беспорядке разрозненные подразделения и отдельных людей [25; 55].
Схожая картина предстала перед армейским комиссаром и на северной оконечности вала, где отступали части 47-й армии:
«Части 47-й армии беспорядочно отходят под жесточайшим воздействием авиации. Отход был неорганизованный. Ни одной части найти не удалось. Шли разрозненные группы» [25; 55].
Противник в течение дня подтягивал к Турецкому валу танки, пехоту и артиллерию. Кроме того, в районе Марфовки им был выброшен парашютный десант [11; 279], [1; 24, 27]. Но прорвать оборону советских частей и подразделений немцам в этот день не удалось. А в ночь на 13-е успех, наоборот, сопутствовал нашим войскам: 156-я стрелковая дивизия и курсы младших лейтенантов захватили господствующие высоты с отметками 108,3 и 109,3. Отброшен был противник и из района севернее озера Узунларское [1; 27].
12 мая Ставка ВГК издаёт директиву № 170376 о временном подчинении заместителю командующего авиацией дальнего действия авиации Крымского фронта. Делалось это для «объединения действий авиации Крымского фронта и авиации дальнего действия Ставки на Крымском фронте…» [32; 201]. Т.е. Верховное Главнокомандование стремилось устранить раздробленность сил авиации, действующей в Крыму и на Северном Кавказе, централизовать управление ею и, тем самым, сделать её действия более эффективными. Но эта мера не успела дать каких-то результатов, ибо события на Керченском полуострове развивались чрезвычайно стремительно и, увы, в неблагоприятную для советских войск сторону.
К 13 мая худо-бедно, «с миру по нитке», «с бору по сосенке», но оборона по линии Турецкого вала была создана. Л.З. Мехлис и Д.Т. Козлов докладывают в Москву, что «основные оставшиеся части и соединения сосредоточены на линии Турецкого вала…» [25; 56].
По иронии судьбы именно в этот день слабая оборона по линии вала, державшаяся, в основном, на героизме и самоотверженности солдат, командиров и политработников, была прорвана.
Утром 13 мая гитлеровцы возобновили атаки, стремясь нащупать слабые места в наших оборонительных порядках. Несмотря на мощную авиационную поддержку, все атаки оставались безрезультатными. Взятый в плен немец показал, что атакующие в этом районе части обескровлены, некоторые из них имеют потери до 50% [1; 28].
Но слабое место в советской обороне было всё-таки найдено. Оно оказалось в центре Турецкого вала, где проходило шоссе на Керчь. Немцам помог случай и военная хитрость. По дороге отступала колонна наших автомашин. В пыли гитлеровским танкам удалось пристроиться в конец автоколонны, вместе с ней въехать прямо на позиции Турецкого вала и занять село Султановку. Оборонявшая этот участок 143-я стрелковая бригада из-за внезапного появления противника на своих позициях не сумела оказать существенного сопротивления. Последовавшая атака 36 немецких танков окончательно прорвала нашу оборону. Немцы устремились не только на восток, но и на юг, вдоль Турецкого вала [1; 28]. Это вызвало «обвал» и других участков обороны Турецкого вала. К исходу дня 156-я стрелковая и 72-я кавалерийская дивизии были оттеснены на линию Андреевка – Чурбаш [25; 57]. Перед противником открылся путь на Керчь.
Прибывший 13 мая в Керчь С.М. Будённый принимает решение об эвакуации войск с Керченского полуострова. Он отправляет телеграмму Сталину:
«…Новый нажим противника опять привёл в значительное расстройство ещё не организованные части. Фактического положения частей не знает никто… Положение усугубилось тем, что сегодня противник опять очень активен в воздухе, непрерывно атакует отходящие войска, артиллерийские позиции, пристани и переправы через пролив группами из 7-20 самолётов. У нас осталось два аэродрома – Багерово и Керчь и на 20.00 только 22 исправных истребителя, из которых только два являются скоростными. Остальные самолёты неисправны или погибли… Принимаю все меры для организации наиболее боеспособных войск к упорной обороне для выматывания, ослабления противника и выигрыша времени для организации остальных частей и управления войсками, наведения порядка в тылу. Подготавливается следующий рубеж от озера Чурбашское до озера Чокракское» [1; 29].
Заметим, что никаких рубежей заранее на указанной Будённым линии, конечно же, создано не было, а вечером 13-го числа, когда маршал отправлял в Москву свою телеграмму, 156-я стрелковая и 72-я кавалерийская дивизии уже вели бой с противником на этих неподготовленных позициях.
Получив санкцию Ставки на отвод войск на «большую землю», главнокомандующий СКН в 3.40 14 мая издаёт приказ:
«Начать отвод войск Крымского фронта на Таманский полуостров» [11; 279].
Ещё вечером 13 мая маршал приказал командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Ф.С. Октябрьскому все свободные суда направлять в распоряжение начальника Керченской военно-морской базы контр-адмирала А.С. Фролова, который назначался ответственным за переправу через Керченский пролив [1; 29].
На рассвете 14 мая из Москвы поступает приказ Ставки, дублирующий распоряжение главкома СКН, начать эвакуацию войск Крымфронта [25; 57], [11; 279].
Также рано утром (в 4.40) Ставкой издаётся директива № 170381, согласно которой в распоряжение главнокомандующего Северо-Кавказским направлением передавались два воздушно-десантных корпуса (2-й и 3-й) и одна воздушно-десантная бригада (4-я) [32; 203]. Видимо, телеграмма главкома вызвала в Ставке сомнения в способности сил Крымского фронта к удержанию подступов к Керчи для обеспечения эвакуации основной массы наших войск с Керченского полуострова. Воздушно-десантные соединения, таким образом, должны были помочь остановить врага, тем самым обеспечив эвакуацию.
События 14 мая привели к появлению новой директивы Ставки, которая была абсолютно противоположна по смыслу и решению самой Ставки и решению главкома СКН об отводе войск на «большую землю». Это дало повод ряду историков упрекать Верховного Главнокомандующего в противоречивости указаний и непоследовательности решений [25; 57].
Однако обо всём по порядку.
14 мая немцы продолжали атаки на позиции 156-й стрелковой дивизии в районе озера Чурбашское. Вместе с частями дивизии оборонялся 126-й отдельный танковый батальон. В боях 13 и 14 мая танкисты батальона уничтожили 17 танков противника, 8 противотанковых орудий, 3 бронемашины, до роты пехоты и около эскадрона конницы [25; 57], [1; 30-31]. Но и сам батальон потерял все свои машины. Только 13 мая потери составили 13 танков [1; 30]. Точных данных о количестве танков в батальоне к 13-му числу нет. Известно лишь, что 12 мая батальон был пополнен 12 машинами (5 Т-26, 1 ХТ-133, 2 Pz. IV и 4 Pz. 38(t)). В то же время в боях 13 мая принимали участие 7 ХТ-133 батальона. Таким образом, танков в батальоне к 13-му числу было около 20 [1; 30], [25; 56-57].
Около полудня наши разведчики зафиксировали движение двух колонн противника (танки и мотопехота) по дороге Султановка – Керчь. Общее количество единиц техники в колоннах доходило до 140 [1; 31].
В 14.00 группа танков и автоматчиков ворвалась в район обороны 417-го стрелкового полка 156-й стрелковой дивизии, расположенный юго-западнее села Чурбаши. А вскоре со штабом дивизии была потеряна связь. Позже стало известно, что в ходе боя около КП дивизии, располагавшегося в районе села Александровка, героически погибли начальник штаба дивизии полковник В.Ф. Архипов и комиссар штаба батальонный комиссар Кричевский. Командир дивизии полковник А.М. Алиев пропал без вести [1; 31].
Прорвав оборону 156 сд, танки и пехота врага вскоре вышли к горе Митридат, которая возвышалась над Керчью. Одновременно ими были захвачены пригороды Керчи – Солдатская Слободка и Бочарный завод. Немцы вышли к берегу Керченского пролива, отрезав наши части в районе Камыш-Буруна. Однако контратакой 276-го стрелкового полка НКВД, частей 156-й стрелковой и 72-й кавалерийской дивизий противник был выбит из Солдатской Слободки и сброшен с горы Митридат. В этот день он так и не смог овладеть этими пунктами [1; 31].
«Не по зубам» для фашистов оказалась и расположенная южнее горы Митридат Керченская военно-морская база (КВМБ), занимавшая территорию старой крепости на мысу Ак-Бурну. Оборону крепости возглавлял военный комиссар КВМБ полковой комиссар В.А. Мартынов. Первоначально моряки громили фашистов ещё на подступах к горе Митридат из трёх крупнокалиберных орудий, которые, кстати сказать, были брошены тут немцами в конце декабря 1941 года. Затем, взаимодействуя с бойцами 72-й кавалерийской дивизии, они отбили несколько атак пехоты и танков противника [1; 31-32], [24; 5-10].
Критическое положение сложилось и севернее Керчи. Уже в полдень фашисты неожиданно ворвались в село Катерлиз. Здесь находился штаб 51-й армии, который вынужден был спешно на автомашинах покинуть селение. Немцы двинулись к Азовскому морю, пытаясь окружить отходящие в данном районе по полевым дорогам вдоль берега моря советские части. Это немцам удалось. 15 и 16 мая наши взятые «в кольцо» войска пробивались здесь из окружения [1; 32].
Вечером 14 мая Д.Т. Козлов и Л.З. Мехлис подписали приказ, по которому оборона северо-восточнее Керчи возлагалась на командование 51-й армии, командный пункт которой назначался восточнее пос. Аджимушкай на горе Иванова. Частям армии приказывалось последовательно оборонять два рубежа: первый – мыс Тархан, Катерлез, Керчь (порт); второй – западнее Юрагина Кута, Аджимушкай, посёлок Колонка. Второй рубеж предписывалось оборонять во что бы то ни стало. К моменту выхода приказа первый из указанных рубежей уже был занят противником, т.е. приказ запоздал, командование фронтом не владело в полной мере информацией о складывающейся севернее Керчи обстановке, отдавая его [1; 32-33].
Согласно этому же приказу, командованию 44-й армии приказывалось оборонять Керчь, вести уличные бои. Командный пункт армии определялся на заводе имени Войкова, что восточнее города [1; 33].
Днём 14 мая командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ф.С. Октябрьский, выполняя приказ главкома СКН о подготовке сил флота к проведению эвакуации войск Крымфронта на Таманский полуостров, одновременно обратился с телеграммой к Сталину:
«…Главком приказал приступить к эвакуации Красной Армии из Керчи. Невозможно поверить, что есть такое решение. Такого решения быть не может. Прошу категорически запретить эвакуацию. Мы должны драться и во что бы то ни стало отстоять кусок территории вокруг Керчи и Керчь. Эвакуировать нечем. Средства исключительно скудные. Во время эвакуации всё или почти всё противник уничтожит… Общая эвакуация Керченского полуострова смерти подобна. Прошу немедленно вмешаться» [1; 29-30].
Любопытно, что одновременно Ф.С. Октябрьский обратился и к контр-адмиралу А.С. Фролову, начальнику КВМБ:
«Поспешная эвакуация подобна катастрофе. Примите меры организации обороны города сплошным полукольцом, хотя бы левый фланг района Камыш-Бурун, озеро Чурбашское, Андреевка, Багерово, Большой Бабчик, озеро Чокракское, мыс Зюк. Всё останавливай, организуй, держи командные высоты. Если удастся остановить, организовать оборону хотя бы на неделю – победите. Противник выдыхается, главное не дать смять, взять сходу. По моим данным, противник сильно избит, основные дивизии его уничтожены. Собирай своих надёжных, храбрых людей» [1; 30].
Абрамов пишет, что «это был скорее не приказ, а пожелание» [1; 30]. Можно представить себе состояние контр-адмирала А.С. Фролова, получившего подобное «пожелание». С одной стороны, у Фролова есть приказ главкома направления, который явно согласовал его со Ставкой ВГК, проводить эвакуацию войск Крымфронта на Таманский полуостров. Причём он, Фролов, назначен ответственным за эту эвакуацию. С другой, – поступило «пожелание» непосредственного флотского начальника Фролова, требующее не эвакуацию проводить, а организовывать оборону Керчи. А откуда у Фролова силы на эту оборону? Слов нет, морское командование, в отличие от армейского, сохранило нити управления своими силами. Но ведь одних моряков КВМБ совсем недостаточно, чтобы оборонять всю Керчь. Они-то и свою базу удерживают с помощью действующих в её районе армейских частей. Да и положение дел под Керчью Ф.С. Октябрьский представлял не очень чётко – не до такой степени ослабел противник, как он думал.
Вечером 14 мая (в 18.10) в Ставке была получена телеграмма Л.З. Мехлиса:
«Бои идут на окраинах Керчи, с севера город обходится противником. Напрягаем последние усилия, чтобы задержать [его] к западу от Булганак. Части стихийно отходят. Эвакуация техники и людей будет незначительной. Командный пункт переходит [в] Еникале. Мы опозорили страну и должны быть прокляты. Будем биться до последнего. Авиация врага решила исход боя» [11; 279], [25; 57], [1; 41].
И. Мощанский характеризует тон данной телеграммы как панический [25; 58]. Впрочем, мы уже видели, что там, где можно посильнее «уколоть» Л.З. Мехлиса, этот историк охотно это делает, приписывая самые дурные мотивы его действиям, давая поступкам комиссара самые дурные характеристики. Вот и сейчас: «…панический тон…»
Слов нет, телеграмма Мехлиса была весьма эмоциональной. Но можно ли назвать её панической? Думается, И. Мощанский из-за своей «официальной» неприязни ко Льву Захаровичу не разглядел (или не захотел разглядеть) в ней главного:
1) Телеграмма весьма точно обрисовала положение дел на конец дня 14 мая (это паника?).
2) В телеграмме Мехлис говорил, что город будет держаться до последней возможности (это паника?).
И, наконец,
3) Мехлис в телеграмме, фактически, повторяет вывод доклада адмирала Октябрьского: эвакуация сейчас подобна катастрофе (это паника?). И если адмирал, делая подобный вывод, исходил, в основном, из возможностей флота, то армейский комиссар ещё и из ситуации на фронте, которую он знал лучше Октябрьского.
Ну, а как «паниковал» Мехлис в те критические для Крымского фронта дни, скажем чуть ниже. Сейчас лишь заметим, что все бы так в подобных ситуациях «паниковали».
Телеграммы Ф.С. Октябрьского и Л.З. Мехлиса и заставили Ставку пересмотреть своё решение в отношении немедленной эвакуации войск. Т.е. никакой непоследовательности в её приказах не было.
Вечером 14 мая начальник штаба Северо-Кавказского направления генерал-майор Г.Ф. Захаров из Краснодара отдал приказ от имени Ставки генерал-лейтенанту Д.Т. Козлову:
«Начальник Генерального штаба приказал Вам в ночь на 15 мая выбить мелкие части противника из Керчи и превратить Керчь во второй Севастополь. Имейте в виду, что Ваши части в большом количестве находятся севернее шоссе, на участке Керчь – Семь Колодезей. Примите меры к их управлению. По приказанию начальника Генерального штаба представить к 15.00 15 мая план эвакуации» [1; 32].
В. В. Абрамов верно замечает, что в приказе бросается в глаза недооценка сил противника: рвущиеся в Керчь и стоящие на её окраинах силы немцев, отнюдь, не были мелкими частями [1; 32]. Однако со вторым его выводом (о непоследовательности данного приказа) невозможно согласиться: приказ потому и настаивал на организации прочной обороны города, что это дало бы возможность провести эвакуацию большей части войск Крымского фронта (людей, вооружения, техники).
В 1 час 10 минут 15 мая Ставка уже напрямую отдаёт приказ командующему Крымским фронтом об обороне Керчи (директива № 170385):
«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Керчь не сдавать, организовать оборону по типу Севастополя.
2. Перебросить к войскам, ведущим бой на западе, группу мужественных командиров с рациями с задачей взять войска в руки, организовать ударную группу с тем, чтобы ликвидировать прорвавшегося к Керчи противника и восстановить оборону по одному из керченских обводов. Если обстановка позволяет, необходимо там быть Вам лично.
3. Командуете фронтом Вы, а не Мехлис. Мехлис должен Вам помочь. Если не помогает – сообщите.
По поручению Ставки Верховного
Главнокомандования
А. Василевский»
[32; 205].
В отношении этой директивы И. Мощанский только и нашёлся заметить:
«Пожалуй, впервые Верховный высказал сомнение относительно пользы от пребывания армейского комиссара на Крымском фронте» [25; 58].
Создаётся такое впечатление, что, по мнению И. Мощанского, главным противником советских войск в Крыму были вовсе не немцы, а Л.З. Мехлис.
Мехлис же, думается, понял последний пункт из директивы Ставки вовсе не так, как его спустя почти семь десятков лет понял историк И. Мощанский. Понял он его дословно: фронтом командует Козлов, а его, Мехлиса, дело – Козлову помогать. Собственно, ничего нового в этих положениях для Льва Захаровича не было. Начиная с конца января 1942 года, он постоянно добивался того, чтобы Козлов командовал фронтом, но командовал как следует. Козлов же охотно «делился» частью своих полномочий с представителем Ставки. И вот теперь даже Ставка указывала Козлову, что именно на его, а не мехлисовых плечах лежит бремя командования фронтом. А поскольку помогать Козлову – Мехлис всегда помогал, то и после этой директивы Ставки Лев Захарович стал заниматься своим привычным делом – помощью Козлову.
Получив директиву Ставки, командование фронтом издаёт свой приказ, где, повторив основные положения директивы Верховного Главнокомандования, добавляет и свои пункты: требует от штабов армий, командиров соединений и частей «собирать и организовывать всё боеспособное, формировать сводные роты, батальоны, полки» [1; 33]. И всё это направлять на фронт. Предписывалось эвакуировать только тяжёлую артиллерию, гвардейские миномётные части и раненых [1; 33]. Кстати, последнее положение ясно показывает, что директива Ставки ВГК № 170385 от 15 мая 1942 года была понята командованием Крымского фронта именно в том смысле, что удержание Керчи производится с целью обеспечения эвакуации войск. Именно поэтому с полуострова предписывалось эвакуировать тяжёлые орудия и «катюши». Если бы оборона планировалась «на постоянной основе», а не временной, то зачем же было удалять на «большую землю» такие мощные огневые средства? Если же удержание Керчи рассматривалось как временное, то эвакуация тяжёлой артиллерии и гвардейских миномётов становится вполне понятной. В очередной раз некоторые современные историки продемонстрировали, что их упрёки в адрес советского военного командования различных уровней зачастую безосновательны, что оценка ими ряда документов и фактов того времени отличается от оценки непосредственных участников тех событий.
Над указанной директивой командования Крымского фронта работал и Л.З. Мехлис, ибо на ней сохранились его пометки и добавления [1; 33].
В соответствии с этой директивой, из одиночек и мелких групп военных, добравшихся к самому узкому месту Керченского пролива, стали формироваться отряды, которые под руководством тут же назначенных командиров и политработников отправлялись на передовую. Здесь стали действовать и пограничники, выполняя роль заградительных отрядов [1; 33].
15 мая 1942 года в дневнике начальника генерального штаба сухопутных войск вермахта Ф. Гальдера появилась запись:
«Керченскую операцию можно считать законченной. Город и порт в наших руках» [7; 454].
Гальдер поторопился с подобным заявлением. Ни Керченская операция немцев ещё не была закончена, ни даже сама Керчь взята.
Вот как описал день 15 мая другой немец, находившийся непосредственно на месте событий (этим немцем был военный корреспондент немецкой литературной газеты):
«На машине мы миновали последнюю цепь холмов перед Керчью и достигли линии фронта. Но никто толком не знал, где она проходит. Вчера вечером наступающие войска уже были в городе, но к ночи они снова отступили. На улицах города настоящая преисподняя. Каждый дом русскими превращён в крепость. Мы повернули на юго-восток, пересекли возвышенность и увидели дома и лежащие перед ними сады. Но тут вступили в бой миномёты с городских холмов и взяли под свой огонь улицы. Мы повернули направо в поле, объехали сзади один танк, который стрелял по городу короткими огневыми сериями. Тут нас окликнули. Позади садовой каменной стены нам кричали. Подавали знаки. Какое счастье: здесь оказался немецкий пункт противовоздушной обороны… Что происходит в Керчи, никто не мог ответить. Только известно, что немцы были уже в городе, но снова оттуда вышли. Укреплённые высоты над городом ещё заняты русскими, которые с высот и из пещер стреляют из всех видов оружия. Канонерские лодки держат под огнём все подступы. Непрерывно грохочут вокруг нас взрывы. Осколки и пулемётные очереди сбивают цветущие ветви деревьев. В то время, как мы смотрели на русских, появившихся над нами на горе, во двор нетвёрдой походкой вошёл лейтенант Б. с перевязанной головой. Его загорелое лицо было бледно, губы почти обескровлены. Но он взял себя в руки и немногословно доложил: «Прямым попаданием снаряда во второе орудие унтер-офицер Н. и канонир М. убиты, ефрейтор Т. тяжело ранен»…» [1; 33-34].



