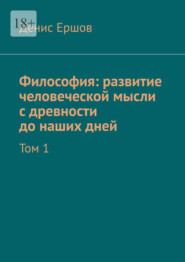
Полная версия:
Философия: развитие человеческой мысли с древности до наших дней. Том 1
Учёные, такие как Ноам Хомский и Вильям Лабов, занимались изучением взаимосвязи между языком и когнитивными процессами. В частности, Хомский выдвинул теорию универсальной грамматики, согласно которой все языки имеют общие структурные основы, что свидетельствует о генетически заложенной способности человека к языковому выражению.
Эта теория поднимает вопрос о том, как язык формирует наше восприятие мира и позволяет нам развивать абстрактные концепции – важнейшие составляющие философского мышления.
Философы, такие как Мартин Хайдеггер и Людвиг Витгенштейн, также обращали внимание на эту взаимосвязь. Витгенштейн утверждал, что «границы моего языка означают границы моего мира», что подчёркивает, как язык структурирует нашу реальность и наше понимание философских проблем.
Эта идея перекликается с теориями о том, что процесс глотогенеза не только позволил людям обмениваться информацией, но и стал основой для развития метамышления – способности размышлять о собственных мыслях.
С точки зрения философии, процесс возникновения языка (глотогенез) тесно связан с развитием мышления, что открывает новые горизонты для понимания сущности человека. По мере усложнения языковых структур мы начали создавать более сложные концепции и теории, что способствовало формированию абстрактного мышления и философского сознания.
Первые философские учения, такие как труды древнегреческих мыслителей Платона и Аристотеля, демонстрируют, как язык служит основой для формирования абстрактных идей о сущности, бытии и познании.
Исследование процесса глотогенеза и его влияния на развитие философского мышления становится важным аспектом для глубокого понимания человеческой природы и культурного наследия. Эта связь подчеркивает не только значимость языка как средства коммуникации, но и его роль в формировании нашего сознания и философской картины мира.
§1. Глотогенез и зарождение философского мышления
Вопрос о возникновении языка и мышления, а также о связи между ними, является одним из самых сложных и интригующих в истории человеческой мысли. Глотогенез, изучение происхождения и развития человеческого языка, тесно переплетается с зарождением философского мышления. Ведь язык не только инструмент общения, но и инструмент познания, позволяющий нам формировать абстрактные концепции, рассуждать, анализировать и создавать модели мира.
Глотогенез как основа философского мышления
В книге «Сравнительно-историческое языкознание» С. А. Бурлак и С. А. Старостин рассматривают глотогенез как процесс, тесно связанный с развитием человеческого мышления. Они утверждают, что появление языка позволило нашим предкам перейти от простого восприятия мира к его абстрактному осмыслению. Язык дал нам возможность:
* Классифицировать и обобщать объекты и явления, выделяя их общие признаки.
* Формулировать причинно-следственные связи, создавая модели мира.
* Передавать знания и опыт последующим поколениям.
Эти возможности стали основой для возникновения философского мышления. Философия, как и язык, стремится к постижению сущности вещей, к поиску ответов на фундаментальные вопросы о мире, человеке и его месте в этом мире.
Ученые и их исследования
Проблемой глотогенеза и его связи с философским мышлением занимались многие ученые. Среди них:
* Вильгельм фон Гумбольдт (1767—1835) – немецкий лингвист и философ, утверждавший, что язык не просто инструмент мышления, а его основа. Он считал, что язык формирует образ мышления, определяя, как мы воспринимаем и понимаем мир.
* Лев Семенович Выготский (1896—1934) – советский психолог, подчеркивающий роль языка в формировании высших психических функций, включая мышление, память и воображение. Он считал, что язык не просто средство выражения мысли, но и инструмент ее создания.
* Ноам Хомский (р. 1928) – американский лингвист, разработавший теорию универсальной грамматики, которая предполагает наличие врожденной способности человека к языку. Хомский считает, что эта способность является основой для развития мышления и познания.
Философские аспекты глотогенеза
Глотогенез имеет глубокие философские последствия:
* Проблема соотношения языка и мышления. Является ли язык просто инструментом мышления, или же он его определяет? Этот вопрос поднимается в философии языка и теории познания.
* Проблема происхождения и развития сознания. Как язык повлиял на формирование человеческого сознания? Этот вопрос связан с проблемой антропогенеза и поиска отличительных черт человека.
* Проблема социальной природы человека. Язык является инструментом социального взаимодействия, он позволяет нам общаться, создавать культуру и передавать знания. Это подчеркивает социальную природу человека и его зависимость от общества.
Эта тема обогащает историю философии наглядным примером того, как взаимосвязаны язык, мышление и культурное развитие, подчеркивая важность комплексного подхода в исследовании человеческой природы.
Как проблема происхождения языка может повлиять на становление и развитие философского мышления?
Вопрос о происхождении человеческого языка, строго говоря, не входит в компетенцию компаративистики. Это скорее философский, исторический, биологический и антропологический вопрос. Поэтому мы считаем необходимым рассмотреть его в нашем учебном пособии.
Для компаративистики, пожалуй, более чем для других областей лингвистики, важен ответ на вопрос: с какого момента эволюция человеческого языка протекает так, как её представляют себе исследователи? Современные представления об эволюции сигнальных систем у животных значительно отличаются от взглядов компаративистов на механизмы языковой дивергенции (см., например, [Фридман 1993b], [Фридман 1995b]).
Другими словами, нам нужно понять, когда эволюционная история коммуникативных систем позвоночных достигает уровня «вполне человеческого языка», который, несмотря на очевидные различия, организован у всех известных народов Земли достаточно однотипно.? Действительно, такие процессы, как «переход от жеста к звуку», «расчленение диффузного слова-предложения на отдельные слова» или «образование корней слов на основе звукоподражаний», имеют совершенно иную природу, чем процессы вроде «замены определённого процента базисной лексики», «грамматикализации» или «фонетического перехода».
В первом случае мы имеем дело с этапами качественного изменения коммуникативной системы и свойств используемых ею сигналов. Во втором же случае речь идёт об изменениях внутри одной и той же системы человеческого языка.
Мы не будем здесь перечислять все существующие теории происхождения языка – даже краткое описание самых важных из них заняло бы целую книгу (например, [Донских 1984]). Однако стоит отметить, что различия между ними во многом связаны с разным пониманием того, что такое человеческий язык (то есть чем он отличается от других коммуникативных систем), а также с различными представлениями о том, что значит «возникновение» языка.. Например, если рассматривать язык как совокупность слов, что было характерно для древнегреческих философов, то вопрос о его происхождении сводится к вопросу о том, как были даны имена всему, что существует в мире. Этому вопросу посвящён диалог Платона «Кратил». Глоттого́ния (от др.-греч. γλῶττα – язык и γονή – рождение), или глоттогене́з (от γλῶττα – язык и γένεσις – происхождение), представляет собой исторический процесс зарождения, формирования и развития как человеческого естественного звукового языка, так и языковых семей, а также языков отдельных этносов. Вопрос о происхождении человеческого языка и его связи с формированием философского мышления представляет собой одну из самых интригующих проблем в сфере как языкознания, так и философии. Глотогенез, или процесс возникновения языка, имеет определенное значение не только для понимания эволюции человеческой коммуникации, но и для понимания того, как родилась возможность концептуального мышления, формирующего философские идеи.
I. Связь глотогенеза и философского мышления
Глотогенез вновь открывает нам путь к изучению когнитивных изменений, необходимых для появления не только языка, но и более сложных форм мышления, которые впоследствии прорастали в философские системы. Глотогенез демонстрирует, что язык не просто средство общения, но и инструмент, посредством которого формируется и конструируется реальность. Эта концепция поддерживается множеством ученых, включая таких лингвистов как Хокетт (Hockett) и современных этологов, среди которых выделяется В. С. Фридман, активно исследующий эволюцию сигнальных систем.
Истоки этого вопроса восходят к мыслителям античности. Одни из них считали язык чем-то естественным, данным от природы (теория «фюсей» – «по природе»), в то время как другие утверждали, что он носит условный и искусственный характер (теория «тесей» – «по положению», «по установлению»).
Эти два подхода фактически оставались актуальными до XIX века. Одним из ключевых событий стало выдвижение Л. Нуаре трудовой теории происхождения языка. Согласно этой теории, язык зародился в процессе совместной трудовой деятельности первобытных людей как одно из средств оптимизации и согласования их усилий.
К. Бюхер также развивал эту теорию, утверждая, что язык появился из «трудовых выкриков», сопровождавших коллективные трудовые процессы. Ф. Энгельс в своей работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» (1876) высказал мнение, что общение и, как следствие, язык развиваются как необходимый результат развития производственных и других общественных отношений в трудовом коллективе. Именно в этот момент у людей появляется что сказать друг другу.
Одновременно с появлением языка возникают высшие формы психического отражения и формируется человеческая личность.. В 1866 году Парижское лингвистическое общество было вынуждено запретить обсуждение происхождения языка, чтобы избежать бессмысленных споров. Ни одна из существующих гипотез не могла быть убедительно доказана. II. Исследования и достижения в этой области
В работах В. С. Фридмана основное внимание уделяется тому, как эволюция коммуникативных систем позвоночных может привести к возникновению человеческого языка. Он выдвигает гипотезу о том, что установление абстрактных связей между знаками и их значениями, а также способность к рефлексии – ключевые моменты, которые открывают дверь к более сложному концептуальному мышлению.
Кроме него, исследования о происхождении языка проводили такие ученые, как Н. Либерман и Э. Лейтман, которые реконструировали анатомию речевого аппарата ископаемых предков человека, подчеркивая, что физиологические изменения могут быть связаны с развитием не только языка, но и мышления. Понимание языка как системы знаков, которая не имеет прямой природной связи со значениями, требует качественно нового уровня абстракции и размышления.
Исследования показывают, что человекообразные обезьяны способны мысленно ставить себя на место другого, приписывать другим существам определённые умственные состояния и целенаправленно манипулировать ими в своих интересах. Экспериментально доказано, что при необходимости обезьяну можно научить жестам (см. статью «Феномен „говорящих“ обезьян»). Обезьяны могут освоить жестовый язык примерно на уровне двухлетнего ребёнка.
Существует две точки зрения на происхождение языка. Согласно первой из них, язык возник как звуковой феномен, развившись из естественных звуков, издаваемых предками людей. Вторая точка зрения предполагает, что звуковому языку предшествовал жестовый, который мог возникнуть на основе движений и мимики, широко используемых для коммуникации многими современными обезьянами.
Существует множество гипотез о том, как возник синтаксис. Некоторые учёные считают, что это произошло внезапно и быстро, благодаря макромутации, которая привела к перестройке мозга. Другие предполагают, что синтаксис появился в результате длительного эволюционного процесса.
В современной когнитивной науке универсальная грамматика рассматривается как врождённое знание о языке, которое заложено на генетическом уровне. Наличие специализированных речевых центров в мозге подтверждает эту гипотезу.
Исследование области Брока показало, что она активируется только тогда, когда человек строит предложения на основе иерархической структуры непосредственно составляющих. Однако она не активируется при составлении предложений, которые предполагают простой линейный порядок слов. Это свидетельствует в пользу существования универсальной грамматики. III. Философская интерпретация проблемы глотогенеза
Тенденция к абстрактному мышлению и философской рефлексии вероятно проистекала из потребности дать понимание сложным социальным явлениям. Развитие языка как системы знаков, превращение выражений в знаки, обладающие свойствами знаков-индексов и знаков-символов, повлияло на то, как древние люди начали осмыслять мир вокруг себя. Философские размышления о бытии, сознании и ценности появились на фоне способности обсуждать и объяснять сложные идеи, что возможно благодаря языку.
Согласно А. Н. Барулину, «глоттогенез является комплексной проблемой, решить которую можно только, используя достижения различных наук», включая философию, что подчеркивает важность междисциплинарного подхода. Изучение глотогенеза позволяет нам не только понять, какой механизм стал основой возникновения языка, но и увидеть, как эта эволюция повлияла на развитие философского мышления, включая ранние размышления о сущности человека и мира.
Некоторые археологи предполагают, что первые достоверные признаки существования языка появились только в эпоху верхнего палеолита, то есть не ранее 40 тысяч лет назад. Эти признаки связаны с искусством и другими культурными нововведениями.
Однако, как отмечает С. Сэвидж-Рамбо, утверждение о том, что когнитивные способности, необходимые для изготовления орудий, менее сложны, чем способности, требуемые для создания языка, трудно согласовать с тем фактом, что дети начинают говорить раньше, чем они способны создавать простейшие орудия.
Многие археологи, не отрицая возможности существования какого-либо языка на ранних стадиях эволюции человека, тем не менее считают, что полностью современный, развитый синтаксический язык появился лишь у людей современного физического типа и способствовал развитию их культуры.
Ещё один важный вопрос, который требует ответа, – это вопрос о том, существовал ли в начале единый праязык, от которого произошли все остальные языки, или же разные языки развивались независимо в разных группах древних людей.
Современные концепции происхождения языка, известные как парадигмы глоттогенеза или глоттогонии, можно разделить на несколько основных групп.
Если же рассматривать язык как звучащую членораздельную речь, то о его происхождении можно судить, реконструировав устройство речевого аппарата наших ископаемых предков. Этому посвящены работы [Lieberman 1984], [Laitman 1984].. Идея о том, что язык возник в процессе общей эволюции человека, подразумевает изучение археологических культур и ископаемых останков древних представителей рода Homo (например, [Маслов 1987, 186—188]).
С другой стороны, концепция о языке как закономерном этапе развития коммуникативных систем позвоночных основывается на сравнительно-этологическом анализе общей организации коммуникации у животных, а также на изучении семантических и функциональных характеристик сигналов, используемых различными типами коммуникативных систем (см. [Фридман 1995b], [Барулин 2002]). Эти исследования позволяют ответить на два важных вопроса:
1. В какой момент происходит завершение непрерывного и целенаправленного развития коммуникативных систем позвоночных? Эти системы эволюционируют от «классических» вариантов, описанных у птиц и рыб, до более сложных систем, свойственных высшим млекопитающим и приближающихся к человеческому языку по своим характеристикам: используемым сигналам, содержанию сообщений и механизмам коммуникации внутри системы. Это было отмечено такими учёными, как Лоренц, Резникова и Зорина, а также другими исследователями.
2. Под влиянием каких факторов система общения, сопоставимая с той, что известна у высших приматов, преобразуется в язык? Этот процесс неизбежно гипотетичен, и компаративисты могут изучать его со своих позиций. Барулин также уделил внимание этому вопросу.
Пожалуй, наибольший интерес представляет исследование «завершающих шагов» в формировании человеческого языка – переход от сигнальной системы низших обезьян, которая не отличается от систем большинства позвоночных, к языку, изучаемому компаративистами.. [Cheney, Seyfarth 1990] описывает, как антропоиды могут использовать коммуникативные навыки для передачи информации другим особям в своей группе. Обезьяны могут передавать результаты своей индивидуальной познавательной, орудийной, исследовательской и другой деятельности, изменяя окружающий мир, с помощью общих для всей группы сигналов. Для этой цели они могут использовать как свои естественные сигналы, так и изученные языки-посредники, такие как амслен – американский язык глухонемых.
Важно отметить, что сравнительная этология и сравнительная лингвистика имеют общую сферу интересов – изучение дивергенции сигнальных систем в ходе исторического развития. Это может проявляться как в эволюции славянских языков, так и в разнообразии сигналов у птиц, например, в семействе утиных.
Однако, когда речь заходит о дивергенции сигнальных систем, обе дисциплины имеют в виду совершенно разные процессы. Этологов интересует ритуализация – преобразование ранее несвойственных выразительных движений в сигналы, которые служат специфическими средствами коммуникации и обладают свойствами знаков-индексов или знаков-символов.
В свою очередь, лингвистов занимает дивергенция коммуникативных систем, связанная преимущественно с изменениями в форме и значении уже существующих знаков. Именно поэтому проблема глоттогенеза остаётся столь острой и трудноразрешимой, не поддаваясь аналитическим и теоретическим инструментам как «дочеловеческих», так и «человеческих» сравнительных наук о знаковых системах.
Как отмечает А. Н. Барулин в своей работе «Происхождение языка» (2002), проблема возникновения языка (глоттогенез) носит комплексный характер, и для её решения необходимо использовать достижения различных наук: археологии, палеоантропологии, палеоневрологии, нейрофизиологии, нейроанатомии, психологии, лингвистики, этологии и других.
Однако простое накопление данных не может привести к прогрессу в исследованиях глоттогенеза. На данный момент главным препятствием для дальнейшего изучения является отсутствие единой концепции, которая могла бы объяснить, как именно человеческий язык развился из коммуникативных систем, свойственных позвоночным, а также указать на необходимые промежуточные этапы и факторы, способствующие этому процессу.
По нашему мнению, наиболее правдоподобной гипотезой об эволюции коммуникативных систем позвоночных, которая привела к появлению языка у человека разумного, является теория, выдвинутая этологом В. С. Фридманом (см. [Фридман 1995b], [Фридман 1999], [Барулин 2002]).
Прежде чем приступить к исследованию происхождения человеческого языка, необходимо четко определить те отличительные черты, которые выделяют его среди других естественных коммуникативных систем, особенно среди тех, что появились ранее в ходе эволюции.
Не претендуя на полное определение языка, мы можем выделить несколько его ключевых свойств, которые помогают понять его суть (см. [Hockett 1960]):
1. Язык представляет собой систему произвольных знаков, то есть таких, которые не имеют естественной связи с передаваемым ими смыслом.
2. Языковые знаки имеют звуковую форму.
3. Язык характеризуется так называемым «двойным членением»: из одних знаков образуются более сложные, а минимальные знаки состоят из элементов, которые сами по себе не имеют значения.
4. Язык безграничен: из его знаков можно создавать сообщения любой длины.
5. Язык предоставляет нам возможность обмениваться информацией, которая не связана с конкретной ситуацией, наблюдаемой в момент речи. Это свойство иногда называют «перемещаемостью».
6. Язык обладает высокой продуктивностью: из ограниченного набора базовых единиц мы можем создать бесконечное множество разнообразных сообщений.
7. Язык обладает свойством рефлексивности: он может использоваться для обозначения собственных единиц и описания своих характеристик.
8. Язык передается из поколения в поколение через обучение и подражание, а не генетически, хотя способность к овладению языком является врожденной.
9. Значение языковых знаков не зависит от их физической формы: одну и ту же информацию можно выразить с помощью устной речи, письменности, азбуки Морзе, языка глухонемых и других средств.
Чтобы коммуникативная система достигла «языкового» уровня, обладающего всеми перечисленными выше свойствами, требуется целый комплекс взаимосвязанных изменений в физиологии центральной нервной системы, а также в умственной деятельности и поведении, связанном с использованием орудий.
Прежде всего, необходимо наличие развитого головного мозга с зонами, отвечающими за понимание и производство речи. Эти зоны, как отмечает Барулин, не могут возникнуть в человеческом мозге без предшествующего развития ведущей правой руки, формирования центров, координирующих действия правой руки и зрительное восприятие обрабатываемого предмета, а также центра, отвечающего за построение звуковых и визуальных образов.
Чтобы обмениваться сообщениями о событиях, которые удалены от нас как во времени, так и в пространстве, нам необходимо обладать способностью мыслить о вещах, которые не находятся перед глазами. Также нам нужно уметь абстрагироваться, чтобы использовать языковые знаки с нетипичной связью между означающим и означаемым.
Мы должны иметь возможность думать обо всём на свете, включая сам язык. Без этого свойства рефлексивности не может быть. Ещё нам нужно понимать, как можно составить целое из отдельных частей, чтобы обеспечить двойное членение. И, конечно, нам необходима хорошая память, чтобы хранить длинные сообщения.
Чтобы речь была чёткой и разборчивой, необходим хорошо развитый речевой аппарат, который позволяет произносить множество различных звуков. Надгортанник должен находиться в таком положении, чтобы гласные не заглушали согласные. Также важно, чтобы спинной мозг был достаточно развит для точного управления специальным режимом дыхания, который обеспечивает тонкие модуляции при подаче воздуха на голосовые связки, как пишет Барулин (2002, 136).
Чтобы язык мог передаваться из поколения в поколение, необходима способность к подражанию. Для звукового языка это означает подражание звукам.
Этологи установили, что практически все перечисленные выше свойства языка в той или иной мере присутствуют в социальном общении рыб, рептилий, птиц и других позвоночных. Однако они проявляются на другой структурной и мотивационной основе и с использованием других механизмов коммуникации.
Связь между сигналами и их значениями в ритуальных демонстрациях позвоночных, как у разных видов, так и у различных сигналов, направленных на одну и ту же мотивацию, не является фиксированной.
Например, у большого пестрого дятла (Dendrocopos major) поза распластывания символизирует подчинение, а у малого острокрылого дятла (Dendrocopos kizuki) – угрозу.
У белоспинного дятла эта поза является частью брачной коммуникации, а у трехпалого дятла служит для того, чтобы прервать общение в случае неудачи.
У самых высокоразвитых птиц, таких как вороны, каждая пара закрепляет значения за элементами стандартного врожденного набора сигналов самостоятельно. Как только поведение человека становится частью общения и выбранные жесты начинают использоваться в рамках синтаксиса, который способствует эффективному взаимодействию, их внешний вид перестаёт зависеть от содержания передаваемых сообщений.
Сигналы-позы, используемые животными, имеют определенную семантику и делятся на так называемые «элементарные двигательные акты» (ЭДА). Это движения хвоста, крыла, корпуса и других частей тела, которые отклоняются на определённую величину от обычного положения в состоянии дневного покоя и готовности к действию. IV. Примеры философского осмысления языка
Одним из первых философов, ставивших вопросы о языке и его значении, был Платон в своем диалоге «Кратил». Он задавался вопросом, каким образом были даны имена объектам и явлениям, что демонстрирует связь между языком и нашим пониманием реальности. В дальнейшем более детальное внимание вопросам языка и мышления уделял Кант, рассматривающий категории разума, овладевающего языковыми конструкциями.



