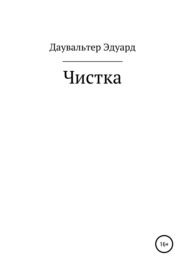 Полная версия
Полная версияЧистка
В период начального бардака Ягода сумел втереться в доверие к руководству ВЧК, сначала к Феликсу Дзержинскому, а затем и к Вячеславу Менжинскому. Последний души не чаял в нем, в всем ему доверял и помогал. Менжинский так ему доверял, что пренебрег правилом «не клади все яйца в одну корзину», он отдал полный контроль над центральным аппаратом ОГПУ Ягоде и его окружению. Такое доверие Ягода получил послушно выполняя распоряжения Менжинского, просто подхалимажем и «заботой» о здоровье. Когда больной Менжинский ездил на машине, Ягод, будучи уже большим начальником накрывал ему плед. Ягода «отблагодарил» Менжинского за все, приказав залечить его, убить весьма циничным способом. Ягода был оборотнем, который отлично вжился в личину коммуниста.
Ягода признал, что в 1928 г. действительно встал на сторону правых. Сталин тогда узнал об этом из троцкистской листовки, но за Ягоду поручился Менжинский и Сталин поверил, что это была «троцкистская клевета». Но это была правда. Ягода так признал это на допросе: «Это было в 1928 году, у Рыкова в кабинете. О характере этого разговора у меня в памяти сохранилось, что речь шла о каких-то конкретных расхождениях у Рыкова, Бухарина, Томского с Политбюро ЦК по вопросам вывоза золота и продажи хлеба. Рыков говорил мне, что Сталин ведет неправильную линию не только в этих вопросах. Это был первый разговор, носивший скорее характер прощупывания и подготовки меня к более откровенным разговорам.
Вскоре после этого у меня был еще один разговор с Рыковым. На сей раз более прямой. Рыков изложил мне программу правых, говорил о том, что они выступают с открытой борьбой против ЦК и прямо поставил мне вопрос, с кем я……Я сказал Рыкову следующее: "Я с вами, я за Вас, но в силу того, что я занимаю положение зампреда ОГПУ, открыто выступать на Вашей стороне я не могу и не буду. О том, что я с Вами, пусть никто не знает, а я, всем возможным с моей стороны, со стороны ОГПУ помогу Вам в Вашей борьбе против ЦК".»
Ягода тогда обманул Сталина и Менжинского, он признал, что выбрав правых, решил конспирироваться, ставя на первое место личное благополучие. Когда правые проиграли на легальном поле, он стал прикрывать их преступную деятельность, это стало очевидным после разговора Ягоды и Рыкова в конце 1929 г.: «…коль скоро речь шла о нелегальной работе правых, естественно повлекшей за собой репрессии, моя помощь правым уже не могла ограничиться информацией.
На меня центром правых была возложена задача ограждения организации от полного провала. В разговоре с Рыковым на эту тему я так определил свое положение: "Вы действуйте. Я Вас трогать не буду. Но если где-нибудь прорвется, если я вынужден буду пойти на репрессии, я буду стараться дела по правым сводить к локальным группам, не буду вскрывать организацию в целом, тем более не буду трогать центр организации".»
Ягода заявил, что Томский и Рыков были в нелегальной организации правых. Он признал, что завербовал в организацию правых Молчанова. С ним они создали некий «щит» для организации правых и троцкистов, за незначительными исключениями защищая их от провала: «Агентурные материалы об их контрреволюционной деятельности поступали со всех концов Советского Союза во все годы.
Мы шли на удары по этим организациям только тогда, когда дальнейшее их покрывательство грозило провалом нас самих. Так было с Рютинской группой, которую мы вынуждены были ликвидировать, потому что материалы попали в ЦК; так было с бухаринской "школкой", ликвидация которой началась в Новосибирске и дело о которой мы забрали в Москву лишь для того, чтобы здесь его свернуть; так было с троцкистской группой И.Н.Смирнова и в конце концов так продолжалось даже и после убийства Кирова.
Надо признать, что даже в таких случаях, когда мы шли на вынужденную ликвидацию отдельных провалившихся групп организаций, как правых, так и троцкистов и зиновьевцев, я и Молчанов, по моему указанию, принимали все меры к тому, чтобы изобразить эти группы организациями локальными, и в особенности старались скрыть действующие центры организаций.»
Все это можно с полной уверенностью отнести и к самому Ежову, который делал все, чтобы хоть малейшее подозрение не пало на него. Он репрессировал множество заговорщиков, потому что материалы все чаще уходили прямо в ЦК. На допросе Ягода признал, что не воспрепятствовал убийству Кирова. Называя имена сообщников в органах, он почти не называл имен тех, кто еще оставался на свободе. Или он мог их называть, но Ежов вычеркивал их из протоколов допросов перед отправкой Сталину. Исключением в протоколе допроса стал Петр Пакалн, бывший нач. 1 отдела АХУ НКВД СССР. Он еще не был арестован, но уже лишился доверия.
Наконец Ягода связал Радека с Бухариным, признав свои преступные контакты с ними. В этом протоколе допроса было достоверно все, кроме одного – рассказа Ягоды, как он с Булановым пытался убить Ежова. Новый нарком Ежов, несмотря на доверие ЦК всегда боялся, что его могут связать с правыми и искал пути противопоставления им. Что может быть лучше этого, как не попытка правых «убить» Ежова. Кто после такого заподозрит Ежова в связях с правыми? Михаил Фриновский свидетельствовал: «Безусловно, тут ЕЖОВЫМ руководила необходимость прикрытия своих связей с арестованными лидерами правых, идущими на гласный процесс.
По существу отравления ЕЖОВА. Мысль об его отравлении подал сам ЕЖОВ – изо дня в день заявляя всем замам и начальникам отделов, что он плохо себя чувствует, что, как только побудет в кабинете, чувствует какой-то металлический привкус и запах во рту. После этого начал жаловаться на то, что у него из десен стала появляться кровь и стали расшатываться зубы. ЕЖОВ стал твердить, что его отравили в кабинете, и тем самым внушил следствию добиться соответствующих показаний, что и было сделано с использованием Лефортовской тюрьмы и применением избиения.»
В Лефортовской тюрьме сидел Буланов, там его вынудили дать признательные показания по делу «отравления» Ежова, после чего Ягода дал такие показания: «Все мои мысли были направлены на то, как бы спасти свою шкуру. Мои люди оставались в НКВД. Спасением бы явился мой возврат в НКВД. Это при Ежове было невозможно. Я просил об оставлении меня в системе НКВД на любой работе, но мне отказано было. Рассчитывать на то, что следы моих преступлений будут скрыты, я не мог. И я решил убрать Ежова, убить его.»
4 мая Ягода продолжил давать показания, более подробно рассказывая о преступных действиях Молчанова, связи с И. Штейном (застрелился в 1936 г.), о том, что узнал от Гая про работу Уманского на германскую разведку, в этом он подозревал и Бертольда Илька. Всех шпионов он заставлял служить в интересах правых, через них он мог иметь выход на зарубежные правительства. Ягода рассказал, как в 1932 г. завербовал Матвея Погребинского и Сергея Пузицкого. Следующие два допроса прошли в уточнении деталей преступной деятельности группы Ягоды, 19 мая его допросил следователь Курский (тогда уже не начальник 4-го отдела ГУГБ) вместе с следователем Коганом. Ягода разложил так состав антисталинского заговора:
«В заговоре принимали участие следующие партии и группы, которые имели свои собственные организации:
1. троцкисты,
2. зиновьевцы,
3. правые,
4. группа военных,
5. организация в НКВД,
6. меньшевики,
7. эсеры.»64
Он дал ответ Курскому на вопрос о лидерах заговора:
«Вопрос: Вашими показаниями, таким образом, устанавливается, что в 1932-1933 гг. в стране был организован единый заговор для свержения советской власти, был создан центр вашего общего заговора, куда вошли:
1. Каменев, Пятаков – от блока троцкистско-зиновьевской организации.
2. Рыков, Томский – представляли центр организации правых, меньшевиков и эсеров.
3. Енукидзе – который представлял в этом центре правых, а также заговор в НКВД.
4. Корк – представитель заговорщической группы среди военных.
Так это?
Ответ: Да, так.»
Бухарин тоже входил в состав правого центра, но был слишком острожным конспиратором, передавая рискованные дела Томскому и Рыкову. Следствие продолжало набирать обороты.
Люди Ягоды
На февральско-мартовском пленуме пошатнулись позиции руководителя ГУГБ Якова Агранова, его вялые и довольно глупые оправдания оставляли мало возможностей на лучший исход для него. 15 апреля он был снят с поста главы ГУГБ, он был понижен до начальника 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР, на короткое время став главным следователем. Новым начальником ГУГБ и первым заместителем наркома стал Михаил Фриновский, это назначение было очень продуманным шагом со стороны Ежова. Фриновский считал себя одним из самых верных ягодинцев, по край не мере он так говорил. Так, заместитель начальника Управления НКВД по Московской области Александр Радзивиловский вспоминал слова Фриновского: «Вот Вы меня мало знаете, а я ведь не такой, как все начальники отделов центра. Я человек прямой и принципиальный. Все же эти Мироновы, Молчановы, Гаи, Паукеры лебезят перед Ягодой, разыгрывают из себя преданных ему людей, а по существу по отношению к нему они предатели. Я их вижу насквозь, они в глаза Ягоде говорят одно, а за спиной готовы его продать. Терпеть не могу это. Я люблю Ягоду, и он это знает, но это не мешает мне прямо ему в глаза говорить о том, что с теми или иными указаниями его я не согласен и всегда настою на проведении своей точки зрения. Именно за мою прямоту Ягода меня ценит, доверяет мне и знает, что я его не подведу. Я же его так люблю, что если потребуется, готов отдать за него свою душу. Все это я Вам говорю для того, чтобы Вы знали какой у меня характер».
Сложно сказать насколько был искренен Фриновский, он был мастером подхалимажа, это точно. Одновременно он поддерживал дружеские отношения с Евдокимовым, о чем Ягода догадывался и вряд ли испытывал какие-то иллюзии насчет верности Фриновского. Он никому не доверял полностью, в каждом из чекистских руководителей видел конкурентов. Поэтому он не отдавал Агранову возможность руководить ГУГБ. Теперь, когда он сам сидел в тюрьме, он ждал, что эти «верные» чекисты его поддержат. Радзивиловский далее рассказывал: «Когда Ягода был арестован, то следствием по его делу лично не только руководил, но и вплотную занимался Фриновский. Уже одно это обстоятельство вызвало во мне убеждение, что для чекистов, знавших близость Фриновского к Ягоде, его столь же близкое и активное участие в допросах Ягоды носит довольно прозрачный характер. Это подтверждалось еще тем, что бывая в Лефортовской тюрьме, я наблюдал участие в допросах Ягоды кроме Фриновского и Миронова. Участие Фриновского и привлечение Миронова к допросам Ягоды иначе нельзя было расценивать как желание показать или дать понять Ягоде, что близкие ему люди его не покидают, и взяли следствие в свои руки. Несколько позже я наблюдал, как вместе с Фриновским бывал в Лефортово, специально приезжавший из Ленинграда в Москву демонстрировать Заковский. Он был также известен широким чекистским кругам, как "ягодинский человек" и совместно с Фриновским участвовал в допросах Ягоды.»
Все они, Фриновский, Миронов, Заковский и все остальные руководители НКВД так или иначе были ягодинцами. Генрих Ягода был одним из руководителей органов 16 лет и фактическим руководителем около 6 лет, не было ни одного видного чекиста, не попавшего под его влияние. С этими чекистами Ежов теперь вел дело Ягоды. Чтобы сохранить себе карьеру и возможно жизнь, им теперь приходилось делать все, чтобы поскорее избавится от своего бывшего начальника и благодетеля. Ягода рассчитывал, что они его постараются вывести из под расстрельного удара, но где-то интуитивно он не мог не понимать, что его предают. Точно также, как он предал Зиновьева и Каменева. Он обещал им жизнь, что будет просить им смягчить наказание, а сам требовал в Политбюро расстрела.
Ежов, находясь совсем в другом положении, тоже не мог быть уверенным в своем чекистском коллективе, этим можно объяснить его частые перестановки кадров. Новый нарком н собирался опираться только на старые ягодинские кадры, он разбавлял их, во-первых евдокимовскими кадрами из Северного Кавказа, во вторых на своих выдвиженцев из партийных органов. Среди людей Ежова в НКВД можно выделить Владимира Церарского, бывшего работника аппарата ЦК и референта-докладчика Ежова, а также Михаила Литвина, начальника Отдела кадров ГУГБ НКВД, ранее он работал в ЦК УССР. Им обоим Ежов очень доверял.
Конструкция к концу апреля выглядела так – нарком Ежов, первый заместитель М. Фриновский, заместители М. Берман, Л. Бельский. 15 апреля к ним вместо Агранова в качестве нового заместителя присоединился В. Курский из северо-кавказской группы, он потеряв должность начальника 4-го отдела, одновременно возглавил 1-й (охрана правительства) и 3-й (контрразведка) отдел ГУГБ . Особыми отделами руководил И. Леплевский.
Глава четвертая. Вскрытие право-троцкистского заговора в РККА
Искусство военного переворота
История знает немало примеров успешных государственных переворотов, так и много провальных попыток осуществить что-то подобное. Слишком многие факторы в совокупности играли роль и чем больше было поставлено на карту, тем сложнее было это сделать. Как правильно делать военные путчи можно посмотреть на примере переворота в Чили 1973 г., когда группа военных во главе с Августо Пиночетом свергла режим легитимного президента Чили Сальвадора Альенде. Путчисты убедили президента Чили в своей лояльности, они даже подавили один путч, чтобы усыпить бдительность Альенде и добились отставки министра обороны Карла Пратса, сторонника конституционного строя. Сам глава заговора Пиночет был хитрым, осторожным и законспирированным главарем, уходя в отставку Пратс рекомендовал Альенде сделать новым министром именно Пиночета. Ни Пратс, ни Альенде не подозревали, что этим подписали себе смертный приговор и обрекли Чили на годы фашистской тирании. Предательство Пиночета показывает, что в подобных делах не знаешь от кого можно ожидать удар в спину, ведь изменником может быть каждый.
Классический пример попытки переворота с отрицательным итогом это неудачная попытка убить лидера германского нацизма Адольфа Гитлера и последовавший за этим провальный военный путч. Заговорщики могли бы свергнуть режим Гитлера даже после провала покушения, но их подвела одна вещь: нерешительность.
Нерешительность в первую очередь была связана с одним крайне важным фактором – Гитлером. Узнав, что он не умер в результате взрыва бомбы в его ставке 20 июля 1944 года, ряд заговорщиков отказались принимать участие в дальнейшем военном путче. Среди них был командующий группой армий «Д» (Западный фронт) Гюнтер Фон Клюге, который узнав, что Гитлер выжил, на предложения поднять военный путч лишь ответил: «Я пошел бы дальше, будь эта свинья мертва. Тогда другое дело.»
Командующий армией резерва генерал Фридрих Фромм тоже узнав, что Гитлер выжил отказался принимать участие в дальнейших мероприятиях по плану операция "Валькирия" и это полностью предопределило неминуемый провал заговора. Более того, он, стремясь, доказать Гитлеру свою верность сам стал преследовать заговорщиков, попутно избавляясь от неудобных свидетелей, коТорые могли его сдать. Для заговорщиков личность Гитлера значила чрезвычайно много, он просто подавлял их. Наверное, это часть внутреннего мира человека, диктаторы, праведные и неправедные удерживают власть силой своей личности.
Титаном был Иосиф Сталин, сам масштаб его личности был препятствием для заговорщиков в деле осуществления их замыслов. Но даже он не мог читать мысли людей и знать, от кого ему ждать удар? От военных? От чекистов? От товарищей по партии? От кого именно? И ждать ли вообще? Как и для Гитлера, Альенде готовившийся переворот должен был быть и стал бы для него неожиданностью. Однако в этом заговоре все карты легли так, что одни заговорщики стали мешать другим. Как я хорошо показал в «Заговор врагов» у заговора не было сплоченности, одни группы заговорщиков препятствовали другим. Предатели в НКВД боялись военной хунты и мешали им прийти к власти, а иностранные державы и их шпионы тоже стремились отсрочить свержение Сталина до лучших для них времен, когда Германия и ее союзники напали бы на СССР. Заговорщики начинали сами пожирать друг друга и эта ситуация все более усугублялась.
Сталин кое-что знал об оппозиционных группах, но он и понятия не имел, что заговорщики к 1936 г. контролировали буквально всю страну, за редкими исключениями: почти все республики, обкомы, крайкомы, военные округа, штаб армии, региональные отделения НКВД и центральный аппарат ведомства. Они создали колоссальный механизм вредительства по всей стране, что тормозило развитие. Гниение достигло ошеломляющих размахов, когда собирался очередной пленум, на него съезжались заговорщики и Сталин оставался в подавляющем меньшинстве, сам не зная этого.
Тем не менее Сталин по-прежнему был Сталиным, у него были верные соратники: Л. Каганович, В. Молотов. У него был мощнейший рычаг власти – партийный аппарат и его сотрудники: Г Маленков, М. Шкирятов, Л, Мехлис, Б. Двинский, М. Владимирский, Е. Ярославский. Последним редутом его крепости была личная охрана во главе с Н. Власиком и личный кабинет с секретарем А. Поскребышевым. На всех этих людей он мог твердо положиться.
Информация приходит из-за границы
К концу 1936 года военная группа в РККА «зашевелилась» предложив право-троцкистскому блоку ускорить осуществление военного переворота. Военные заговорщики ощущали, что после разгрома троцкистско-зиновьевской группы, раскрытия параллельного троцкистского центра и разоблачения заговора правых, рано или поздно могут выйти и на них.
На Чрезвычайном VIII съезде советов проходившим в декабре 1936 года заговорили о форсировании переворота. Крестинский свидетельствовал:
«На Чрезвычайном VIII съезде советов, Тухачевский поставил передо мной вопрос о необходимости ускорения переворота. Дело заключалось в том, что переворот увязывался с нашей пораженческой ориентацией и приурочивался к началу войны, к нападению Германии на Советский Союз, и поскольку это нападение откладывалось, постольку откладывалось и практическое осуществление переворота.»65
С конца января и до 15 марта Тухачевский отдыхал на курорте в Сочи. После чего появилось свидетельство санитарки местного госпиталя, где он делился впечатлениями о расстреле осужденных троцкистов:
«Я зашла в 30 палату, там были Овсянников и Тухачевский. Они меня не заметили. Тухачевский говорит Овсянникову: «Вот видишь, их расстреляли, я говорил, что надо давно было убрать – здесь Тухачевский нецензурно обругал товарища Сталина, – тогда бы мы в 24 часа переизбрали все правительство».66
Это определенно не устраивало Германию. Во-первых военно-политическое руководство Германии рассчитывало на свою пятую колонну в СССР, они должны были сыграть важную роль в поражении СССР в войне. Во вторых их не устраивало возможность прихода к власти бонапартиста Михаила Тухачевского, который мог вполне попытаться реализовать свои амбиции. Об его наполеоновских замашках было известно давно и за пределами СССР, он мог и двинуть советские танки в Европу. Так по край не мере считали некоторые люди в правящих кругах запада. Это опасение было и у правых в СССР, Николай Бухарин рассказывал об этом страхе: «Поскольку речь идет о военном перевороте, то в силу самой логики вещей будет необычайно велик удельный вес именно военной группы заговорщиков… и отсюда может возникнуть своеобразная бонапартистская опасность, а бонапартисты, я в частности имел в виду Тухачевского, первым делом расправятся со своими союзниками, так называемыми вдохновителями, по наполеоновскому образцу. Я всегда в разговорах называл Тухачевского «потенциальным Наполеончиком», а известно, как Наполеон расправлялся с так называемыми идеологами.»67
Всплывал и фактор Британии, речь о том, что военные заговорщики РККА были настроены в основном про-германски и хотели избавиться еще от одного персонажа – наркома иностранных дел Литвинова, большого англофила. В недрах системы власти и огромного заговорщического спрута происходила схватка германофилов и англофилов.
Глава нацистской пропаганды Йозеф Геббельс оставил некоторые записи в своем дневнике, проливающие свет на происходившее противостояние. Неизвестно, насколько Гитлер посвящал его в международные дела и комбинации спецслужб, но кое-что Геббелс знал. Он писал 25 января 1937 года, комментируя второй московский процесс: «Сталин прижимает евреев. Военные, должно быть, тоже настроены против евреев. Надо следить и ждать. С нетерпением они ждут падения и ареста Литвинова.»68
В тексте нет более конкретных деталей, ни имен. В РККА были англофилы и германофилы. Репутацию англофила и германофоба имел Михаил Тухачевский, что, конечно же, не мешало ему вступать с немцами в союз против Сталина. Напротив, германофилом был Иероним Уборевич, судя по всему эти симпатии, в конечном счете, не играли определяющей роли в последовавших событиях. Куда важнее было деление военных на заговорщические группы, их было судя по всему три: троцкистская (Гамарник, Якир, Уборевич), право-бонапартистская (Тухачевский, Фельдман) и правая егоровская (Егоров, Федько, Белов, Каширин, Дыбенко). Отдельно на Дальнем Востоке сплел заговор маршал Блюхер. Все они конкурировали друг с другом и взаимодействовали в одном большом заговоре против Сталина. К этим группам примыкало еще около 500 высокопоставленных военноначальников в центральном аппарате армии и военных округах.
Германия в этом раскладе делала ставку на третью группу маршала А. Егорова, главному стратегическому активу Германии в СССР Николаю Ежову предстояло предотвратить потенциальный военный переворот, сделав это так, чтобы егоровская группа осталась целой. Германская разведка уже проводила в жизнь комбинацию по сбросу компрометирующих материалов на Михаила Тухачевского и его группу. Эта операция проводилась политической полицией Германии: начальником гестапо Райнхардом Гейдрихом, его подчиненным Вальтером Шелленбергом и шефом уголовной полиции Генрихом Небе. Они были осведомлены, что в военных архивах находились документы, дискредитирующие советских военных.
При этом Гитлер явно не доверял военным, у которых была сильна скрытая оппозиция. Они могли предупредить маршала об грядущих арестах. Шелленберг пишет в «Лабиринте»:
«В соответствии со строгим распоряжением Гитлера дело Тухачевского надлежало держать в тайне от немецкого командования, чтобы заранее не предупредить маршала о грозящей ему опасности. В силу этого должна была и впредь поддерживаться версия о тайных связях Тухачевского с командованием вермахта; его как предателя необходимо было выдать Сталину. Поскольку не существовало письменных доказательств таких тайных сношений в целях заговора, по приказу Гитлера (а не Гейдриха) были произведены налеты на архив вермахта и на служебное помещение военной разведки. К группам захвата шеф уголовной полиции Генрих Небе прикомандировал специалистов из соответствующего отдела своего ведомства. На самом деле, были обнаружены кое-какие подлинные документы о сотрудничестве немецкого вермахта с Красной Армией. Чтобы замести следы ночного вторжения, на месте взлома зажгли бумагу, а когда команды покинули здание, в целях дезинформации была дана пожарная тревога.»69
В этом отрывке очень важно то, что Шелленберг признает главное – документы реально были, они позволяли утверждать, что заговор был и крупные советские военноначальники изменили родине. Шелленберг работу с документами описывал кратко так: «Теперь полученный материал следовало надлежащим образом обработать. Для этого не потребовалось производить грубых фальсификаций, как это утверждали позже; достаточно было лишь ликвидировать «пробелы» в беспорядочно собранных воедино документах. Уже через четыре дня Гиммлер смог предъявить Гитлеру объемистую кипу материалов.»
К сожалению, он так и не рассказал, что это были за документы, но скорее всего в них были также секретные военные документы, в частности генеральный план РККА. Да, получив такие документы и сличив их с оригиналами в НКО и Генштабе, Сталин мог получить абсолютное доказательство большой измены. Но в приготовленном досье должны были быть материалы, которые указывали, что именно определенные военные совершили измену.
Советское руководство ране получало информацию из Германии по своим каналам, так 16 января 1937 года главред «Правды» Лев Мехлис прислал Сталину сообщение корреспондента издания в Берлине Климова, где было в частности сказано:
«IV. Мне стало известно, что среди высших офицерских кругов здесь довольно упорно говорят о связях и работе германских фашистов в верхушке командного состава Красной Армии в Москве.
Этим делом по личному поручению Гитлера занимается будто бы Розенберг. Речь идет о кружках в Кр[асной] Ар[мии], объединяющих антисемитски и религиозно настроенных людей. В этой связи называлось даже имя Тухачевского. Агитация идет по линии освобождения русского народа от «еврейского ига».

