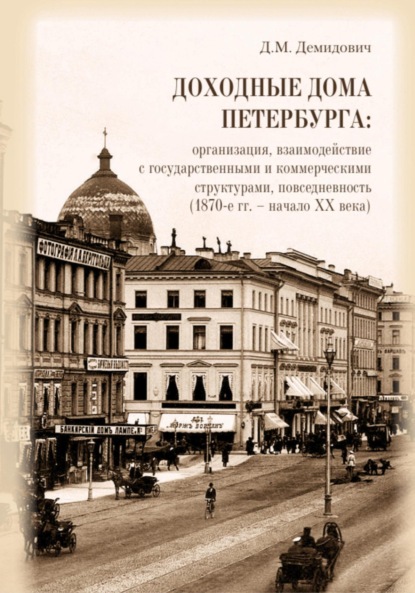
Полная версия:
Доходные дома Петербурга: организация, взаимодействие с государственными и коммерческими структурами, повседневность (1870-е гг. – начало XX века)
В зарубежной литературе достаточно часто анализируются вопросы, связанные с повседневной жизнью европейских[57] городов и городов Северной Америки[58] второй половины XIX – начала XX веков, однако исследования, посвященные этому аспекту истории Санкт-Петербурга, встречаются редко. В 1996 году была опубликована работа немецкой исследовательницы А. Рустемейер[59]. В ней автор исследует различные аспекты жизни домашней прислуги Петербурга и Москвы в 1861–1917 годах. А. Рустемейер изучает пути формирования этой социальной группы, анализирует условия труда прислуги, возможности ее социальной мобильности. Автор выделяет два важнейших фактора, определивших положение прислуги в исследуемый период: вытеснение мужского домашнего персонала женской прислугой и появление общественной дискуссии о «проблеме прислуги». Одним из главных выводов, к которому приходит А. Рустемейер, является утверждение, что институт домашней прислуги в России оставался «бастионом доиндустриального общества», сохранившим патриархальные отношения, характерные для эпохи крепостного права.
Необходимо отметить, что отдельной работы, посвященной влиянию жилищного пространства на становление поведенческих практик в исследуемый период, не существует. Данное исследование должно заполнить эту лакуну.
Источниковая база монографии. Исследование выполнено на основании анализа комплекса источников различного происхождения: законодательных актов, делопроизводственных документов (купчих, закладных, документов страховых обществ), источников личного происхождения (мемуаров, дневников, писем), материалов периодической печати и статистических данных.
Монография опирается на нормативно-правовые документы для определения правовой составляющей жизни столичных обывателей в 1870-х гг. – начале XX века. В ходе исследования анализировались гражданское[60], налоговое[61] и административное[62] законодательства. Были проанализированы Строительный[63], Пожарный[64] уставы и Устав о наказаниях[65]. Однако на основании анализа этих источников невозможно определить, насколько точно правовые нормы воплощались в жизнь. Для этого необходимо было привлечь другой пласт источников – протоколы и повестки, посылаемые приставами домовладельцам, полицейские хроники.
В исследовании использовались различные делопроизводственные документы, позволяющие исследовать повседневные практики обывателей Петербурга в 1870-х гг. – начале XX века с различных ракурсов.
Большой интерес для данного исследования представляют документы, представленные в фонде Управления Петроградского градоначальства и столичной полиции[66]. В исследовании использованы документы из описи 4 (Отдел по взысканиям за 1882–1907): приказы о наложении штрафов и протоколы дознаний домовладельцев. Кроме исследования нарушений различных правовых норм (строительных, пожарных, санитарных, административных), они дают возможность проследить взаимодействие полицейских чинов с различными обывателями Петербурга: домовладельцами, дворниками, жильцами доходных домов, прислугой.
Для раскрытия темы исследования также использовались документы мировых судебных участков[67] и Петроградского окружного суда[68], содержащего большое количество дел о нарушении арендных договоров, строительных норм, разбирательства со страховыми компаниями, вопросы о выселении из арендованного жилья. Эти документы позволяют сформировать представление о конфликтных ситуациях, возникавших между домовладельцами и государственными структурами, и между домовладельцем и жильцами, а также существовавшие пути решения этих конфликтов.
Кроме этого, были проанализированы документы, хранящиеся в фонде Петербургской распорядительной думы[69]. Для данного исследования наибольший интерес представляла третья опись, содержащая документы о взыскании государственных податей и городских недоимок с недвижимого имущества.
Еще одним источником являются материалы фонда Петроградского кредитного общества[70]. Фонд содержит описи доходных домов, заложенных домовладельцами, в том числе сведения об арендаторах. На основе этих данных были составлены сводные таблицы по прибыльности доходных домов, по удобствам, которые предоставлялись домовладельцами при сдаче квартир, по качественному и количественному составу населения доходных домов, что позволило проследить предпочтения различных слоев населения в выборе места жительства. Так как дома закладывались по нескольку раз, то появилась возможность изучить тенденции смены жильцов в доходных домах и изменения цены квартиры и условий аренды.
Важным источником являются домовые книги[71], которые представляют собой алфавитную регистрационную книгу жителей доходного дома, с указанием личных данных проживающего, даты прибытия и отъезда жильца из квартиры, а также его нового местожительства. Для данного исследования было решено выбрать домовые книги пяти доходных домов различной ценовой категории в разных частях столицы. Это позволило на основе анализа небольшого количества домовых проследить пути внутригородской миграции населения.
Кроме этого, в исследовании использованы справочные книги для полицейских чинов[72], дающие представление о взаимодействии домовладельцев и управляющих с городской полицией. Несмотря на то, что «Настольный полицейский словарь» издан в Одессе он представляет интерес для данного исследования, так как опирается на законы и требования к полицейским чинам, распространенные на всю территорию Российской империи в исследуемый период, не исключая и Санкт-Петербург. Кроме этого, он включает в себя образцы протоколов и донесений, которые должны были составляться в случае обнаружения нарушений со стороны домовладельцев. Сопоставление их с протоколами, хранящимися в фонде Петроградского окружного суда (ЦГИА СПб), дает представление о взаимоотношениях домовладельцев с полицией и о тех нарушениях, которые допускались полицейскими чинами при оформлении протоколов.
Для анализа арендных и субарендных отношений важным источником являются квартирные книжки[73]. В них содержится информация о правилах проживания в квартирах, сроках внесения платы за найм жилья, описание снимаемой квартиры, а так же права и обязанности квартиранта[74].
Еще одним источником, касающимся жилищной сферы, являются опубликованные данные городских переписей, проводившихся раз в 10 лет (1881 г., 1890 г. и 1900 г.).
Подворная ведомость заполнялась домовладельцем или ответственным лицом. Ее вопросы касались общей характеристики домовладения: количество жилых строений, материал, из которого они сделаны (камень, дерево или смешанный), сколько этажей (не считая подвала и чердака), количество квартир в подвале и на чердаке. Существовал ряд вопросов, касающихся благоустройства: наличие системы отопления (горячая вода, пар или нагретый воздух) во всем доме или только в части его, количество квартир с ватерклозетами и без них, сколько ватерклозетов вне квартир и сколько простых отхожих мест, количество выгребов и помойных ям.
Результаты переписей публиковались в нескольких томах, причем в разные годы количество томов и их содержание отличалось. Перепись 1881 года была опубликована в трех томах: «Население»[75], «Квартиры: жилые занятые»[76], «Квартиры нежилые и свободные»[77]. Сведения о переписи 1890 года разделены на пять томов, и информация о жилищах помещена во втором томе «Квартиры»[78], в третьем томе «Дворовые места»[79] и в четвертом томе «Общий обзор данных переписи»[80]. Данные, необходимые для данного исследования, в переписи 1900 года размещены в томах «Распределение населения по занятиям»[81] и «Квартиры и дворовые места»[82]. На основе данных этого источника были созданы графики и таблицы, позволяющие сравнить стоимость аренды жилья в различных районах Петербурга, стоимость квартир на различных этажах, количественный состав жильцов.
Одним из важнейших источников по истории повседневной жизни доходных домов стали дневники и воспоминания. Важной информацией, которую можно из них почерпнуть, является описание бытовой стороны жизни горожан. Данный вид источника позволил проанализировать межличностное взаимодействие между арендаторами квартир и домовой и домашней прислугой.
Дневники Софьи Ивановны Смирновой-Сазоновой содержат информацию практически обо всех аспектах повседневной жизни петербуржцев, начиная с 1877 года. Дневники затрагивают вопросы поиска квартир, найма прислуги, взаимодействия с другими горожанами. Кроме этого, С.И. Смирнова-Сазонова сама являлась домовладелицей, и поэтому описывает ситуации, информацию о которых найти в других дневниках, воспоминаниях и мемуарах практически невозможно – вопросы обслуживания доходного дома[83].
Кроме этого, в исследовании использованы материалы дневников и мемуаров Ольги Викторовны Сенкевич[84], Ольги Георгиевны Гудковой[85], О.М. Мещерской-Зоммар[86]. Важным источником является тетрадь с воспоминаниями Марии Скудре[87]. Уникальна она тем, что является воспоминаниями прислуги и дает возможность понять отношение обслуживающего персонала к своим хозяевам, их мнение относительно условий труда и требований, предъявляемым со стороны нанимателей.
В мемуарной литературе сложнее, чем в дневниках, найти сведения, характеризующие взаимоотношения с домовладельцами, полицией и домовой прислугой. Чаще всего в них описаны воспоминания о состоянии квартиры и домашней прислуге – няньках, горничных, кухарках. Сведения, содержащиеся в подобных источниках, в большей степени затрагивают обязанности прислуги и отношение прислуги к хозяйским детям. К подобным воспоминаниям можно отнести мемуары известных горожан Санкт-Петербурга – Д.С. Лихачева[88], Л.В. Успенского[89], Д.С. Мережковского[90], К.Е. Кильштета[91], П.А. Пискарева[92] и др.
Существует ряд мемуарных источников, чьи авторы ставили своей целью описать быт современного им Петербурга. Так, например, С.Ф. Светлов писал: «Будучи любителем бытовой истории, я хочу сослужить маленькую ей службу – показать, как жили обыватели русской столицы в исходе XIX столетия, показать мелочи жизни, не претендуя ни на ученость, ни на глyбoкoмыслие»[93]. Похожую задачу ставили перед собой авторы издания «Из жизни Петербурга 1890 – 1900-х годов. Записки очевидцев»[94]. Они несколько отличаются от обычных воспоминаний. Их особенность в том, что авторы, кроме собственных воспоминаний используют данные периодической печати и других изданий конца XIX века, исследования, посвященные Петербургу рубежа веков.
В связи с ростом количества коммерческого жилья стали появляться специальные издания, направленные на решение вопросов, связанных с доходными домами. Наиболее активно этот процесс отразился в периодической печати.
В 1878–1885 годы выходил журнал «Хозяйственный строитель»[95]. Издание было адресовано в первую очередь владельцам коммерческой недвижимости. В журнале печатались статьи, посвященные строительным материалам, новым способам ремонтных работ и содержанию различных частных построек.
Крупнейшим журналом для владельцев доходных домов Санкт-Петербурга был журнал «Домовладелец». Он содержит информацию о взаимоотношениях владельцев доходных домов с жильцами, проверяющими службами и обслуживающим персоналом. Журнал выходил с 1894 по 1898 год. В нем публиковались материалы, необходимые для управления домом, такие как новые правительственные постановления, цены на строительные материалы и расценки на труд рабочих, рекламные объявления различных структур, обслуживающих дома – телефонные компании, компании по установке лифтов и т. д. Также в нем появлялись статьи, которые рассматривали отношения домовладельцев с квартирантами с морально-этической точки зрения. Авторы защищали человеческое достоинство домовладельцев, опровергая обвинения, которые появлялись в газетах, о желании только заработать денег и нажиться на «несчастных квартирантах». С 1910 года в Москве выходила еженедельная с таким же названием. Данная газета представляет большой интерес для исследования поскольку правила ведения хозяйства для домовладельцев двух столиц практически не отличались. В данном издании публиковались статьи, посвященные застройке, арендным отношениям, вопросам обслуживания доходных домов.
В конце XIX века домовладельцы нашли новый способ поиска квартиросъемщиков, публикуя объявления о свободных квартирах в газетах. Иногда попадались объявления и со стороны нанимателей. В последнее десятилетие XIX века стало выходить большое количество специальных газет с объявлениями о сдаче квартир в наем. Самые известные в те времена – «Санкт-Петербургский справочный листок», «Публикации, справки и заявления», «Адресный листок», «Столичные объявления», «Столичный спрос и предложение. Контора Копаныгина». Рекламные объявления содержат важную информацию о том, что было интересно для человека, занятого поиском жилья. Для данного исследования материалы рекламных объявлений необходимы для выявления мнения горожан о том, что могло считаться привлекательным при найме жилья в рассматриваемый исторический период. Кроме этого, данные объявления дают представление о стоимости арендного жилья в различных районах города, о сроках найма и о размерах сдаваемых квартир.
Кроме объявлений об арендных вопросах, большой интерес представляют материалы официальной прессы, в которой публиковались постановления Петербургского (Петроградского) градоначальства и столичной полиции, материалы судебных заседаний, освещались прочие вопросы, волновавшие городских обывателей[96]. Кроме этого, использовались публикуемые в специальном разделе газете «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции» указы петербургского градоначальника, обер-полицмейстера и других городских чинов. Эти источники дают представление о том, каким образом доходный дом и его владелец вписывались в правовое пространство Санкт-Петербурга в 1870-х гг. – начале XX века.
В XIX веке существовал большой пласт специализированных газет. Для домовладельцев также выпускалась своя газета[97]. В ней публиковалась актуальная для собственников недвижимости информация: перечень земель в городе, сдающихся в аренду, существующее законодательство по вопросам недвижимости, объявления о продаже и покупке домов, обсуждались вопросы цен и т. д. Данная газеты дает возможность изучить круг вопросов, волновавших домовладельцев в 1870-х гг. – начале XX века. Кроме этого, она позволяет проследить пути решения проблемных ситуаций, возникавших у собственников недвижимости в городах.
Для анализа бытовых особенностей жизни горожан в квартирах доходных домов использовалась художественная литература 1870-х гг. – начала XX века[98]. Однако у подобных источников существует своя специфика. Как правило, в художественной литературе описываются квартиры городской бедноты, где снимались комнаты, углы, койки и полкойки. И посвящены они жизненной трагедии «маленького человека». Описание повседневного быта в квартирах состоятельных горожан практически не встречается.
Тем не менее, художественная литература является весьма интересным источником сведений о той эпохе, и позволяет реконструировать межличностные отношения между жильцами квартир, прислугой и владельцами домов. Кроме этого, художественная литература, дает представление о том, какие вопросы были значимы для горожан при выборе жилья, прислуги, что воспринималось горожанами как норма и как отклонение от нее. Художественная литература как источник дает представление об отношении городского населения к вопросам арендных отношений: с одной стороны, собственников недвижимости, а с другой – арендаторов и субарендаторов.
Данный обзор показывает наличие многочисленных и разнообразных источников, в комплексе они позволили раскрыть тему исследования, то есть изучить межличностные отношения домовладельцев, жильцов и прислуги, а также формирование различных поведенческих практик.
Глава I. Домовладелец
§ 1. Домовладелец как представитель «городского сословия»
Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона домовладелец – это «собственник дома. Выражение это употребляется по преимуществу для обозначения собственников городских зданий. В этом качестве домовладельцы обладают рядом прав в области городского самоуправления; на них же лежит и целый ряд повинностей по отношению к соседям и всей совокупности городских граждан. <…> Домовладельцы в настоящее время у нас считаются основными жителями городов, его постоянным элементом, заменившим прежние “городские сословия” по своему общественному и юридическому положению»[99].
В реальности назвать домовладельцев Петербурга «основными жителями города» не представлялось возможным. В 1895 году только 12 % домов принадлежали хозяевам и не приносили доход, остальное жилье строилось для сдачи в аренду. Среди собственников доходных домов преобладали дворяне, «среди домовладельцев – 50 %, а домовладелиц – 30 %»[100]. Второе место среди домовладельцев занимали купцы, а самый незначительный процент владельцев жилой недвижимости столицы составляли мещане и крестьяне.
Высчитать точное количество домовладельцев Петербурга возможно только приблизительно. В переписи населения, производимые в Петербурге в 1870-х гг. – начале XX века, домовладельцы вписывались вместе с горожанами, жившими за счет капитала. Во всех дореволюционных справочниках и статьях, где указываются числовые данные о домовладельцах, используются эти цифры. Так, согласно данным журнала «Домовладелец», собственники доходных домов составляли около полпроцента всего городского населения Петербурга[101]. Если произвести математические вычисления, то получится, что порядка 5 тысяч жителей Петербурга являлись домовладельцами. Подобная цифра представляется несколько завышенной.
По Городовому положению 1870 года избирательное право предоставлялось каждому городскому обывателю, владевшему недвижимостью в черте города и уплачивающему с него налоги. Этот налог взимался, в том числе, и с владельцев доходных домов, поэтому они принимали активное участие в управлении Санкт-Петербурга[102]. Однако по Городовому положению 1892 года избирательное право осталось лишь у владельцев недвижимого имущества, оцененного более чем в 3 тысячи рублей[103]. Стоит отметить, что эти изменения не сильно затронули собственников коммерческой недвижимости, так как большинство зданий, построенных для сдачи квартир в наем, к концу XIX века стоили более 3 тысяч рублей[104]. Этот тезис также подтверждается тем, что в 1890 году более трети всех домов Петербурга приносило ежегодных доход более 4 тысяч рублей, а доходность наиболее крупных превышала 50 тысяч рублей[105]. Однако часть мелких собственников, чьи дома, как правило, располагались на окраинах города, все же была отстранена от решения важных городских проблем. Это привело к тому, что основные меры по благоустройству столицы были направлены, прежде всего, на центральные районы города[106].
В 1870-е гг. – начале XX века в среде обывателей сформировался образ «домовладельца-кровопийцы». Во многих литературных произведениях того времени рисуется нелицеприятный образ владельца доходного дома. Так, например, в рассказе «Судьба» В. Авсеенко рисует образ глупого и жадного домовладельца: «С каждым годом, а где можно, то и чаще, Илья Ильич Ерогин все надбавлял и надбавлял на квартиры, так что они приносили теперь уже вдвое против первоначальной цены. Вместе с тем он подтягивал жильцов и в других отношениях. В контракты с ними вносились все новые и новые пункты, один строже другого… Илья Ильич и сам хорошенько не знал, на что ему все эти пункты, но он рассуждал очень просто, что если жильца можно теперь в бараний рог согнуть, то глупо было бы этим не воспользоваться»[107]. Такое же отношение к домовладельцам можно найти у Н.А. Лейкина в рассказе «Домовладелец»: «На моей земле живешь, в моих стенах существуешь, да меня же и вон… Это вот я, так точно, что во всякое время и с мебелишкой твоей могу тебя из квартиры вышвырнуть. А мы давай лучше в мире жить. С домохозяином ссориться не след. Он покарать жильца может и помиловать. ˂…> Да впредь веди себя хорошенько. Такая поведения по-нынешнему нейдет. Я вот хотел на тебя только шестьдесят рублей в год за квартиру-то набавить, а теперь за твое непочтение накину сто двадцать»[108]. О.М. Меницкая-Зоммер в своих мемуарах пишет: «Владелец, брызжа слюной, и от сырости с каплей из носа выходил из себя, доказывая, что квартира настолько суха, что бывший раньше жилец мочил табак, т. к. он сох. Генерал говорил против нас, что мы делаем ванны ребенку и мочим окорока, (мать прислала копченый окорок к Рождеству) и сами разводим сырость»[109]. А к 1917 году эта тенденция еще более усилилась. Как отмечает В.Б. Аксенов, в связи с падением темпов жилищного строительства из-за Первой мировой войны, спрос на жилье в Петрограде к 1917 году значительно превысил предложение. Это привело к «самой беззастенчивой эксплуатации на почве жилищной нужды. Домовладельцы притесняют квартирантов, последние – своих комнатных жильцов, а те, в свою очередь, угловых нанимателей»[110]. И образ домовладельца-кровопийцы прочно укоренился в сознании городских обывателей.
Этот вопрос не оставил безучастными самих домовладельцев. В специализированных журналах нередко встречаются заметки, в которых обсуждается эта проблема. В журнале «Наше жилище» в 1894 году в заметке «Домовладельцы и наниматели» Егор Марков отмечал: «нападкам со стороны большой и малой прессы у нас больше всего подвергаются люди свободных профессий <…> К упомянутому классу излюбленных писательских жертв принадлежат несомненно и домовладельцы. В последнее время на них посыпались нападки со всех сторон»[111].
§ 2. Взаимодействие домовладельцев с государственными структурами
Отношения домовладельцев с властными структурами были четко регламентированы. Было задано все, начиная с момента покупки земли, проектировки и строительства дома и заканчивая налогами и информацией для полицейского участка о жизни жильцов.
Покупка и аренда земли
А.С. Сухорукова в своей статье «Мобилизация недвижимого имущества и особенности ценообразования в С.-Петербурге в XIX – начале XX вв.» отмечает, «земли находящиеся в черте города ценились в первую очередь не по своим внутренним качествам – плодородию или наличию в них каких-либо полезных ископаемых. Главная ценность земли в городе заключалась в ее местоположении, то есть ценилось не сама земля, а место»[112]. А в связи с развитием и ростом Петербурга свободных участков для постройки жилых зданий становилось все меньше, и их стоимость неуклонно возрастала. Например, участок домовладелицы А. Пальниковой на Гулярной улице за двадцать лет подорожал в 10 раз. Стоимость квадратной сажени ее земли по определению городской оценочной комиссии составляла: в 1886 г. – 10 рублей, в 1898 г. – 35 руб., 1900 г. – 80 руб., 1903 г. – 90 руб., 1906 г. – 100 рублей[113]. Участок под доходным домом купца Е.С. Егорова (Знаменская ул., д. 35) за 14 лет с 1885 по 1914 подорожал в более чем в три раза. Согласно документам Петроградского кредитного общества 30 ноября 1885 года земельный участок размером в 1033.83 квадратные сажени был оценен в 102349 рублей 50 копеек, то есть по 99 рублей за квадратную сажень[114]. Согласно расценочным ведомостям на землю[115] в 1894 году квадратная сажень земли под этим домом стоила уже 100 рублей, в 1899 – 125 рублей, а в 1914 – 300. Земельные участки на Невском проспекте поднялись в цене с 450 рублей в 1894 году до 1500 в 1914. В некоторых районах Петербурга рост цен мог превосходить даже этот показатель. Квадратная сажень земли на Колмовской улице выросла в 15 раз (с 1 рубля в 1894 году до 15 рублей в 1914), на Екатеринославской улице на участке от Обводного канала до Курской улицы в 20 раз, на Глинской улице – в 25 раз (с 1 рубля в 1894 году до 25 рублей в 1914), на Захарьевской улице на участке между Литейным Воскресенским проспектами в 50 раз (с 5 рублей в 1894 до 250 в 1914).
Оценка земли в Петербурге в 1870-х гг. – начале XX века была не простым делом. Так как цены за квадратную сажень земли в пределах города варьировалась от одного рубля до нескольких сотен[116], то будущий домовладелец при приобретении земельного участка вставал перед необходимостью проводить сложные расчеты для определения его стоимости. В основу вычислений чаще всего клали расценочной ведомости, которые составлялись Петербургским кредитным обществом[117]. В них приводились расценки за 1 квадратную сажень земли (4,56 кв. м) по каждой улице, переулку и по всем незастроенным участкам, включенным в городскую черту. Однако сами домовладельцы отмечали, что полагаться на цены расценочных ведомостей не стоит[118]. Это было связано с тем, что стоимость земельных участков возрастала значительно быстрее, чем Кредитное общество проводило выпуск расчетных ведомостей[119]. Кроме этого, при оценке земли, Общество ставило перед собой только одну цель – понять какую максимальную ссуду можно дать под залог данного участка. Поэтому цены на землю в расценочных ведомостях были на порядок ниже действительной стоимости участка.

