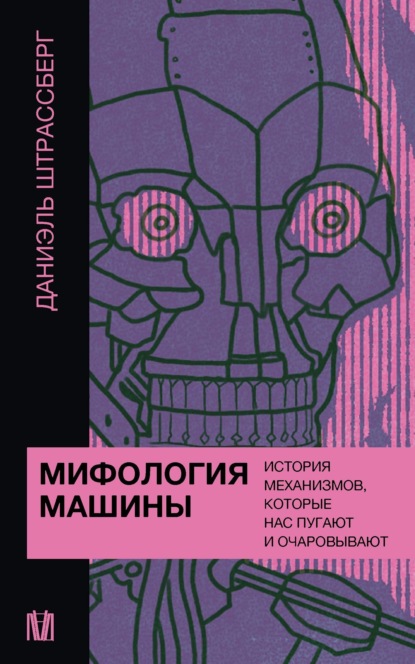
Полная версия:
Мифология машины. История механизмов, которые нас пугают и очаровывают
Ученые люди, как правило, хвастаются своими знаниями и умениями, а невежественные приписывают им сверхчеловеческие способности. Но «они задолго предвидят будущее затмение солнца и не видят собственного в настоящем»[94]. Тот, кто смотрит в будущее, перестает заглядывать в себя. Знание – семя гордыни, ибо, продолжает Августин, оно превращает восхищение Богом (admiratio) в восхищение собой (лат. superbia, греч. hybris)[95].
Более того – и это, пожалуй, самое важное возражение против научного знания – оно может препятствовать самопознанию. Те, кто слишком увлечен небесными вещами, слишком мало размышляют о самих себе и своих грехах и тем самым рискуют лишиться Царства Небесного, например потому, что самонадеянно считают себя непорочными. Любопытство также всегда сопряжено с волнением, а это противоречит высокому идеалу внутреннего покоя.
Очевидно, эрудиция, знания и способности считаются признаками высокомерия отнюдь не со времен Трампа и его антиэлитарной риторики. То, что машины и автоматы стали символами высокомерия в Средние века (и остаются таковыми до сих пор), связано с социально-экономическим развитием в XII, XIII и XIV веках. В то время Европа переживала беспрецедентный экономический подъем. Технический прогресс в сельском хозяйстве повысил продовольственную безопасность сельского населения, и теперь поля давали столько урожая, что его излишки можно было привозить в города и продавать там. Крестьяне, которые до этого времени были самодостаточными, теперь могли покупать на полученную прибыль продукцию, которая производилась профессионалами. В растущих городах сформировалась новая группа свободных людей – ремесленники. Ремесленничество обозначало не только профессиональную деятельность, но и социальный статус.
Образ свободного ремесленника знаменовал собой решающий поворот в эмоциональной истории техники: он стал ядром постепенно формирующейся городской буржуазии. Хотя политически ремесленник оставался лишенным влияния вплоть до основания гильдий, тем не менее он был как минимум свободен и творчески активен. В глазах Церкви свобода и творческая деятельность были, конечно, исключительно Божественными атрибутами.
В это время Бог фактически превратился из крупного землевладельца с крепостными, которые обрабатывали Его землю, в ремесленника, точнее, в строителя, до того, как в XVII веке Он стал часовщиком[96]. Уже в «Послании к Евреям» мы читаем: «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог» (Евр. 11:10). Не только в христианской, но и в древнеегипетской и индуистской мифологиях божество отождествляется со строителем, архитектором или основателем городов. В мифологии инков бог солнца посылает на землю своих детей-близнецов с золотым жезлом. Они вбивают жезл в центр земли, и на этом месте появляется город Куско. Сегодня эта метафора лежит в основе масонства: Творец – Великий Архитектор всех миров. В конечном счете, Он построил machina mundi.
На то, что человек создает Бога по своему образу, обращает внимание в том числе Людвиг Фейербах[97]. При этом он и другие сторонники теории проекции упускают из виду, что тот, кто переносит свои внутренние импульсы на высшую инстанцию, запрещает их самому себе. Во всяком случае, христианский Бог не терпит рядом с собой других свободных и творческих существ, таких как ремесленники, потому что иначе ему пришлось бы делить с ними восхищение. Так, для английского ученого конца XII века Александра Некама все ремесла были под подозрением, поскольку они соперничают с природой и присваивают себе восхищение, которого достоин Бог: «О, тщеславие! О, тщеславное любопытство! О, любопытное тщеславие! Человек, страдающий от недуга непостоянства, разрушает, строит, делает квадратное круглым»[98].
Средневековая демонизация машин берет свое начало в подозрительном отношении Церкви к свободному ремесленнику и к свободе вообще, ведь ремесленник олицетворяет свободу. Невозможно, чтобы рядом с традиционной иерархией развивалось независимое государство свободных и творческих субъектов. Создается дьявольское параллельное общество! Творцом может быть только Бог. И, конечно, дьявол. «Дьявол – удивительный мастер (mirbalilis artifex), ибо с помощью определенного искусства он может творить естественные вещи, о которых мы ничего не знаем»,[99] – пишет Меланхтон. Дьявол-ремесленник создает не только подделки и иллюзии, но и подлинно естественные вещи.
Автоматы в церковной пропагандеХотя нельзя было быть уверенным в том, что автоматы не имеют дьявольского происхождения, Церковь не хотела отказываться от них так же, как и от чудес, поскольку отчаянно нуждалась в зрелищах. Научно-техническая революция XIII века и сопутствующее ей усиление городов бросили вызов Церкви. Чтобы эффективно противостоять растущей власти светских князей и городов, она должна была крепче привязать к себе свою паству, лучше всего – с помощью хороших историй[100].
Немногие умели читать, и, чтобы узнать о страданиях Иисуса или жизни святых, большинству людей приходилось полагаться на изображения, которые, как правило, были драматичными, с большим количеством сцен насилия и жестокости, приправленных чудесами. Позднее они даже приобрели трехмерный вид, благодаря чему, конечно, стали особенно запоминающимися. В монастыре Сакро-Монте вблизи города Варезе на севере Италии расположены 14 капелл с изображениями жизни Христа и святых в натуральную величину. С особой любовью показаны нарывы, вывихи, увечья и пытки. Такое долго не забудешь!
Изобретателями наглядной пропаганды для Церкви выступили появившиеся в то время нищенствующие ордена доминиканцев и францисканцев. Хотя их обет бедности был бельмом на глазу у Церкви, она позволила орденам принять его, потому что их услуги были необходимы ей в политических целях. Они придумали сложные визуальные методы пропаганды, в том числе, например, перспективу. В сценах из жизни святого Франциска, которыми Джотто украсил верхнюю церковь Сан-Франческо в Ассизи, благодетельные деяния и чудеса, совершенные святым, показаны на переднем плане, а город, городские стены, виллы и горожане – на заднем. Сама перспектива дает понять посетителю церкви, кто здесь главный или, по крайней мере, кто, по мнению Церкви, должен обладать властью.
Духовенство хорошо понимало, что ни одно живописное изображение, как бы хорошо оно ни было написано, не может конкурировать с эмоциональным воздействием движущегося образа. Именно поэтому Церкви понадобились запрещенные машины. В самом деле, спустя всего полвека после изобретения часового механизма на фасадах почти всех значимых церквей и соборов Центральной Европы появились движущиеся куранты с назидательными и предостерегающими сценами или сложные астрономические часы. В Страсбургском соборе апостолы по очереди склоняются перед Христом, а на нижнем ярусе смерть бьет в колокол. Memento mori, помни о смерти! Это предостерегает верующих от самонадеянного желания перестать поклоняться Христу, сбросить иго Церкви и, подобно Богу, создавать живые миры. Ирония в том, что для того, чтобы предостеречь от высокомерия, Церковь опиралась на воплощение гордыни – городских ремесленников и их машины. Понимание техники как опасного проявления человеческой гордыни не является открытием христианства. Обвинение в гордыне тяготело над техникой со времен Античности. Предание об Икаре рассказывает о человеке, который хотел взлететь слишком высоко с помощью технологий, но упал и погиб. Неслучайно его отец Дедал считался самым талантливым инженером Греции.
По сей день машины являются зримым свидетельством самомнения и недостатка смирения. В интервью, которое американский медиа-теоретик Дуглас Рашкофф дал цюрихской газете SonntagsZeitung, можно найти все элементы мифа об Икаре: разумеется, технологии хороши и полезны, но человек хочет слишком многого и больше не использует их для того, для чего они изначально предназначались. Поэтому это лишь вопрос времени, когда технология обернется против человека и накажет его за высокомерие:
Технологические звезды из Кремниевой долины […] считают, что человек – это проблема. А техника – это решение. С этой точки зрения, мы должны приспособиться к технике. Силиконовая долина очарована так называемым трансгуманизмом: эта идеология утверждает, что техника придет на смену человечеству и люди должны преодолеть самих себя[101].
Гордость предшествует падению: со времен Икара и Дедала мало что изменилось.
Миф о Прометее также рассказывает о человеке, который был жестоко наказан за свою гордыню, за то, что он украл у богов техническое ноу-хау – огонь. Прометей был прикован Зевсом к одной из кавказских вершин, и орел каждый день выклевывал его печень. Эта история знакома всем со школы, но мало кто помнит, что на самом деле во всех бедах виноват его брат Эпиметей.
Эпиметей получил задание распределить способности между только что созданными живыми существами. Он наделил пантеру скоростью, лису – хитростью и так далее. К несчастью, когда дело дошло до человека, запас даров уже был исчерпан – он забыл оставить что-то для него. В отчаянии он обратился к своему брату Прометею, который, чтобы выручить его и не оставить человека беспомощным в этом мире, похитил у богов огонь. Остальное известно.
В принципе, наказание Прометея остается непонятным. Ведь он обеспечил выживание человечества. Человеку нужно подспорье, потому что он ничего не умеет, – таков смысл мифа. Учитывая этот недостаток человека, Прометей должен был украсть огонь, он не мог удовлетвориться теми средствами защиты, которыми боги наделили человека. Что же такого кощунственного в поступке Прометея? Чем оправданы столь жестокие пытки?
Грех предвосхищенияПрометей означает «думающий прежде», «предвидящий» (тогда как Эпиметей – «думающий после», «крепкий задним умом»). Прометей – это планировщик, тот, кто продумывает и создает свое будущее. Его предназначение – техническое улучшение условий, и именно это ему запрещают боги. Ведь планирование – это суть прометеевского проступка, потому что он встает на пути божественных намерений, вместе с тем планирование – это также суть человеческой гордыни и технического отношения к миру[102].

Связанный Прометей с орлом, слева – его брат Атлас с глобусом
В исследованиях французского палеоантрополога Андре Леруа-Гурана (1911–1986) показано, что первые полезные орудия труда, ручные топоры, рубящие и режущие инструменты зинджантропа, которого сегодня называют парантропом Бойса[103], могли появиться только благодаря точно спланированной последовательности ударов и хорошему знанию правильных точек удара. Чтобы перейти от необтесанного камня к ручному топору, необходимо планирование, то есть просчет действий на несколько шагов вперед. Благодаря технике будущее вдруг перестало быть просто судьбой, а оказалось в руках человека. Таким образом, для Леруа-Гурана предвидение и планирование стоят в начале человечества[104].
Техника забирает власть над будущим из рук Бога, и в этом кроется суть гордыни. Это гордость за то, что Бог лишен сил. По сути, зрители в античном театре или посетители соревнований по кибатлону восхищаются не всемогуществом Бога или чудесами природы, говорится в обвинении, они восхищаются самими собой – тем, как дьявольски хорошо они подражают Богу, а многое делают даже лучше, чем Он. Когда мы читаем, что 41 % немцев считают искусственный интеллект угрозой выживанию человечества, кажется, что с XIV века в странной смеси гордыни и страха быть наказанными за нее почти ничего не изменилось[105].
Технология как отрицание зависимостиНаряду с техникой, служащей стремлению человека не оставлять будущее на волю богов и не быть марионеткой во власти внешних событий, существует еще одна форма сомнительного предвосхищения: способность планирования также необходима для производства технических устройств.
Способность действовать на опережение связана с лобной долей мозга и в философии называется продуктивным воображением, а в повседневном языке – фантазией. Воображение – это способность представлять отсутствующие вещи, а продуктивное воображение – способность представлять вещи, которые не существуют или еще не существуют.
Хотя ни одна машина не была построена без предварительного участия фантазии, сегодня технология и воображение кажутся врагами, или, по крайней мере, между ними не самые хорошие отношения. Говорят, что технические игрушки убивают фантазию ребенка: ботаник, как следствие такого пресыщения, стал олицетворением лишенного воображения технаря. Выражение «технически это сделано хорошо, но без всякого воображения» в художественной критике означает максимальное порицание. С другой стороны, учащийся, в котором руководитель замечает слишком много воображения, вероятно, не имеет особенных технических способностей. Наш повседневный язык придерживается этого антагонизма, хотя он давно устарел – с тех пор, как машины взяли на себя задачу продуктивного воображения. Компьютерное моделирование – это не что иное, как машинные фантазии о возможном будущем.
Философия в основном смотрела на фантазию с большим подозрением. Говорили, что она вводит в заблуждение, превращает X в Y, потому что слишком легко поддается страстям. Мы видим только то, что хотим видеть, а не то, что есть на самом деле. Вот почему рационалисты и эмпирики сходились как минимум в том, что необходимо сдерживать воображение. Рене Декарт представил соответствующие ограничения в виде строгих правил, regulae ad directionem ingenii, правил для направления воображения, и назначил себе средство от разыгравшегося воображения (подобно тому как Одиссей приказал привязать себя к мачте, чтобы не поддаться соблазну сирен): «А теперь я закрою глаза, заткну уши, отвлекусь от всех своих чувств и либо полностью изгоню из моего мышления образы всех телесных вещей, либо, поскольку этого едва ли можно достичь, буду считать их пустыми и ложными, лишенными какого бы то ни было значения»[106].
Его оппонент, Фрэнсис Бэкон, английский политик, столь же влиятельный, сколь и сомнительный, основоположник эмпирического естествознания, также предостерегал от смешения наблюдения и воображения[107].
Те, кто считает обвинение в гордыне и демонизацию фантазии не более чем нелепым, антипрогрессивным пережитком давно ушедшего мира, возможно, слишком упрощают картину. Согласно Августину, гордыня – это безбожие, которое отрицает зависимость человека; это обвинение касается проблемы неуправляемости жизни даже вне религиозного контекста. Мое любимое определение реальности принадлежит канадскому философу Чарльзу Тейлору (род. 1931): «Реальность – это то, с чем нам приходится иметь дело»[108], – пишет он. Популярную версию трактовки термина можно встретить в песне Джона Леннона Beautiful Boy (Darling Boy): «Жизнь – это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы»[109]. Оба определения дополняют друг друга: жизнь так или иначе происходит, и нам приходится иметь с ней дело. В том числе с чем-то незапланированным.
Прежде всего наше тело накладывает на нас ограничения. Нам приходится преодолевать расстояния, а для этого нужно время, которого не хватает в конце жизни; гравитация приковывает нас к земле, наши руки могут переносить лишь ничтожно малые грузы, наш мозг быстро устает, глаза постепенно отказывают, мы постоянно зависим от воздуха, пищи, воды и тепла. Мы рождаемся с заданным геномом в некоторой социальной среде – вместе они в основном определяют то, что с нами происходит и как мы с этим справляемся. В конце концов нам на голову падает кирпич, и мы безвременно умираем, несмотря на все меры предосторожности. Нам приходится иметь дело со всем этим и многим другим.
Именно здесь на помощь приходит техника с ее великим обещанием устранить все ограничения, то есть саму реальность, путем тщательного планирования: Интернет преодолевает пространство и время, самолеты бросают вызов гравитации, краны заменяют руки, компьютеры – мозг; по желанию могут производиться воздух и пища, а также транспортировка тепла. Новейшие методы генной инженерии, такие как CRISPR-Cas, должны сделать возможным создание человека по индивидуальному плану, а в некоторых обществах существует право выбора пола. Тело в значительной степени перестало быть обузой, жизнь стала управляемой, и моральные апелляции к природе человека ничего не изменят, потому что стремление подчинить себе течение жизни – такая же часть человеческой природы, как и тот факт, что несмотря ни на что она все же остается неподконтрольной.
Нет, эта проблема не моральная, а техническая. В технических и биологических системах необходим точно выверенный внутренний баланс движущей и тормозящей сил, чтобы они могли функционировать, а также равновесие с окружающей средой, частью которой они являются. Из теории электричества мы знаем, что ток без сопротивления вызывает короткое замыкание, а физиология учит, что каждый шаг затормаживается еще во время движения, иначе нога не сможет плавно коснуться земли и мы будем слишком перегружены. Каждый, кто когда-либо пытался бегать по скользкому льду на кожаных подошвах, знает, в чем проблема: мы падаем буквально на каждом шагу. Болезнь Паркинсона – это не что иное, как чрезмерное торможение из-за недостатка дофамина в базальных ганглиях, зоне головного мозга, отвечающей за координацию движений.
Технический прогресс нарушает этот баланс. Поскольку цель прогресса – сделать механизм или систему больше, быстрее, сильнее и универсальнее, «тормозящая» сторона легко забывается, и в результате устройство разрушает само себя. Усовершенствование парового двигателя Джеймсом Уаттом, которое нам еще представится возможность изучить более подробно, увеличило его эффективность во много раз. Но внутренняя стенка цилиндра, особенно сварные швы, уже не выдерживали тех огромных сил, которые теперь давили на них. Цилиндры периодически взрывались, и операторы были вынуждены эксплуатировать дорогостоящие машины лишь на половину мощности. На создание методов сварки и материалов, способных выдерживать новые силы, ушло больше времени, чем на изобретение самого парового двигателя.
Реальность не облегчает задачу технике, ее нельзя просто убрать с дороги. Это как игра в микадо: каждое прикосновение с одной стороны приводит к дестабилизации с другой. Ни одно ограничение нельзя преодолеть без того, чтобы в другом месте не возникло новое ограничение. Инженер, не обращающий на это внимания, добьется того, что его машина взорвется у него на глазах или разрушит среду, в которой она существует. Представление о гордыне, которое преследует технику на протяжении всей ее истории, можно понять как предупреждающий знак: какими бы замечательными ни были ваши идеи, не забывайте о реальности!
Техника – это грехТем не менее остается открытым вопрос о том, почему в европейской истории техника всегда так сильно сближалась с грехом. Почему вместе с техникой люди создавали также богов, отвергающих ее? Разве существование технически подкованных (technikaffine) богов не было бы более оправданным в культуре, которая в значительной мере основана на технике?
Попробуем ответить на этот вопрос. Как мы показали ранее, автоматы – это рукотворные чудеса, и по своей природе они являются нарушением границ: с их помощью человек преступает границы, установленные реальностью, природой или Богом, и тем самым ставит себя на один уровень с богами, которых он изобрел, за что потом получает упреки в высокомерии и самонадеянности.
Даже если диалектика подчинения и нарушения не является антропологической константой, как полагал Вико, она как минимум накладывает отпечаток на нашу культуру. По мнению Вико, люди придумали богов, чтобы подчиняться им. На поэтическом языке «Новой науки» это звучит так: сначала была только равнина, «первое Небо находилось не выше горных высот, где Гиганты первыми молниями Юпитера были остановлены в своем зверином блуждании: это – то самое Небо, которое царствовало на земле»[110]. Впоследствии «первые народы записывали на небе Историю своих Богов и своих Героев»[111]. Небо богов отделилось от земли людей; человек был зафиксирован на земле, именование которой terra связывалось с охраной границ и устрашением (terrere). В переводе это означает: люди придумали богов, чтобы держать себя в узде. В отличие от теории жрецов-обманщиков (от Толанда до Ницше), Вико говорит не об угнетении одного класса другим с помощью богов, но, скорее, видит цель в создании системы ориентации и контроля.
Благодаря богам человек стал воспринимать себя как неполноценное существо, поэтому их изобретение было средством усмирения и контроля и в то же время стимулом к самосовершенствованию. С тех пор как европейский человек начал размышлять о себе, он находится в своеобразном напряжении. С одной стороны, к нему постоянно обращено требование совершенствоваться, стремиться к чему-то более высокому, перерасти самого себя. Прежде всего авраамические религии требуют, чтобы мы подражали Богу. Imitatio Dei[112] или imitatio Christi[113] – это руководящие принципы христианской жизни.
Но если христианин принимает их, он тут же сталкивается с обвинением в гордыне. Божественный голос словно взывает к нему: ты присваиваешь себе то, что принадлежит только Мне. Можно утверждать, что требование совершенствования относится исключительно к морали, а обвинение в высокомерии – только к технике. Но так ли очевидно это различие? Разве медитация не является общепризнанной техникой нравственного самосовершенствования? Разве можно обвинить инженера, который конструирует протез руки, в гордыне? Разве нельзя похвалить его за социальную активность? С другой стороны, разве отшельник, который постится 40 дней, чтобы стать лучше, не должен быть готов к упрекам, что это не его заслуга как человека? Как насчет глубокой стимуляции мозга для лечения болезни Паркинсона? Это все еще морально оправданная попытка помочь больным людям или уже самонадеянная игра в Бога? Очевидно, что провести различие между технической гордыней и моральным совершенствованием непросто. Похоже, техника определяется именно через обвинение в гордыне. Ибо гордыня – это, очевидно, та точка, в которой admiratio, восхищение Богом, превращается в самолюбование, а смирение – в самомнение.
Конфликт между свойственным человеку или культуре высокомерием и необходимым наказанием за него раскрыл еще блаженный Августин в IV веке:
Есть, однако, и другая порода нечестивцев: «зная Бога, они не восхвалили Его, как Бога, и не воздали Ему благодарности». И я попал в их среду, и «десница Твоя подхватила меня», и вынесла оттуда. Ты поставил меня там, где я смог выздороветь, ибо Ты сказал человеку: «Благочестие есть мудрость» и «не желай казаться мудрым», ибо «объявившие себя мудрыми оказались глупцами»[114].
Само собой разумеется, что однажды мы будем наказаны за такую самонадеянность. Но в наше время наказывает уже не Бог, а природа. Повсеместно слышится старое теологическое возражение против машин: техника нарушает естественное равновесие, и сама природа однажды отомстит человеку за вмешательство в ее порядок.
Магия и машины
Глава, в которой развивается мысль о машине как рукотворном чуде, а техника сравнивается с магией и связывается со страхом смерти.
От магии к техникеКогда герцог Эрнст во время своего путешествия на Восток столкнулся с неизмеримым богатством, он счел это чудом. Когда он восхищался техническими достижениями города Гриппия, он тоже говорил о чуде. И когда Бог спас его от смертельной опасности, он поблагодарил Его за чудо. То, что он пережил, вероятно, было достаточно поразительным, чтобы считаться чудом; как именно это происходило и кто был автором чуда, имело второстепенное значение[115].
Чудеса могут развлекать, убеждать, исцелять, запугивать, демонстрировать силу и даже оживлять мертвых. Поэтому очевидно, что люди во все времена не хотели оставлять богам возможность влиять на ход событий. Они хотели сами творить чудеса. Для этого они создали определенные методы, которые они объединили под общим названием «магия».
Создание машин долгое время было одним из направлений магии. Еще в XVII веке название книги английского теолога и естествоиспытателя Джона Уилкинса о машинах звучало так: «Математическая магия, или чудеса, которые могут быть достигнуты средствами механической геометрии» (Mathematical Magick: or, The Wonders That May Be Performed by Mechanichal Geometry).
Работа была впервые опубликована в Лондоне в 1648 году. В первом томе рассматриваются простые архимедовы машины, такие как весы, рычаги, колеса, шкивы, клинья и винты, во втором – боевые машины и автоматы. Уилкинс был особенно увлечен летающими машинами.
Автоматы принадлежали к сфере магии, потому что, во-первых, они вмешивались в природу, а следовательно, были рукотворными чудесами, во-вторых, требовали эффектной инсценировки и, в-третьих, вдыхали жизнь в мертвые вещи.



