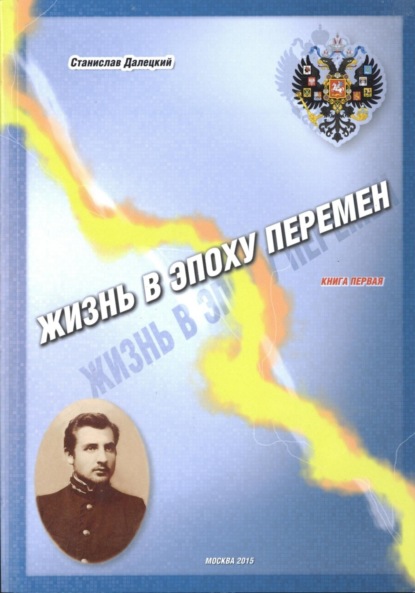 Полная версия
Полная версияЖизнь в эпоху перемен. Книга первая
– Вот мой адрес института в Вильне, – отдал он листок старосте, – а вы мне дайте адрес Татьяны – я ей обязательно напишу, как приеду к отцу.
– Так нет у меня её адреса, – изумился староста. – Живет она у моего сродного брата, деньги я ей два раза передавал с оказией и писем от неё не получал. Должна скоро приехать домой на лето, тогда адрес узнаю и вам, Иван Петрович, непременно напишу в Вильну вашу, будь она проклята эта учеба, что молодых людей разбросала врозь по городами и весям.
– Когда уезжать изволите, Иван Петрович, чтобы прийти попрощаться? – спросил староста, вставая и надевая картуз, что означало конец беседе.
– Через недельку, Тимофей Ильич, – отвечал Иван, – отец пришлёт за мною коляску, вещи упакуем и в путь, a всё, что не увезу, пусть Арине достанется или новому учителю, что пришлют вместо меня.
– Уже обещаются прислать, – усмехнулся староста, – только не учителя, а учительницу и тоже молодую и без мужика.
– Что, Арина, будешь прислуживать новой учительнице уже без сожительства? – подколол староста женщину, которая не обращая внимания на мужчин, хлопотала возле печки.
– Нет, Тимофей Ильич, не буду, – ответила служанка. – Иван Петрович, дай бог ему здоровья, незлобивый человек и платил хорошо, вот я немного прикопила деньжат и намерена податься в уезд и там устроится в прислуги или куда в мастерские: мне учитель и рекомендацию для господ уже написал. Буду сына поднимать на ноги, а здесь на селе, коль наше блудодейство с учителем открылось для вас, мне жизни спокойной не будет и свекор заест поедом, что ему не поддалась, а с учителем сожительствовала.
Невдомек старому хрену, что с учителем я от души баловалась, а с ним лучше в петлю, чем в постель. Такие вот мои слова. Только прошу вас, Тимофей Ильич, об этом ни слова на селе, пока не уеду, а там пусть чешут языки, сколь угодно.
– И вам, Иван Петрович, спасибо от вдовы за эти годы спокойной жизни без тяжкого крестьянского труда, что никогда не ругались на меня злыми словами. За то, что поняла я женское удовольствие с мужчиной и знаю теперь, почему Ева согрешила с Адамом в райском саду ибо лучше ничего на свете нету. Вам, Тимофей Ильич, – тоже скажу спасибо, что устроили меня к учителю прислуживать, а в связь с ним я вступила по своему желанию и не жалею ничуть – вдове можно и грехом это не считается. Учитель без грубости владел мною и научил быть женщиной: давать и получать удовольствие в полной мере, до зубовного скрежета и нет моей вины, что не слепилось у Ивана Петровича с вашей дочерью Татьяной: нельзя спать с одной, а думать о другой.
Но разъедемся мы в разные края, глядишь, и наладятся у молодых отношения вновь: девичье сердце отходчиво, а мужская страсть постоянна. Прощайте. Пойду и я вещички по-тихому собирать, чтобы после отъезда Ивана Петровича и самой незаметно исчезнуть из села – будто и не было меня здесь вовсе. Чужая я на селе – так чужою и осталась, потому что без мужа вдова никому не нужна и защиты ей не будет.
Неделя сборов прошла незаметно. В ночь перед отъездом, Арина впервые осталась ночевать у учителя, сославшись дома на необходимость приготовить стряпню в дорогу учителю и возчику, что приедет за ним.
Иван уговорил Арину пойти в постель и там они впервые кувыркались до изнеможения, поочередно возбуждая желания друг в друге. Арина отбросила притворную стыдливость и исполняя все прихоти плотских забав учителя лишь хрипловато посмеивалась: – Думаешь, Иван, насытиться женщиной на долгое время вперед, но ничего не получится – завтра к вечеру опять захочешь, но будет не с кем. Смотри, не изотри своей корешок в труху, чтобы не остался навсегда во мне. Терзай меня, терзай и раскалывай меня вдоль на две части, чтобы я завтра ног поднять не могла после нашей сегодняшней скачки. Дай твой корешок, поцелую на прощание, чтобы навсегда запомнил меня и мое местечко, куда он полюбился нырять до самого донышка, вызывая нестерпимую сладость в женском теле, так что хочется стонать, кричать и биться, открываясь навстречу мужскому желанию и получая взамен полное женское удовлетворение.
Измучившись в плотских утехах, они заснули далеко за полночь и Иван, впервые в жизни, спал всю ночь рядом с женщиной, которой только что владел полностью и теперь спал умиротворенным сном, ощущая рядом теплое упругое тело, пахнувшее, как всегда, запахом лесных трав с острым привкусом женского лона. Арина положила голову учителя себе на грудь и тоже забылась сном сбывшихся желаний, чувствуя, что каждая клеточка её тела наполнилась удовлетворенной страстью женщины к мужчине и все тело её ноет в сладостной истоме плотского удовлетворения.
Ранним утром, когда греховодники еще спали сладостным сном забвения, в дверь постучали и, едва Арина успела вскочить с кровати и накинуть на голое тело сарафан, вошел кучер, что прислал отец Ивана и попросил поторопиться в дорогу: он хотел за один день добраться назад, в родное село Ивана, до которого было более шестидесяти верст.
Иван, обессилевший после ночных забав, нехотя оделся и попил чаю, пока кучер укладывал на повозку вещи учителя, которых набралось на удивление много: за два года жизни на селе учитель обзавелся многими вещами и предметами, которые ему не нужны в дальнейшей учебе, но и оставлять здесь жалко, а потому он решил самое необходимое перевезти к отцу: одежду, обувь, посуду, инструменты и, конечно, книги. Всем остальным должна была распорядиться Арина по своему усмотрению. Собрав всё снаряжение, путники присели, по обычаю, и пошли во двор, где ожидала груженная доверху повозка.
Иван дал Арине десять рублей: – Вот, Арина, что могу, за твою заботу обо мне и дай бог тебе удачи в твоей дальнейшей жизни, а я буду всегда вспоминать твою доброту, спокойствие и женскую страстность, что ты дарила мне в минуты близости. Арина в ответ поцеловала Ивана в губы и, низко поклонившись в присутствии кучера, пожелала успехов учителю в его намерениях.
– Жаль, староста не пришел попрощаться, – вздохнул Иван, видимо, подойдет позднее. Ты, Арина, попроси старосту помочь тебе в устройстве жизни в уезде: он человек незлобивый и знакомства имеет. Может устроить тебя в хороший дом служанкой или куда-то в рукоделие – ты ведь хорошо шьешь платья даже на глаз без примерки. Или зайди с моим письмом к смотрителю училищ: может в школе тебя пристроит, тогда и вовсе хорошо может получиться: и жить при школе, и жалованье там выше, и от хозяев не будешь зависеть. Прощай, Арина, не поминай лихом.
Иван пошел к коляске, помахал рукой Арине, что стояла на крыльце, вытирая подолом сарафана крупные слезы, градом покатившиеся из её глаз, лишь только учитель сел в коляску, увозившую его из села и из её жизни навсегда.
XIII
Поздним вечером того же дня, уставшая лошадь вкатила повозку во двор усадьбы Петра Фроловича, который не ожидая приезда сына в этот день, уже улегся спать, пригревшись, по-стариковски, под боком Фроси.
На стук ворот и лай собачки, хозяева проснулись, встали, встретили гостя, который отцепив коляску, отпустил кучера домой, куда он так стремился, занес вещи на веранду, попил воды и, сославшись на усталость, отказался от ужина и пошел спать в свою комнату. За ним улеглись и хозяева и дом снова погрузился в тишину, нарушаемую иногда похрапыванием Петра Фроловича, которое Фрося быстро останавливала, перекладывая голову хозяина в удобное положение. Иван, действительно измучившись за дорогу, уснул мгновенно и проспал до позднего утра – благо хозяева блюли тишину и все разговоры вели на веранде, ожидая пробуждения позднего гостя.
Пробудившись, как в детстве, от чириканья воробьев под стрехой, Иван разобрал чемодан, нашел халат и, одев его, всунул ноги в шлепанцы, что стояли всегда рядом с его кроватью, ожидая хозяина иногда годами. В таком облачении Иван вышел на веранду, где отец и Фрося с нетерпением людей, длительное время живущих в одиночестве, поджидали его у самовара, почти погасшего за время ожидания.
– Здравствуй, здравствуй, сынок, – приветствовал Петр Фролович своего младшего сына. – Дай-ка взгляну на тебя – вчера в темноте да суете не успел рассмотреть тебя хорошенько. Ну что! Выглядишь хорошо – похож на учителя сельской школы, – хохотнул отец и добавил: – а вот на будущего студента учительского института не тянешь – лет многовато для студента. Видишь, даже внешность твоя против этой учебы, – заключил отец, – но как говорится: вольному – воля: учись, если так надумал.
Я, по правде, сказать, надеялся, что ты женишься на девушке, о которой говорил в прошлый приезд, поучительствуешь еще год-два, а потом перейдёшь в урядники: там и власть есть в руках и жалованье поболее учительского. А из урядников и в офицеры жандармские можно пойти: и жалованье хорошее, и пенсию платят – не чета моей. Но ты хочешь ещё чему-то поучиться – твоя воля, пусть будет так. Пока отдыхай в отчем доме: Фрося тебя откормит и обиходит не хуже твоей кухарки, что осталась в селе и, наверное, льет теперь горькие слезы, что потеряла такого молодца и будет спать теперь в холодной постели без мужика, – закончил отец.
– Ладно, старый, зубоскалить над сыном, – одернула Фрося отца. – У вас, мужиков, одни бабы на уме и работа, а отдыхать некогда. Пусть Ваня в отчем доме отдохнет душою и телом, приведет мысли в порядок и решит окончательно, что будет делать дальше, а наше дело помочь ему – чем можем: большим советом, малыми деньгами и, конечно, заботой и вниманием. Ты же, Ваня, привык к кухаркиным заботам – там у себя в селе? – рассмеялась Фрося и пошла собирать на стол, который пустовал в ожидании пробуждения гостя.
Жизнь Ивана в отцовской усадьбе покатилась в лето так же, как и в прошлый раз: он много спал, много ел и много скучал от безделья, не зная, чем занять свободное время, когда все дни были свободными.
Он посетил с отцом могилу матери, прибрался там и заменил крест, который совсем сгнил за прошедшие шестнадцать лет от её смерти. Казалось, совсем недавно, мать гладила его, мальчика семи лет, по головке, а теперь он, мужчина двадцати двух лет отроду, стоит перед маленьким холмиком земли, поросшим дикими травами, под которым навсегда успокоилась его мать – так давно, что даже крест сгнил.
– Почему на крестах нет надписей: кто там покоится и каковы были годы жизни этого человека? – спросил однажды Иван, когда после посещения церкви они с отцом привычно остановились у могилы матери.
– А кому это интересно: читать надписи на крестах? – равнодушно ответил отец. – Мать и так знает, что мы пришли и не забываем её, а всем прочим она неизвестна, да и читать здесь, на селе, мало умельцев. Добрая часть погоста заселена нашими родичами, а что я знаю об них? Ничего. В дворянской книге по Могилевской губернии, все наши родичи расписаны по-фамильно с упоминанием чинов и званий, а что они были за люди – один бог ведает, ибо родословного описания жизни каждого дворянина рода Домовых никто не потрудился исполнить для потомства. Может быть ты, Иван, когда займешься своей историей, по дворянским записям, составишь жития каждого из наших предков.
Ведь род наш стал дворянским еще в незапамятные времена, а в 1691 году был вписан в дворянские книги и получил герб – чем не история для будущего ученого, каким ты хочешь стать? Ну да вас, молодых, интересуют лишь цари да князья, а кто были бы эти князья без дворян и простых воинов? Никто. Историю делают народы, а приписывают её царям-императорам. Вон наш царь Николашка! Ничтожество полное, а «боже царя храни», каждое воскресение народ поет по церквям: ибо каждая власть от бога, говорится в писании и, видимо, за грехи наши нам бог послал эту пустышку. Отец-то его Александр Третий, покруче был царь и на своем месте: ни войны, ни походов при нем не было, а Россия крепла и богатела и территориями прирастала без всяких сражений, потому что к сильному всяк прислониться хочет и обрести защиту.
Вот так-то, сынок, такая вот получается история рода Домовых. Мы тоже обмельчали и в чинах, и в званиях, и в заслугах перед Отечеством. Я был офицером-артиллеристом, а сыновья мои стали мелкими чиновниками, а ты, Иван, и вовсе простой учитель. Но даст бог, доучишься наконец до полного образования и может быть на старости лет обрадуешь своего отца и чином, и внуками малыми: до больших-то внуков мне уже и не дожить: седьмой десяток жизни донашиваю: видимо, скоро на погост лягу рядом с твоей матушкой: тогда и напишешь на крестах наших, кто и где здесь лежит. Меня положите рядом с матерью справа от нее: она всегда ложилась слева от меня и, засыпая, тихо-тихо посапывала мне в ухо – пусть и на том свете продолжает посапывать, по привычке.
– Ладно, отец, прикидываться стариком древним – по Фросе не скажешь, что ты из мужика в старика превратился: словно дуб мореный, крепче меня будешь, – осадил Иван отца от грустных мыслей на погосте. – Давай лучше зайдем к Лиде – твоей дочке: там и внуки уже подросли большенькие, пока ты мечтаешь о моих. Хватит злиться на Лиду, что вышла замуж за лавочника: скоро промышленники да торговцы будут главной силой в России, а не захудалые дворяне, таких же родов древних, как и наш.
– Ради тебя, Иван, готов навестить твою сестру Лиду. Я не потому к ней ходить не люблю, что замужем за лавочником, а потому, что лавочники эти скопидомы, каждую копейку считают и каждым пряником, что твоя сестра давала тебе в детстве, её же и попрекали. Мне неважно, кто и чем занимается, важно, чтобы человек был хороший, добрый и отзывчивый: сам погибай, а товарища выручай – так меня в армии учили, а эти лавочники не то что товарища, а брата или родственника бедного в голодный год куском хлеба не выручат.
У нас на селе этот год была голодным, – вспомнил, кстати, Иван. – Неурожай был на три волости: ни зерна, ни картошки, ни сена: всё сгнило дождливым летом и осенью – так крестьянам тоже никто не помог: ни власти, ни соседние волости, ни царь-батюшка, – вспомнил Иван свои споры с Ариной. – На селе у кулаков был хлеб с прошлого года, но они его продавали за деньги в другие места, а сельчанам в долг не давали. К весне полная бескормица наступила и для людей, и для скота. Главное, что рядом, в уездном городе хлеб был, но помогать никто не стал, подъели в селе всё подчистую – все сусеки вымели, солому с изб скоту скормили, а все равно несколько селян с голоду умерли и никому до них дела не было.
– Такое часто случается в стране, – успокоил отец Ивана. – Бывало, целые губернии голодали и крестьяне мёрли как осенние мухи, а помощи ждать неоткуда, если каждый сам за себя. Помню, одним годом, когда я еще служил офицером, так купцы скупили в округе всё зерно и вывезли на продажу за границу, а дело было за Уралом, в Кургане – там тогда половина губернии от голода вымерла и никто им на помощь не пришел потому что хозяина в стране нет.
Я в газетах читал, что последние двадцать лет из каждых пяти лет два выдаются неурожайными, голодает иногда полстраны, люди умирают с голода, а зерно вывозится за границу и ещё хвастают, что мы кормим полЕвропы. Ты сначала свой народ накорми, а потом излишки зерна и продавай разным немцам. Царь наш только числится батюшкой, а на самом деле он отчим жестокий своему народу – иностранцы ему милее своих подданных, да и сами эти цари – Романовы только по фамилии. На самом деле немцы они по крови и по духу и простой русский народ им не нужен и лишь путается под ногами царей, которые считают себя европейцами и хотят жизнь в России устроить на европейский лад, не понимая, что в наших условиях можно выживать только сообща, а не поодиночке, как в Европе, где и зимы-то настоящей нет.
Царь Петр Первый потянулся в Европу – прорубил в нее окно через Прибалтику и Петербург – с тех пор нас европейским сквозняком и сдувает с нашей земли к Уралу и в Сибирь, а всякие европейцы: немцы, французы, англичане и прочие шведы спят и видят, чтоб русские исчезли из этих мест и сгинули за Уралом. Эх, если бы не людская жадность да ничтожность наших правителей: как бы вольготно русский народ мог жить на своей земле, что протянулась от здешних мест и до Тихого океана на десять тысяч вёрст!
Ладно, хватит мечтать, сын, пойдем, навестим твою сестру Лидию, коль ты настаиваешь, – закончил отец свои рассуждения об устройстве Российского государства и они направились вдоль улицы к Лидии, проживающей на другом конце села.
Сестра Лида прихворнула и лежала в кровати под теплым одеялом, несмотря на жаркий день. Ей было немного за тридцать пять лет, но выглядела она гораздо старше: это была полная женщина болезненного вида, очень похожая на мать – как подумалось Ивану. Старший сын Лидии, уже помогал отцу в лавке, которая перешла к нему по наследству. Двое других детей Лидии: сын – тринадцати и дочь одиннадцати лет были в гостях у свекрови, что жила в уездном городке, куда переехала с дочерью на жительство после смерти мужа.
Так что с внуками Петру Фроловичу пообщаться не удалось и попив чаю и переговорив, ни о чем, с Лидией, отец и сын возвратились домой, а зять даже не соизволили подняться из лавки в горницы, чтобы поприветствовать Петра Фроловича в своем доме.
– Вот так всегда, – негодовал Петр Фролович, возвращаясь с Иваном в родную усадьбу: найдешь время навестить Лидию, а им недосуг и уходишь, несолоно хлебавши – потому и не люблю я к ним заходить, что неприветливо встречает муж Лидии своего тестя. Бог им судья, а мы, сейчас вернемся домой, Фрося наварила ухи, махну я пару рюмок водочки за помин души своей женушки Пелагеи и ты, Иван, расскажешь мне о своем учительстве за два года в том селе и почему до сих пор не женился, хотя в прошлый приезд и говорил о какой-то зазнобе, – размечтался отец, шагая по селу рядом с Иваном, и кивком головы приветствуя крестьян, которые низким поклоном встречали своего бывшего барина.
За обедом из ухи и жареной курицы, которой Фрося собственноручно отрубила голову, Петр Фролович, как и обещался, выпил три рюмки водки, раскраснелся и принялся расспрашивать Ивана о житье в том селе и как он думает учиться дальше и на что жить в большом городе Вильне.
Иван успокоил отца: «Помощи просить не стану – немного деньжат скопил на первое время, а потом буду давать уроки на дому – это дает неплохой приработок. Жить буду сначала в пансионе при институте, а потом сниму комнату, может быть на пару с другим студентом.
– Или со студенточкой, – хитро улыбнулся отец.
– Ну, если встречу самостоятельную и мне по нраву, почему бы и нет? – спросил Иван. – Сейчас жениться в городах уже стало необязательно. Сошлись, пожили вместе и разошлись, если, конечно, детей нет. Но наука учит уже как избежать детей нежеланных, – без стеснения ответил Иван. – Думаю год проучиться, привыкнуть, показать себя в институте, а там можно и личную жизнь устраивать и даже жениться на горожанке: если по душе и с приданым.
– Куда же твоя селяночка пропала, кажется, её Татьяной звали, и дочкой старосте она приходилась? – спросил отец, словно хвастаясь своей памятью.
– Узнала случайно, что я сожительствую со служанкой, обиделась за это и уехала к дяде в город Могилев учиться на учительницу тоже, – откровенно сказала Иван на вопрос отца.
– Это по-нашему, по-Домовски, – рассмеялся отец. – Я тоже, когда ухаживал за твоей матерью, со свидания частенько заходил к маркитантке одной, что в лавке полковой прислуживала отцу, и с ней кувыркался на сеновале, снимая мужскую страсть, чтобы с Пелагеей потом держаться непринужденно. Так делал до самой жениться, а потом перестал: негоже жене изменять, коль венчался с ней перед богом. Это уж когда мать больная была, я с Фросей связался с молчаливого согласия матери – умела она мужчину понять: слушать, слышать и чувствовать мое настроение, а большего от жены и желать нечего.
Ищи, Иван, себе такую жену, как была твоя мать: чтобы понимала мужа, считала его лучшим из всех, невзирая на звания и чины, и никогда не попрекала ошибками и неудачами – это и будет та самая любовь, что пишут в романах, – закончил Петр Фролович свои поучения сыну, вставая из-за стола. – Пойду, прилягу, что-то разморило меня сегодня – видно быть дождю. И ты отдыхай сынок: чую, трудно будет тебе учиться и содержать себя, но такова наша участь обедневших дворян: всего надо добиваться самому, коль состояния нет. Профукал прадед твой наше имение – говорят, в карты проигрался, но словами дела не поправишь. Братья твои немного приподнялись, думаю и ты наш род не подведёшь и не замараешь дворянского звания.
Петр Фролович ушел к себе в опочивальню, Фрося гремела во дворе чугунками, готовя ужин, а Иван прошелся до речки, сел на пригорок у излучины реки и молча глядел, как серебристый, под солнечными лучами, поток медленно струится вдаль, исчезая поворотом за ближним лесом.
Здесь, на реке, прошло его раннее детство до отъезда на учебу к тётке Марии, и вот он, совершенно взрослый человек, учитель, сидит снова на том же берегу и смотрит, как река уносит свои воды вдаль сквозь время, которое здесь, кажется, остановилось вовсе: та же река, тот же пригорок, те же ребятишки плещутся в заводи и лишь он из мальчика превратился в мужчину, успевшего обзавестись разочарованиями в жизни, но еще не растерявшего всех надежд и ожидающего их свершения в будущем.
Как и в прошлый свой приезд, Иван переоделся в крестьянскую одежду: серьмягу и лапти, и провел весь месяц в полном безделье, прогуливаясь вдоль реки, чтобы наловить рыбешек коту, что завела Фрося взамен старого кота, который марте убежал в деревню в поисках кошки да так и не вернулся, видимо, попав дворовой собаке в лапы или погибнув в кошачьей битве за право владения кошечкой.
Отдохнув сполна и набравшись сил, Иван собрался в дальний путь в город Вильну, чтобы устраивать свою судьбу дальше: он хотел оформить все документы, устроиться в пансион и присмотреться к городу, в котором ему предстояло прожить целых четыре года, учась и подрабатывая на пропитание, благо, что за учебу платить не приходилось как дворянину.
Петр Фролович благословил сына на исполнение его планов, дал немного денег в дорогу и обещался, по возможности, иногда оказывать посильную помощь, если Иван будет испытывать денежные затруднения. – Всяко бывает: человек может заболеть или попасть в несчастье, когда не сможет сам содержать себя, вот тогда-то и пригодится отцовская помощь, – напутствовал Петр Фролович своего сына Ивана, прощаясь за воротами у коляски, которой, как всегда, правил сосед.
Дорога в институт получилась у Ивана на перекладных: в коляске до уезда, там попутным извозчиком до Орши, а уже из Орши поездом до Вильны – губернского города Вильненского края. На второй день, к вечеру, Иван добрался наконец до Вильны, снял комнату на ночь в привокзальных номерах и на следующий же день, с утра направился в институт выправлять документы.
ХIV
Учительский институт Иван нашел не сразу. Вначале прохожие направили его в институт, который оказался еврейским и, лишь, потом Иван отыскал христианский институт, который располагался в отдалении от центра города в небольшом двухэтажном здании. Ивана принял дежурный учитель, что оставался вместо директора, уехавшего по делам в Петербург.
Документы Ивана оказались в полном порядке и их подшили в дело. Особую роль сыграли рекомендательное письмо уездного смотрителя училищ и грамота дворянского рода. Иван без проволочек был зачислен в институт с объявлением о начале занятий через три недели, и направился к коменданту на поселение в пансион при институте, который находился в двух кварталах пешего хода от институтского здания, куда Иван и направился тотчас решать вопрос о своем проживании.
– Эх, знать бы заранее, что всё так быстро решится, оставался бы у отца еще две недели, а теперь придется жить здесь и тратить свои сбережения на проживание и еду, – корил себя Иван, направляясь к пансиону.
В пансионе Ивану предложили места на выбор: комнаты на одного, двух и трех студентов. По своему достатку Иван выбрал комнату для двоих: на одного дорого, а на трех тесновато, наверное, да и ужиться разным людям втроем гораздо сложнее, чем подобрать напарника по характеру.
Комнатка оказалась небольшой: в ней стояли две железные кровати с тумбочками, стол для занятий и еды с двумя стульями и платяной шкаф.
– Столоваться можно в соседнем доме, где одна еврейская семья даёт дешевые обеды для студентов, но можно будет у них и завтракать, и ужинать за весьма умеренную плату, – так сказал Ивану комендант, показывая весь пансион: умывальня на первом этаже, туалет во дворе, водопроводная колонка на улице в будке – вода там за плату, но на входе в пансион стоит бак с водой для питья. Кухни нет, керосинки жечь нельзя, но кипятком всегда можно разжиться у вахтера, где постоянно дымится двухведерный самовар: вот и все сведения, что необходимы постояльцу пансиона, – заключил комендант и ушел, оставив Ивану ключ от комнаты, который при выходе надо оставлять вахтеру.
Иван вернулся в номера, забрал чемодан и мешок со своими вещами, отнес всё это в пансион и пошёл пообедать в столовую, как её назвали хозяева-евреи. Заведение еще не работало, поскольку студенты были в отъезде на каникулах, а другие посетители в эти места не заглядывали. Однако, старый еврей, завидев Ивана, инстинктом торговца, почуял в нем посетителя, и на ломаном русском языке пригласил зайти: – Господин студент хочет-таки покушать, так мы что-нибудь сготовим, чтобы накормить господина. Заходите в залу и вам принесут щей и каши с мясом курицы – всё, что надо студенту и почти даром.

