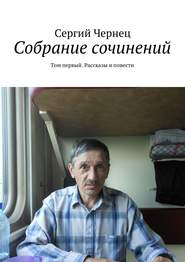
Полная версия:
Собрание сочинений. Том первый. Рассказы и повести
А на земле люди существуют для того, чтобы любить добро и красоту и давать волю всем желаниям, если они благородны, великодушны и разумны.
Все хорошо. Но о благородстве и разумности желаний и страстей трудно сделать однозначный вывод.
Прогресс приводит, в конце концов, к такому смягчению нравов, что в прошлом и в мыслях не подразумевалось. Шипы акации, пересаженные из сухой почвы в жирную, превращаются в цветы. То, что раньше кололось – (по пословице: и хочется и колется и мамка не велит), – сейчас почитается как данность, как будто, так и надо, и еще даже поощряется и восхваляется. Правильно ли это? Не нарушает ли это процесс развития?
Когда-то (недавно) женщины носили сарафаны и платки. Простоволосой, без платка, нельзя было выйти на люди, на улицу. При Союзе, лет 60 назад, голые коленки «светить» перед людьми было позором для девушки. А сегодня не только в трусах ходят, – но вместо трусов нитка между голых ягодиц потерялась!! Это не позорно, модель выходит на подиум на обозрение всего мира! Осталось только показать как она, модель, какает? Прогресс?? Нет – это деградация, наоборот разложение общества.
И такое же послабление во всем жизненном устройстве человеческого общества. Даже в пище, в питании сняты все ограничения, а потом сетуют: много болезней появилось новых. Ограничения в питании защищали людей. Они были раньше на слуху, передавались из уст в уста, потом записаны были. Остались пояснения о пище чистой и нечистой в древнем памятнике знаний предков – в Библии.
Тяжело смотреть на то, как жизнь течет дальше, захлестывая через край своим потоком. В проблемах нравственности обвиняют измененное сознание народов.
Мужчины потеряли стыд и честь. Оскорблением для джентльмена считалось, – когда ему при людях женщина откроет коленки, приподняв подол платья. После этого он считался развратником, как портовый рабочий. А сегодня мужики удовлетворяют похоть своих очей и рады, что все вокруг женщины оголили свои ляжки и животы и груди. Дворян и джентльменов нет. Остались одни портовые рабочие, алкаши и развратники, они о понятии честь и не слыхали. А женщины развратились по З. Фреду – эксгибиционизмом. Это понятие – болезнь психиатрии, так что всех женщин надо в дурдом помещать. В далеких провинциальных деревнях, может еще есть и русские бабы, которые коня на скаку остановят…. В староверческих деревнях Сибири есть и мужики с благородством и честью, они и от Петровского прогресса убежали к природе поближе еще 300 лет назад. А в городах русские бабы превратились в иностранных «вумен», если не накрасится химической краской на улицу не выйдет, лица своего уже не имеет, какого коня может остановить? – известно! – только того, который у мужика между ног. Женщина как мать – тоже начинает пропадать. Детских домов сейчас множество и в них брошенные дети. Я столкнулся раз с беспризорниками настоящими. Они жили на станции. Электрички им не мешали, под перроном у них был устроен «дом», рядом со станцией был рынок, там пацаны и подрабатывали и кормились. Было им по 12—14 лет и жили так годами, – один мне сказал, что он 5 лет как из детдома сбежал. Беспризорники были после революции, мы знаем фильмы про них: республика Шкид, «Путевка в жизнь». Это было 90 лет назад, при Дзержинском.
«За что боролись (с чем боролись) – на то и напоролись». К чему мы пришли? Прогресс материальный ушел вперед, а нравственность не прогрессирует, а возвращается на столетие назад, более того хуже, чем в том недалеком прошлом.
Разумный человек приспосабливается к миру. А неразумные люди начинают приспосабливать мир под себя. Начинают борьбу с природой, когда разумно было бы возделывать ее, а не разрушать.
У власти встали не очень разумные люди. И весь прогресс сегодняшний зависит от людей неразумных. А кроме того верна и пословица: какой народ – такая и власть над ним. Ведь люди к власти приходят из того же народа, не со стороны к нам с Марса прилетели наши правители. Они воспитывались в этом обществе людей.
Ни самые прекрасные, ни самые отвратительные устремления человека не заложены в нем биологически. От природы человек не такой – все его страсти и пристрастия это результат социального прогресса. Люди сами развили в себе все пороки.
Жизнь людей, преданных только наслаждению без рассудка и без нравственности, не имеет никакой ценности, также он не ценит жизнь других. Вот поэтому убийство сегодня – это обычное среди всех преступлений, как украсть с прилавка. И то за воровство лет 5 тюрьму дает закон. А за убийство – условный срок. Или вообще оправдывают, если человек богатый, – он может всех купить и судью.
Да. Мир заблудился. Заблудился, доверившись науке. Также как я заблудился в лесу, доверившись своим знаниям. Ведь я искал дорогу и по мхам на деревьях. Но природа не всегда благоприятствует. И солнца не было, и дождь заглушил все звуки. И вот сижу я всю ночь у костра под елкой…. И рассуждаю сам с собою.
Дух торговли, который овладевает народом – это похуже даже, чем война. На войне виден враг, и можно с ним бороться. А сейчас идет война духовная. Все продается, все покупается – жизнь человека и т. д.
Вот уже продают природу!?! Коммерсанты купили реку (?!) – 20 километров реки продано в собственность. Интересно кто продал? Но факт. С любого человека, даже со старичка пенсионера, требуют 200рублей в день, за то, что он посидит с удочкой на берегу. Он каждый выходной отдыхал там 40 лет подряд, а теперь его выгоняют охранники – лбы на джипах. Мир пришел к Абсурду. Куда отсюда уйти. Как отсюда выйти – когда весь мир Абсурд!
Не философы, а ловкие обманщики утверждают, что человек счастлив, когда может жить, удовлетворяя все свои желания: это явная ложь. Преступные желания – это наоборот верх несчастья. Великий вопрос жизни – как жить среди людей.
Во все века и во все времена у людей были Боги и были законы Божии, чтобы сдерживать греховные страсти. Не может быть неправым все человечество за тысячи лет, а сегодняшние психологи-ученые оказались бы истинными!
Свобода во всем – проповедуется сегодня со всех рекламных щитов, во всех телепередачах и во всех газетах и журналах. За деньги сегодня можно купить все что угодно – такая свобода не есть благо, а греховное беззаконие.
В конечном счете, есть Бог или нет Его, за невозможностью доказать ни то, ни другое – не имеет значения. Но Евангелие реалистично, хотя его и считают нереальным. Оно исходит из того, что человек не может быть безгрешным. И законы и заповеди, изложенные от имени Бога, заставляют человека признать свои поступки грехом. И настаивают, чтобы он (человек) исправлял их и не поступал бы по греховному впредь.
Из всего того рассуждения лесного я вынес одну хорошую мысль. Надо вернуться к заповедям Божиим. Хотя веры в Бога не приобретешь, но нравственность будешь соблюдать верно. А вера придет в процессе познавания Божественных истин. Библия книга большая, и содержит, как материнская плата компьютера не 4 гига памяти, а все 40 – загруженных полностью. Так что долго можно изучать истины Божии, может всю жизнь. Вера придет, как аппетит приходит во время еды. И даже в Библии об этом написано: увидев стремление твое и исполнение заповедей – Бог Сам даст тебе Веру!
Тот грибной поход, когда я ночь провел под дождем, под елкой – изменил мое отношение к жизни, повлиял на мое сознание. Я был тогда молодой и вдруг, резко изменил всю свою жизнь. Стал читать религиозную литературу и посещать ближайший Храм.
Неисповедимы пути господни! Разные случаи приводят людей к Богу, к Вере. Был и такой, описанный мною случай.
Конец.Сила-гора
зарисовка к рассказу, повести
Жил еще при царе, в уральской глуши, старик один – Семенычем его звали, а как по фамилии не упомню. Старик этот из бывших солдат был. Раньше-то, сказывают, медь в рудниках уральских добывал, мастером шахтером был, да согрубил что-то приказчику, тот его и велел выпороть. А этот Семеныч не стал поддаваться, проворный был, и которым слугам рожи поразбивал. Но все-таки обломали. Слуги-то тогда здоровущие подбирались. Выпороли, значит Семеныча и за буйство в солдаты и сдали.
Через двадцать пять годов он и пришел в село вовсе стариком, а домашние у него за это время все поумирали уже. Избушка заколоченная стояла. Хотели уже ее разбирать. Шибко неказисто смотрелась на селе. Тут он и объявился. Подправил свою избу, и жить начал потихоньку, один-одинешенек. Куда уж старому деваться.
Только стали соседи замечать – неспроста дело. Книжки какие-то у него завелись. И каждый вечер он над ними сидит, огонек в окне видно, то лучина, то и лампа с керосином. Думали, – может, умеет людей лечить, раз книжки имеет. Стали с этим вопросом подходить. Отказал решительно: «Не знаю, – говорит, – этого дела. И какое тут может леченье быть, коли работа ваша такая, от шахты да руды, да от тяжести работы – болеете». Думали, опять же, – может, веры, какой особой стал Семеныч. Тоже не видно. В Церкву ходит о пасхе да о рождестве и на праздники, как обыкновенно мужики, а приверженности не оказывает. И тому опять дивятся люди – работы нет, а чем-то живет Семеныч. Огородишко, конечно, у него был. Ружьишко немудрящее имел, рыболовную снасть тоже. Только разве этим проживешь? И не торговал он ни рыбой, ни дичью, ни огородной зеленью.
А деньжонки, промежду прочим, у него были. Бывало, кое-кому и давал в помощь даже. И чудно так давал-то. Иной просит-просит, заклад дает, надбавку сулит, какую хошь, – а Семеныч ни в какую не дает. И тут к другому сам придет: «Возьми-ка, Иван или там Михайло, на корову. Ребятишки у тебя маленькие, а подняться, видать, не можешь».
Одним словом, чудной старик – Семеныч. Которые в селе уважали его, почти вся «деревня», так край села прозывался, где он жил. А которым отказал в помощи – чернокнижником его считали, не любили.
И бывало, ребятишки пойдут в «ночное» с лошадями на речку. Рыбки, пескарей и окунишек наловят и у костра сидят уху варят пустую. Котел-то большой, а в нем рыбка да кто принесет одну-две картошки и все. Голодал бедный люд в те времена, все барину работали.
А только видят ребята, – из лесу идет Семеныч, с ружьем, будто с охоты припоздал. Ребята радехоньки, зовут его к себе: «Садись, дедушко, похлебай ушицы с нами». Он и не упорствует, садится к костру. Попробовал ухи и давай нахваливать – до чего-де навариста да вкусна. Сам из сумы хлебушка каравай мягонький достанет, ломоточками порушит и перед ребятами грудкой положит. Те видят – старику уха-то поглянулась, давай уплетать хлебушек-то. А Семеныч одно свое – ушицу нахваливает, давно, дескать, так-то не едал. Ребята под разговор и наедятся, как следует. Чуть не весь стариковский хлеб съедят. А тот, знай, похмыкивает: «Давно так-то не едал».
А наедятся ребята, старик и спрашивает их про их дела. Да и умно, по доброму, советы надает каждому, добрым словом всегда помогает. Так вся молодежь в селе и знала Семеныча, полюбили доброго старика.
И была у нас перед селом гора. Дорога к селу проложена как раз через гору. По обеим сторонам лес, так что гору ту не объедешь и не обойдешь. Гора горе, конечно, рознь. Иную никто и в примету не берег, а другую не то что в своей округе, а и дальние люди знают: на слуху она, на славе. Так и нашу гору знала вся округа.
Поднималась дорога сначала полого, все вверх и вверх с версту, да такой тяжелый подъем, что и крепкая лошадка, хоть и налегке идет, и та в мыле, – а дальше еще надо взлобышек (бугорок) одолеть, самый трудный подъем. Что и говорить, приметная была наша горка. Один раз человек пройдет либо проедет, надолго запомнит и другим рассказывать станет.
С вершины горы нашей и ту и другую сторону видно далеко, – кто поднимается, кто спускается. И вот, во время «ночного», у костерка, спросил один мальчонка у Семеныча: «Деда, я вот что приметил. Поднимается человек, хоть с той, хоть с другой стороны на нашу гору, – и непременно оглядывается, а дальше разница выходит. Один, будто и силы небольшой и пожилой уже, но пойдет вперед, веселехонек, как в живой воде искупался. А другой, случается, по виду могучий, – вдруг, голову повесит и под гору плетется, как ушиб его кто. Почему такое случается с людьми?».
Вот как примечают чистые детские взоры. И вот как объяснил старый наш Семеныч, очень философски и очень мудро.
«Если спросить у них, чего они позади себя ищут, когда оглядываются. И ответят по-разному: Те, кто идёт дальше веселым, говорят: «ну, как не оглянуться, не поглядеть. Экую гору одолел, дальше и боятся нечего. Все одолею. Потому и весело мне». Другой же грустный – опять скажет: «вон на какую гору взобрался, самая пора отдохнуть, а еще идти надо…».
Вот, видишь, – выходит, что гора-то на дороге – силу людскую показывает. Так и в жизни бывает. Иной по ровному месту, может, весь свой век пройдет, а так и не узнает своей силы. А другой, достигнет в жизни мастерства в ремесле или добился чего, – ровно, поднимется как на гору. Да как поглядит он назад, тогда и поймет, что он сделать может. От этого, глядишь, такому человеку в работе подмога и жить веселее. Но и слабого человека гора показывает в полную меру: трухляк, дескать, на подметки не годится, ничего добиться не мог.
Вот и надо бы нам оглянуться на свою-то жизнь. Чего я достиг? Если ничего, то встряхнись, – тебе наука – достигай, учись, работай!»
Так вот и учил старый Семеныч молодежь сельскую нашу. А те ребятишки своим передавали. И до того укоренилось такое поучение нашего старика Семеныча, – что гора показывает силу человеческую, что и гору называть стали – «Сила-гора».
Парни нарочно туда бегали, прятались, подкарауливали своих невест. Узнают, скажем, что девки ушли за гору по ягоды либо по грибы, – ну и ждут, чтобы посмотреть на свою невесту на самом гребешке горы: то ли она голову повесит, то ли весело пойдет. Невесты тоже в долгу не оставались. Каждая при ловком случае старалась поглядеть, как ее суженный себя покажет на гребешке Силы-горы.
Гора та и посейчас стоит и дорога та же к селу нашему идет. Вот только помнят ли люди поучения старика Семеныча.
Можно приложить это поучение не только для рассказа про старое, а прямо к теперешнему времени:
Вот война была – 9 мая юбилей отмечали. Это такая «Гора», что и смотреть страшно, а ведь народ одолел ее! Сколько силы есть в народе нашем!
И после войны, как быстро и с энтузиазмом восстанавливали разрушенное хозяйство. И Днепрогесс и новое строили – и атомные станции, и космические корабли, и БАМ и Камаз построили. Есть сила в нашем народе и сегодня. Оглянемся и увидим, что мы многое можем преодолеть – никакие «кризисы» нам не страшны. Надо встряхнуться и с веселым духом устремиться покорять новые вершины «Силы-горы».
Сергий чернец.Яшка Кочетов
(зарисовка рассказа, повести).
Проживал в селе нашем мужичок Яшка Кочетов. По местному-то говору: груздок из маленьких, а ядреный, крепкий. Глядел весело, говорил бойко и при случае постоять за себя мог. От выпивки тоже не чурался. Прямо сказать, с этой стороны хоть и не рассказывай, не будь худо помянута покойна головушка.
В одном у него строгая мера была: ни пьяный, ни трезвый своего заветного из рук не выпустит. А повадку имел такую: все денежки, какие добудет, на три доли делил – 1 едовую (на пропитание значит), 2 гулевую, и 3 душевную. В душевную, конечно, самая малость попадала. Все что попадало в едовую долю, все до копейки жене отдавал и больше в них не вязался: «хозяйствуй как умеешь!» Гулевые деньги, от калымов, левых заработков, себе забирал, а душевную долю никому не сказывал, – как и тратил, и сказывать не любил. «Душа не рубаха, что ж ее выворачивать. Под худой глаз попадет, так еще пятно останется, а мне охота ее в чистоте держать. Да и на дело это требуется».
Начнут спрашивать, какое такое дело для своей души у него есть, а он в отворот и говорит: «душевное дело – сродни искусству, творчеству. В крепком камушке драгоценном сидит, хранится. К нему подобраться не столь просто, это не как табачку на трубочку спросить».
Одним словом, чудаковатый немного мужичок – Яшка Кочетов.
А дело его душевное проглядывалось. По столярному и плотницкому мастером был Яшка. И ворота у его дома резные, разукрашенные, одни на всю округу – красота. А уж наличники на окнах – те с резными картинками были на загляденье. И там – птички на веточках и кисти виноградные окна обвивали, каждый листочек, как живой гляделся.
Вот один раз собрались мужики около стройки сельского магазина. Тогда расширялось село наше, и строили новый магазин. Сидели на бревнах многонько народа, о чем-то разговаривали. И подошел к ним и Яшка послушать.
Мужики как раз говорили о своих делах. Жаловались больше, что время скупое подошло. Разговор не бойко шел. Все к тому клонится, как у мужиков заведено, особенно день выходной, – выпить бы по случаю праздника, да денег нет. Тут видят: подходит еще новый человек. Один из мужичков и говорит: «Вон Яшка Кочетов идет. Поднести, поди, не поднесет, всех расшевелит, да еще спор заведет». – «Без этого не обойдется, – поддакнул другой, а сам навстречу Якову давай наговаривать в шутливой форме, – Как, Яков Иваныч, живешь-поживаешь? Что там по хозяйству? Не окривел ли петушок, здорова ли кошечка? Как спал-почивал, какой сон легкий видел?»
И Яков в ответ шутит с сарказмом:
«Да ничего живу – по-хорошему. Петух тебе поклон посылает по-соседски, а кошечка жалуется: больно много сосед мышей развел – справляться сил нет». – «А сон, и точно, занятный видел. Будто в соседнем селе Бог по дворам с сумкой денег ходил, всех уговаривал: «Берите мужики денежки, кому сколько надо. Без отдачи! Лучше дармовые-то, чем полтиннички по одному непосильным трудом добывать».
«Ну и что, чем кончилось?» – засмеялись мужики, желая услышать продолжение занятного сна.
«Отказались мужики от денег дармовых: Что ты, Боже, – куда это гоже, – говорят, – чтоб незаработанное брать! Непривычны мы к этому. Так и не сошлось у них во сне том».
«Да ладно, ты скажешь, кто ж от дармовых откажется» – не согласились мужики.
«Легко сказать, – говорит Яшка – язык без костей!»
Тут который сперва-то с Кочетовым говорил, – он, видно, маленько обиделся за поклон от «петуха по-соседски, – он и ввернул словцо в зазор Яшке. «Вот и то, мелешь себе, у тебя одно пустобайство».
Яшка Кочетов к этому и привязался:
«По себе что ль судишь! Неужели все на дармовщинку позарятся? Не все люди такие. К барышникам приравнял! Совесть-то, наверное, не у всех застыла!»
И тут другие мужики ввязались, и пошло-поехало, спор поднялся, потому что дело близкое, у всех навиду. Хоть Бог ни к кому с казной не приходит, а богатство под руку может и попадет. Бывает.
Стали перебирать богатеев, кто от какого случая разъелся. Выходило, что у всех без фальши богатство не пришло: кто от своих кооперативов утаил, кто-то чужое захватил, а больше всего те кто на перекупке нажился. Купит за пятерку, а продаст за сотню, а то и за тысячу. Эти барышники тошней всего казались работягам – мужикам.
И про то судачили, а есть ли такие, что трудом своим разбогатели, и можно ли кому позавидовать из богатеев. Оказалось всех наказывает – или Бог или Судьба. У одного богача сын дурак дураком вырос, у другого бабенка на стороне поигрывает, того и гляди в могилу мужика загонит и сама от тюрьмы не минует. Этот опять с перепою опух, на человека не походит. А девчонки у всех так гуляют, что хоть уши затыкай, не слушай что творят, когда и так видно, как голозадые, раздетые ходят. А отцам богатеям некогда воспитывать своих взрослеющих девчонок, все время за свое богатство дрожат и все бегают, доглядывают за ним.
Поспорили этак мужики, посудачили, к тому и пришли: нет копейки надежнее, которая потом полита, заработана. Но как бы этих копеек побольше, да без барышников! Известно, трудовики – по трудовому и вывели свою философию жизни.
Меж тем темнеть уже стало. Спор давно на мирную беседу повернул. Один Яшка Кочетов не унимался. «Все это разговор один! – говорит, – А помани кого дармовой казной, да случаем – в миллион рублей, всяк руки протянет и возьмет!»
Так и подвел черту. Хоть и знают все, что трудом надо жить, но от халявы никто не откажется, все мечтают богатство заиметь. Так и сказал: «подвернись случай с богатством и я не откажусь. Крышу вон мне давно перекрыть надо, ребятишки разуты-раздеты. Да мало ли забот». Другой, из сельчан, тут же подхватил: «А я бы лошаденку завел. Гнедую». – «А мне баню поставить – первое дело» – отозвался еще один. За ним остальные про свое сказали. Оказалось, у каждого думка к большому фарту припасена. Знают, ведь, знают, что неправедным богатством счастье не наживешь, но все равно – о богатстве мечтает каждый.
Конец.Колдун
(рассказ).
С утра было прохладно. Это лето не было жарким. И сидя на зорьке у реки я немного замерз. К вечеру вообще начал моросить мелкий холодный дождик. Я заметил огонь костра на заливных лугах ниже по течению реки, там останавливались пастухи на ночь с лошадьми. И я пошел к костру греться.
В «ночное» дежурили и молодые ребята, но «старшой» был старый конюх, на вид лет восьмидесяти старичок. Он лежал на животе у самой дороги, положив локти на пыльные листья подорожника, боком и ногами к костру. А вокруг костра лежали и сидели трое молодых пареньков. Один с густыми черными бровями, безусый, одетый в брезентовую курточку и темную рубаху – лежал на спине, положив руки под голову, и глядел вверх на небо. Над его лицом тянулся Млечный путь, и дремали другие звезды….
Кони топтались тихонько в траве вдалеке от костра, темным табором. На фоне светлого неба с востока, откуда надо было ожидать появления зари, там и сям видны были их силуэты: кони стояли и, опустив головы, о чем-то думали. Их мысли, наверное, были длинные и тягучие, и угнетали их до бесчувствия, так что стояли они, как вкопанные, неподвижно, не замечая ни присутствия чужого человека, ни беспокойства собак. А собаки, заметив мое приближение, известили хозяев лаем.
Старик прикрикнул на собак и они, завиляв хвостами, отошли и прилегли, настороже, посматривая на меня.
– Привет. Никак из Макаровки местной? —
– Да. Тутошний я, только не живу здесь, из города приехал в отпуск. —
– То-то я вижу. Не узнаю, чей же ты? —
Я ответил. И старик, узнав моего деда, обрадовался, они друзьями были в свое время с дедом моим. Так началось общение в тишине ночи.
В сонном, застывшем воздухе стоял монотонный шум, без которого не обходится летняя ночь в природе. Непрерывно трещали кузнечики, пели ночные птицы – неожиданно начиная и так же неожиданно обрывая небольшие свои песенки, да в стороне от поля, на опушке леса, в кустах, лениво посвистывали молодые соловьи.
Большая грязная собака, лохматая, с клочьями шерсти у глаз и у носа, вдруг неожиданно, с хрипением залаяла в темноту ночи, в сторону лошадей. За ней убежали и обе молодые гладкие собаки.
– Взять! Взять! – крикнул вдогонку старик, приподнявшись на локте и махнув рукой.
– Прогонят волка, если что, – сказал он, со старческой улыбкой открывая свой провалившийся беззубый рот. Когда собаки успокоились и вернулись, старик принял прежнюю позу и сказал спокойным голосом:
– А вот в соседней деревне колдун помер, не к ночи будет сказано, для страха. Не боитесь страшных историй? – обратился он к молодежи. Молодой пастух, лежавший на спине, повернулся на бок и пристально, подняв свои густые черные брови, поглядел на старика.
– А я слышал, как ведьмы из печной трубы вылетают и летают. Может и колдун тот летал? – спросил он.
– Слыхать не слыхал, видать не видал, бог миловал – сказал старик, – а люди рассказывали.
– Шел я раз берегом, сюда в Макаровку. Гроза собиралась, и такая буря была тогда…, меня застала около сараев соседней деревни, где колдун-то жил. Поспешил я что есть мочи, гляжу, а по дорожке у кустов черемухи, она теперь большая, черемуха та, как деревья, а тогда кусты были в цвету, – идет белый конь. И думаю: чей это конь? Зачем его сюда, за деревню занесло? Пока думал, подхожу ближе – только бац! – а это не конь, это Колдун. Свят, свят, – перекрестился я, а он глядит на меня и бормочет, глаза выпучил! Испугался я тогда сильно! Мы рядом пошли до сарая открытого и под крышу едва успели зайти – как грянул гром ужасный, и молния рядом сверкнула, и опять гром.
Я тогда боялся ему слово сказать, а он пояснил, что мусор в овраг выкинуть отходил из сарая. Там хранилище колхозное было на краю их деревеньки, а он присматривал за ним, как сторож. И не видел он никакого белого коня….
– Это бывает, галлюцинации, наверное, – сказал один из молодых пастухов.
– Вот ведь, слово нашел какое-то умное. Бывает, говоришь, – сказал старик немного обиженно. – А вот я про Колдуна что знаю…. Это лет 50 назад было….
И рассказал нам старик историю, известную только старикам и старухам, которые жили в те времена, сразу после войны с немцами.



