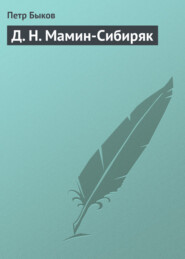 Полная версия
Полная версияД. Н. Мамин-Сибиряк
И в «Бойцах» писатель касается до некоторой степени своей любимой темы взаимного поедания друг друга. Несчастных бурлаков считали не лучше вьючного скота, обсчитывали их при помощи невозможных штрафов, обращались с ними невероятно грубо. Например, приказчик Осип Иванович «без всякого пути разносил в щепы совершенно невинных людей, так-же без пути снисходил к отъявленным плутам и завзятым мошенникам, и в конце концов был глубоко убежден, что без него на пристани хоть пропадай. – „Аспиды, разбойники! Мошенники!“ – ревел он, как сумасшедший, не зная, на кого броситься, и по пути сыпал подзатыльниками и затрещинами». При расчете, благодаря системе штрафов, артель не только ничего не получала на руки, но еще, оказывалось, была должна уплатить заправилам акционерной компании: «только взять-то с них нечего!» – замечает при этом Осип Иванович без малейшей совести. Значит, еслибы было что взять, взяли бы. Представьте себе положение: работала, работала артель, в конце концов кое-кого не досчитывается из своих членов, и в конце концов но только ничего не заработала, но ей же еще приходится платить богатому купцу, должно-быть, за удовольствие, доставленное её членам «святым трудом»… Власть, самая деспотическая, капитала сказывается и в «Бойцах», и писатель отчасти и здесь говорит о нарастающем капитализме, перед громадной силой которого пасует всякая другая сила. «Бойцы» являются как бы прелюдией к целому ряду идейных произведений Мамина, как будто на первый взгляд хаотичных, где картины природы смешаны с картинами повседневной людской сутолоки, где столько самых разнообразных фигур, – а на самом деле стройных, выдержанных, проникнутых излюбленными мыслями, над которыми давно и долго задумывался писатель, достаточно насмотревшийся еще в ранней молодости на несовершенство жизни, на её возмутительные явления, надругательство над человеческой личностью, бесправие, страшный произвол – и совсем исстрадавшийся и невольно проникшийся пессимистическим миросозерцанием. С тоскою пришел он к убеждению, что тайна жизни заключается, между прочим, в самоистреблении природы и человека, во взаимном их поедании. И уже в рассказе «В живых душах» красноречиво, в немногих словах высказал он то, что так ясно представилось его духовному взору. «Вот в этой сочной траве, подернутой утренней росой, – говорит он, – с виду так же тихо, как и в воздухе, но сколько в этот момент там и здесь погибает живых существований, погибает без крика и стона, в немых конвульсиях. Одна букашка душит другую, червяк точит червяка, весело чирикающая птичка одинаково весело ест и букашку и червяка, делаясь в свою очередь, добычей кошки или ястреба. В этом концерте пожирания друг друга творится тайна жизни».
Что еще в очень молодых летах приходила ему эта мысль в голову, что и тогда задумывался он над своим печальным открытием тайны жизни, видно из романа его «Черты из жизни Пепко», где часто проскальзывают намеки на цепь истребления в природе и жизни. В «Бойцах» талант Мамина-Сибиряка уже обозначается довольно ярко и с внутренней и с внешней стороны, чувствуется сильное письмо и манера писателя. Тут же замечается и полный невозмутимого спокойствия, беспристрастия и как будто холодный тон повествователя, который одинаково спокойно изображает и удивительную красоту природы, и вопиющую нищету бурлаков, и катастрофу гибели нагруженной товарами и переполненной людьми баржи. В этом же очерке мы видим уменье изобразить пестроту жизни и разобраться в огромном материале, которым всегда владел писатель. В «Бойцах» уже можно в достаточной степени распознать его творчество, оглядеться в нем, на основании фактов и явлений, выдвигаемых писателем, угадать их причину, познать их начало. На Мамина-Сибиряка всегда ошеломляюще действовала масса разнородных впечатлений, им испытанных, и ему стоило немалого труда привести их в порядок, воспользоваться ими для своих целей. «Я долго не мог заснуть, – рассказывает он в „Бойцах“. – Мне мерещилось все виденное и слышанное за день, эти толпы бурлаков, пьяный Савоська, мастеровые, „камешки“, ужин в караванной конторе и наконец больные бурлаки, и этот импровизированный пир „веселой скотинкой“. Целая масса несообразностей мучительно шевелилась в голове, вызывая ряды типичных лиц, сцен и мыслей. Как разобраться в таком хаосе впечатлений, как согласовать отдельные житейские штрихи, чтобы получить в результате необходимое целостное представление? Каждый раз, когда хотелось сосредоточиться на одной точке, мысли расползались в разные стороны, как живые раки из открытой корзины». Но надо только прочесть «Бойцы», чтобы увидеть, как писатель умел собрать, привести в систему свои мысли и создать стройное целое.
В один год с «Бойцами» появились в «Деле», «Отечественных Записках», «Вестнике Европы» и «Русской Мысли»: «Золотуха» очерки приисковой жизни, «Переводчица на приисках», рассказ из жизни на Урале, повесть «Максим Венелявдов», некогда забракованные Салтыковым «Старатели», тоже очерки из приисковой жизни, и наконец большой роман «Приваловские миллионы», который один из критиков ставить очень высоко. Это, по его мнению, «безспорно лучшее произведение огромного художественного таланта Мамина-Сибиряка и одно из лучших украшений нашей литературы». Среди самых крупных вещей писателя «Приваловские миллионы» выдаются своим богатейшим и необыкновенно разнообразным содержанием и взяты из истории громадного наследства, оценивавшегося в несколько десятков миллионов и заключавшегося в Шатровских заводах, знаменитых на Урале. Сто пятьдесят лет созидалось и необычайно расширялось и дозволенными и недозволенными способами это дело и превратилось в исполинское предприятие. Завод занял пространство в четыреста тысяч десятин земли, богатейшей в целом мире, и его население достигло до сорока тысяч с лишком. Завод вырос на башкирских землях и создан тяжелыми трудами крепостных крестьян, лишенных земли и приписанных к заводскому населению. Темное прошлое этого завода Мамин-Сибиряк передает с большими подробностями, в связи с историей рода Приваловых. Методично, картинно, с ужасающими подробностями рисует он, как завзятые проходимцы «греют руки» у огня приваловского наследства, которое за несовершеннолетием главного наследника и героя романа, Сергея Привалова, «опекается» достодолжным образом хищными птицами, успешно ощипывающими золотые, пышные перья, и как все это потом пошло прахом. Завод за долги поступил в казну, а опекуны-хищники в конец прогорели, потеряв награбленное.
В «Приваловских миллионах», изображая жизнь Урала, писатель интересуется уже не жизнью и судьбою трудящихся масс, а нравами воротил промышленного предприятия, судьбами честных деятелей и заправских разбойников в этой области. И здесь Мамин-Сибиряк с любовью останавливается на типе своего рода богатыря – управляющего заводов, тяготея к нему так же, как тяготел он в «Бойцах» к Савоське-сплавщику. Это – старик Бахарев, питомец ранних владельцев Шатровских заводов, воспитанный в правилах старой веры, распинающийся ради принесения пользы малолетнему наследнику Сергею Привалову и самому делу, в которое он влюблен, привязан к нему как-то стихийно. Всеми силами стремится он поднять заводское дело и достигает цели. Но по натуре своей честный, прямой, он не в состоянии работать с другим опекуном, Ляховским, циничным грабителем, – и отстранился от дела. Тип очень любопытный, начиная с внешнего облика. «Громадная голова, – так рисует его автор, – с остатками седых кудрей и седой всклоченной бородой была красива оригинальной старческой красотою. Небольшие проницательные серые глаза смотрели пытливо и сурово, но в присутствии Привалова были полны любви и теплой ласки. Самым удивительным в этом суровом лице, со сросшимися седыми бровями и всегда сжатыми плотно губами, была улыбка. Она точно освещала все лицо. Так умеют смеяться только дети да слишком серьезные и энергичные старики». Духовный облик его был тоже не из заурядных. Напор жизни принудил пожертвовать кое-чем из своего «староверия», небрежно относиться к некоторым обрядам и установлениям старообрядства, но проводником в жизнь всего того, что он унаследовал от дедов, закаленных в старинном крепостничестве, он остался. Верен был жестокости при соблюдении старых основ, строго относился к рабочим, учил их уму-разуму по-своему. Когда его дочь, любимое дитя, сошлась со своим возлюбленным, он старался забыть ее и четыре года не виделся с нею. И таков он был везде, где старые устои подвергались опасности…
Перед этим богатырем своего рода кажется даже бледною фигура главного героя романа, Сергея Привалова, мечтателя, который одушевлен заветной мыслью – поднять земледелие на Урале в виде противоядия заводской промышленности, потому что «в недалеком будущем на заводах выработается настоящий безземельный пролетариат, который будет похуже всякого крепостного права». Привалова гнетут его наследственные миллионы, которыми он ни за что не желает воспользоваться. Он чувствует, какой он неоплатный должник и башкиров, на чьей земле возведены Шатровские заводы, и крестьян, ставших безземельными, после темной проделки с ними. И Привалов мечтает расплатиться со всеми кредиторами, хотя миновала уже историческая давность. Но скоро он видит тщету своих честных порываний, познаёт силу, с которой ему придется бороться. Однажды он зашел во время Ирбитской ярмарки в театр и, когда рассмотрел присутствовавшую публику, ощутил какую-то особенную пустоту в душе, даже не мучившую его. «Он только чувствовал себя частью этого громадного целого, которое шевелилось в партере, как тысячеголовое чудовище. Ведь это целое было неизмеримо велико и влекло к себе с такой неудержимой силой… Даже злобы к этому целому Привалов не находил в себе: оно являлось только колоссальным фактом, который был прав сам по себе, в силу своего существования»… И ему пришло на мысль, зачем он здесь? «Куда ему бежать от всей этой ужасающей человеческой нескладицы, бежать от самого себя? Он сознавал себя именно той жалкой единицей, которая служит только материалом в какой-то сильной творческой руке»… Ничего он, конечно, не сделал. После его поездки в Ирбит разбились все его идеалы, надежды, мечтания. Он стал пить, опустился и задавался вопросом: «для кого и для чего он теперь будет жить?.. Его идея в этом страшном и могучем хоре себялюбивых интересов, безжалостной эксплуатации, организованного обмана и какой-то органической подлости, жалко терялась, как последний крик утопающаго». Словом, Привалов пал жертвой стихийной власти – капиталистического роста. Мамин-Сибиряк отдал много творческой силы своему герою, нарождавшемуся народнику, этой очень сложной натуре. На Привалове, так же, как на целом ряде действующих лиц разных его романов, писатель показал типичность «роковых» людей, являющихся игралищем всяких стихийных сил, природных и общественных, перед которыми так слаб, жалок и ничтожен человек! Недаром еще Тютчев сказал:
Пред стихийной вражьей силойМолча, руки опустя,Человек стоит уныло,-беспомощное дитя…
Эта та сила, перед которой все слабое гибнет неслышно, а крушение сильных сопровождается шумом.
Кроме Привалова в этом романе интересна целая галлерея разнообразных фигур, некоторых типов, совсем новых в литературе. Таковы, например, Заплатина – паразит, полип, присасывающийся и к живому и к гниющему телу, умеющий извлекать пищу для себя, для своей ненасытной утробы; опекун Ляховский, родственник Плюшкина, величающий себя славянофилом, плут международный на поверку, немчура Оскар Шпигель, мастак ловить рыбку в мутной воде, циничный бонвиван Веревкин, приятель Привалова, разнузданный богач Лаптев, российский набоб – с одной стороны, и Бахарев и это дочь Надя – с другой. Тип Нади Бахаревой производит необыкновенно отрадное впечатление, прямо очаровывает, точно красавица пташка среди грубых коршунов и черных, ненасытных воронов. Многие критики находят, что в нашей «изящной словесности», старой и новой, это один из лучших женских типов. И все эти типы «Приваловских миллионов» не избегают разрухи, кончают банкротством денежным или духовным, провалами, неудачей. «Приваловские миллионы», – это величественная картина жизни, наглядное изображение капиталистического процесса, грозного явления, которое захватывает, подобно спруту с его бесчисленными щупальцами, множество всяких человеческих видов и разновидностей – и господ, и слуг, и представителей интеллигенции, и черноземную силу. Много в романе блестящих страниц, материала, очень пригодящегося для разработки разных социальных вопросов. Большая часть типов – мастерские портреты с натуры, – пейзаж приятно действует свежестью красок, красноречиво говорит о самом близком знакомстве писателя с природой и жизнью края, в котором происходит действие романа, а также с историей этого края, с его этнографией. Картина ирбитской ярмарки написана сочной кистью, ярко отмечена «эта развернутая страница чисто-народной жизни» – той жизни, которую всегда так любовно изображал певец Урала и Сибири. На этом зимнем торжище, куда собираются представители пушной торговли всего света, переплелись в один крепкий узел кровные интересы миллионов, а эта вечно-голодная стая хищников справляла свой безобразный шабаш, не желая ничего знать, кроме своей наживы и барыша. Глядя на эти довольные лица, которые служили характерной вывеской крепко сколоченных и хорошо прилаженных к выгодному делу капиталов, кажется, ни на мгновение нельзя было сомневаться в том, «кому вольготно, весело живется на Руси». Эта страшная сила клокотала и бурлила здесь, как вода в паровом котле: «вот-вот она вырвется струей горячего пара и начнет ворочать миллионами колес, валов, шестерен и тысячами тысяч мудреных приводов!»
По этому маленькому образчику вполне можно судить о даровании Мамина-Сибиряка, о художественной красоте его описаний. В «Приваловских миллионах» действует городской Урал, и писатель, обращаясь к жизни преимущественно уральских центров, почти совсем приближается к современности этого края. «Героический» период горнозаводского дела, железного и золотого, отходит в былое. В романе едва ли не весь Урал захвачен автором, в лице представителей края, обитающих около золота и железа. Перед нами проходит длинная вереница образов, картин, описаний, очень характерных не только для недавнего Урала, но и для всей России, для современности. Вообще роман представляет собою нечто цельное, полное, всестороннее. Это – великолепный калейдоскоп, живая панорама жизни и деятельности далекого края, который под пером писателя так приблизился к нам. Роман «Приваловские миллионы» недостаточно оценен в нашей литературе, и его приходится причислить к замечательным явлениям, пропущенным нашей критикой. Если бы подобный роман вышел за границей, он произвел бы настоящую сенсацию и его значение было бы признано лучшими критиками. Только в сравнительно недавнее время один из чутких критиков наших, В. Альбов, в своей обстоятельной статье «Капиталистический процесс в изображении Мамина-Сибиряка» отдал должное этому замечательному произведению, оценил его по достоинству, назвав его выдающейся вещью с родной литературе.
Вслед за «Приваловскими миллионами» появилось другое крупное во всех отношениях произведение Мамина-Сибиряка – «Горное гнездо», напечатанное в «Отечественных Записках» 1884 года, заставившее говорить о себе и еще более выдвинувшее писателя в литературе, расширившее круг его постоянных читателей. В литературном мире это произведение создало Мамину друзей и почитателей, увидевших в нем новую восходящую звезду и возлагавших на него большие надежды, которые и оправдались вполне довольно скоро. «Горное гнездо» также посвящено горнозаводскому Уралу, описанию нравов его, причем на первый план выдвинута заводская администрация и интеллигенция, что называется, во всей красе и неприкосновенности. В романе выведен округ Кукарских заводов с длинным рядом его заправил, с превосходно зарисованными типами. Кукарские заводы занимают огромную территорию в пятьсот тысяч десятин, что равняется пространству целого германского княжества или какого-нибудь королевства в Европе, а заводское население вместе с селами, деревнями и «половинками» соответствует пространству, достигая пятидесяти тысяч душ, рассеянных по селам, деревням и заводам, которых было семь. Десятки тысяч людей свершают здесь свой тяжкий огневой труд на пользу владельцев этих заводов, живущих где-то далеко и словно покрытых дымкою тайны. Один из таких таинственных незнакомцев, набоб Лаптев, типичный образчик вырождения, и выведен в романе. Он списан с натуры: под этим именем всякий знакомый с историей горного дела на Урале сразу узнает другую историческую уральскую фамилию. На Лаптеве, на его неожиданном приезде в «горное гнездо» вертится интерес романа. Вместе с тем перед читателем открывается великолепная страница, необыкновенно своеобразная, из истории накопления капитализма, его поступательного хода, причем повествователь рисует целый ряд эпизодических картинок заводской жизни. Кукарский завод старше других и обширнее, был центральным среди остальных заводов, главенствовал, и в смысле административных заводских распорядков являл собою их душу и сердце; из него исходили все циркуляры, приказы, донесения, рапортички, – вся канцелярская производительность. Служить здесь значило быть на виду у начальства, и это находили большой честью, и немудрено, что мелкота прочих заводов завидовала всем служащим на Кукарском заводе, весь свой век грезила о таком счастье.
«Когда вы читаете „Горное гнездо“, – говорит А. М. Скабичевский, – вы порою совершенно забываете, что имеете дело не более, как с фабрично-промышленным округом: перед вами словно как бы и в самом деле какое-то владетельное немецкое княжество XVIII столетия с целою иерархиею соперничавших и подкапывавшихся друг под друга администраторов, с двором, наполненным невообразимой путаницей чисто-макиавелевских интриг, и с владетелем всех сокровищ во главе, рисующимся перед вами не простым фабрикантом, а как бы владетельным принцем немецкого княжества, огь одного мановения пальца которого зависит участь десятков тысяч народа». Приезд в свое «железное» герцогство горного царька Лаптева и пребывание его там, интриги вокруг него целой стаи заправил Кукарских заводов, их раболепство перед магнатом, подлизыванье, подличанье холопствующих проходимцев, из кожи лезущих, чтобы угодить пресыщенному, до мозга костей развращенному магнату, и происходящие на этой почве трагикомедии, – вот содержание романа. Не честность, не ум дарования ценит «железный» магнат в своих подчиненных, в заводских служащих, а только изобретательность, их уменье угодить своему патрону, расшевелить вялость нажравшегося боа-констриктора, обратить какой-нибудь новой выдумкой, из ряда выходящим кушаньем, развлечением его сонное внимание. Секретарь заводского главноуправляющего, мелкая сошка, подленький холоп, вдруг выползает вперед единственно потому, что для развлечения барина изобретает какую-то татарскую борьбу, а старший лесничий удостаивается благодарности и лобызания растроганного набоба за то, что на закуску подал ему маринад из губы лося. И вся орава мерзких паразитов только и занята изобретениями в этом роде. Они увидали, что разбудить внимание горного царька относительно заводских дел, улучшения производства и проч. невозможно. Да в сущности этим тлетворным бактериям и не было никакого дела ни до заводов, ни до всего Урала, ни до всего мира, кроме собственного благополучия и ублаготворения своих низких, животных инстинктов.
Надо много таланта, чтобы справиться с такой широко задуманной картиной, чтобы показать рост капиталистического процесса – с одной стороны и недуги и язвы заводского дела на Урале – с другой, и ко всему этому изобразить, как таким важным делом ворочают ловкие и обнаглевшие проходимцы, всласть наслаждающиеся своим бытием, глухие к стонам рабочего Урала. Приезд набоба, ухаживанье за ним, интриги, подличанье, жестокая борьба соперничающих негодяев проходят перед читателем красивой феерией, переходящей порою в комедию и кончающейся веселым фарсом, когда набоб улепетывает невзначай из своего царства, никого не предупредив, оставив и крестьян, ждавших его, как Бога, и земцев, «с иглочки новеньких», ждавших могущественного слова магната для решения всяких хозяйственных и иных важных вопросов, и всю администрацию горнозаводскую, с разинутыми ртами, с болью разочарований и обманутых надежд. Какой мастерской кистью написана картина самого приезда Лаптева, этого торжественного момента для всех ожидавших «великия и богатые милости»! Как ярко, типично исполнены массовые изображения и с каким тщанием, верностью психологической очерчены фигуры действующих лиц – самого героя Лаптева, его доверенного Прейна, Родиона Сахарова, генерала Блинова, теоретика и кабинетного ученого, бедной девушки Луши Прозоровой, дочери мелкого служащего, наконец ловкой и подлой интригантки «царицы Раисы», то-есть Раисы Горемыкиной, жены главноуправляющего, которая правила всем заводским округом, его «внутренней политикой» при содействии его Ришелье – Родьки Сахарова. Раиса представлена во весь рост. Начала она свою «работу» с разных урезок, сократив штат служащих, сбавив им жаловпнье и прибавив работы. Приказчиков из крепостных она заменила управителями, специалистами горнозаводского дела. «Большой свет» заводов был у неё в руках, и она играла роль царицы в своем мирке, где ее окружали поклонники, льстившие ей, делали вид, что преклоняются перед её авторитетом, раболепствовали перед ней, а за глаза предательски разбирали ее по косточкам, бранили, сплетничали на нее и всячески подкапывались. Живой, интересной вышла её фигура у Мамина-Сибиряка вместе с написанным также во весь рост набобом Лаптевым, взбалмошным, чревоугодником, бабником, обладавшим странной привязанностью к беспрестанному переодеванию; его неподвижная, апатичная натура с чисто-животными инстинктами отталкивала даже бедную девушку Лушу, к которой набоб почувствовал влечение, может статься, впервые во всю свою жизнь начавший испытывать полноту чувства, его свежесть, силу. Он ревниво искал общества этой гордой, с большим запасом внутренней жизни девушки, и при виде её становился неузнаваемым: его апатичность исчезала, а на морщинистом, увидавшем лице вспыхивал румянец. Типичным вышел и Родька Сахаров, доморощенный Ришелье, домашний секретарь Горемыкина, правая рука царицы Раисы, путем мошеннической проделки обездоливший крестьян и фактически сделавший крепостным население Кукарского округа. Останавливают на себе внимание и земец Тетюев, сперва как будто исполненный благих намерений, а потом потерявший невинность и очутившийся служащим набоба, сделавшись юрисконсультом и будучи переведен в столицу, а также генерал Блинов, профессор, не имеющий ничего общего с паразитами Кукарского завода, приехавший по желанию Лаптева для реформ на заводах, верящий в это дело, но кабинетный ученый, дальше книг об Урале ничего о нем не знающий. Если б он не был теоретиком, он мог бы сделать много хорошего, распутать узел, которым было стянуто население заводов.
Довольно сложная и запутанная интрига, на которой построен роман, его эффектный конец, ею стройность, выдержанность, придают «Горному гнезду» огромный интерес. В романе много жизни, движения, превосходное развитие содержания. Критика единодушно признала его выдающимся произведением по его стройности, законченности, возрастающему и с каждой страницей более и более захватывающему интересу, самой удачной вещью в смысле психологическом, а равно и в символическом. А. М. Скабичевский замечает, что в то время, как остальные произведения Мамина-Сибирика, посвященные Уралу, являются скорее всего летописными сказаниями, это, напротив, «роман в истинном и вполне европейском смысле этого слова. Каждая подробность здесь идет к делу и все более и более обрисовывает и действующие лица, и все их взаимные отношения; каждая сцена полна жизни, движения и представляет необходимое звено в развитии сюжета. Это единственный роман Д. Н. Мамина, который целиком мог бы быть переделан в комедию и поставлен на сцену, и какая бы это была бойкая, эффектная и содержательная пьеса». Многое в этом романе, по мнению того же критика, не поддается передаче, приводит читателя в неописанный восторг и по многим сценам делает роман истинно-классическим, лучшим произведением в нашей литературе. Тот же критик отдает должное также и изображению типов, выведенных в романе. По его мнению, в лице набоба Лаптева мы имеем строго выдержанный, не только в художественном, но и в научном отношении тип полного вырождения… «Это замечательный тип из всех, какие только встречались в нашей литературе, и без всяких преувеличений смело можно поставить его в одном ряду с такими вековечными типами, как Тартюф, Гарпагон, Иудушка Головлев, Обломов».
В «Горном гнезде» ярче, чем в других романах Мамина-Сибиряка, рисующих суровую родину железа, золота и самоцветов, представлена художественная летопись того недалекого прошлого этого края, когда жизнь заводов уральских не успела еще оторваться от старого корня, выросшего на рабстве. Изображая эту эпоху Урала, писатель имеет в виду ход жизни и судьбу населения не одних только Кукарских заводов, но и всей нашей родины. Это можно заключить из резюме романа, вложенного в уста пьяницы Прозорова, отца хорошенькой Луши, уехавшей с Бренном в качестве его любовницы. Оно вместе с тем является прекрасной оценкой действующих лиц «Горного гнезда». «Вы думаете, царица Раиса, – говорить, проливая пьяные слезы, старик Прозоров, – я плачу о том, что Лукреция (т.-е. его дочь Луша) будет фигурировать в роли еще одной жертвы русского горного дела, – о, нет! Это в воздухе, – вы понимаете, мы дышим этим. Проституцией заражена наука, проституция в искусстве, в нарядах, в мысли, а что же можно сказать против одного факта, который является ничтожной составной частью общего „прогресса“. Не об этом плачу, царица Раиса, а о том, что Виталий Прозоров, пьяница и потерянный человек во всех отношениях, является единственным честным человеком, последним римлянином. Вот она где, настоящая-то античная трагедия, царица Раиса! Господи, какое время, какие люди, какая глупость и какая безграничная подлость! Тетюев с Родькой (т.-е. Родионом Сахаровым) теперь совсем подтянуть мужиков, а генерал (Блинов) будет конопатить их подлости своей проституированной ученостью… Посмотрите, какой разврат царить на заводах, какая масса совершенно специфических преступлений, созданных специально заводской жизнью, а мы… Наука, святая наука и та пошла в кабалу к золотому тельцу! И вашему царствию, Раиса Павловна, не будет, конца… Будьте спокойны за будущее – оно ваше. Ваш день и ваша песня… И слабая женщина нашла наконец свое место на пиру жизни… Да, теперь честной женщине нечего делать». Монолог Прозорова – это крик наболевшего сердца самого автора, преисполненного скорбного пессимизма.



