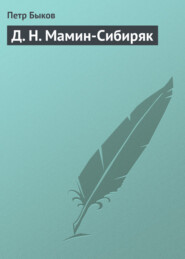 Полная версия
Полная версияД. Н. Мамин-Сибиряк
Живя в Царском-Селе, Дмитрий Наркисович предпринимал иногда поездки, по литературным делам, в Москву. И здесь его встречал радушный прием собратьев по перу и издателей. В Москве у него были старые приятели. Еще когда он жил в Екатеринбурге, он наезжал в нашу белокаменную столицу и во вторую поездку туда в 1886 г. подружился с народником Н. И. Златовратским, часто видался с известным историком В. О. Ключевским и профессором Н. И. Стороженко. Встречи с ними происходили большей частью в редакции «Русской Мысли», где Дмитрий Наркисович сотрудничал долгие годы, лет десять, и в доме Виктора Александровича Кольцова, да еще в редакции «Русских Ведомостей». Дм. Наркис. высоко ставил советы Ключевского и Стороженко и очень дорожил их мнением, в особенности последнего, который вполне признавал художественный талант писателя и более всего ценил его «Уральские рассказы». Дмитрий Наркисович был близко знаком и с А. И. Чупровым, очень одобрявшим романы его, посвященные быту и нравам уральских золотоискателей и рисующие движение стихийной силы капиталистического захвата. Дмитрий Наркисович очень любил простоту, патриархальность, чисто-русское радушие, хлебосольство, чем отмечена Москва, и жизнь здесь, где ему как-то пришлось пробыть довольно долго, ему нравилась. В Москве он установил прочные связи с журналами и газетами, выходящими в ней; ему приятно было печататься и в «Русской Мысли», и в «Русских Ведомостях», и в «Детском Чтении». В «Русской Мысли» он работал с 1884 но 1903 г. и поместил в ней такие выдающиеся произведения свои, как «Три конца», «Братья Гордеевы», «Хлеб», «На улице» («Бурный поток»), «Суд идет», «Около господ», «Башка», «Отрава», «Самоцветы», «Старатели», «Слезы царицы», «Профессор Спирька», «Но мама», «Великий грешник» и друг.
В год переезда Дмитрия Наркисовича в Петроград в «Русской Мысли» появилась его повесть «Братья Гордеевы», где рассказывается мрачный эпизод из заводских нравов при крепостном праве, который произвел на Мамина-Сибиряка такое неотразимое, глубокое впечатление, что романист рассказал его в «Горном гнезде» и в «Трех концах» и, не довольствуясь этим, на тот же сюжет написал целую повесть с приведенным выше заглавием. Эпизод касается заводских «заграничных», т. е. получивших воспитание за границей. В начале прошлого столетия владельцы уральских заводов вздумали посылать молодежь из своих крепостных за границу с тем, чтобы молодые люди изучали там горное дело. У заводчиков это сделалось какой-то манией. Молодые люди получали специальное образование, чувствовали себя на чужбине, как дома, или, правильнее, лучше, чем дома, за десять лет пребывания в чужих краях привыкали к новому строю жизни, женились на немках или француженках. Несколько таких пар вдруг были потребованы их хозяевами, барами, домой. И «заграничные» специалисты являлись на Урал, не подозревая, что они остаются крепостными, да и жены их волей-неволей попадают в крепостничество. Вот тут-то и начинается трагедия. Главноуправляющий Мурманских заводов, человек невежественный, злобный, сам крепостной, с первого приезда возненавидел «заграничных» десятерых молодых людей, которые в качестве самых отборных учеников заводской школы были отправлены для изучения горной части за границу. Негодяй возненавидел их и за европейское платье, и за воспитанность и, главное, за то, что они люди образованные, «не ко двору» заводским озверелым начальствующим лицам. Грозный главноуправляющий, Лука Назарыч, быстро придавил молодых людей своей железной рукой, рассовав их на самые убогия места с грошовым вознаграждением, создав им вполне безвыходное положение. Ведь из «заграничных», по глубокому убеждению Луки Назарыча, прежде всего надо было выбить «ученую дурь» и все европейское. И вот механики получили должность писарей, металлурги назначены на работы при конюшнях завода, чертежникам приказано быть машинистами, минералогам – лесниками, и т. д. Тем из них, кто вздумал протестовать, выпала еще горшая участь: их разжаловали в чернорабочие, секли розгами, назначали в куренные работы, угольщиками, в шахты, где они копали медную руду, словом – многих превращали в каторжан. Свирепел нечестивец, быть-может, мстя им за все, что ему выпадало на долю от заводовладельца. Самые загрубелые и крепкие, закаленные в тягостной работе заводские мужики не все в состоянии были выносить ее, а что же должны были испытывать «заграничные»? Иных в шахту спускали на верную смерть. Чудовищный Лука Назарыч добился своего: одни из «заграничных» доработались до чахотки, другие помешались, а третьи сделались горькими пьяницами. Положение женщин… Но о них лучше и не говорить, не упоминать о постигшем их позоре, систематической травле, их голодании и проч. Несчастные не умели даже говорить по-русски и медленно вымирали, а вслед за ними преждевременную смерть находили и дети. Вскользь сказавший о «Братьях Гордеевых» Скабичевский замечает: «Страшный эпизод этот тем более поражает вас, что вы наглядно видите здесь, какую непримиримую ненависть питает грубое невежество к малейшему просвету образованности и знаний, ненависть слепую и чисто-стихийную, обусловливающуюся вовсе не какими-либо поступками, выходящими из уровня рутины со стороны людей, имевших несчастье и дерзость получить образование, а одним лишь злобным чувством зависти перед нравственным и умственным превосходством». Эпизод этот о «заграничных» послужил канвою для повести «Братья Гордеевы», и Мамин-Сибиряк вышил по ней богатый узор в довольно мрачных тонах.
Повесть относится к сороковым годам. Федор Якимыч, управляющий заводом, один из тех «энергичных стариков», тип, к которому романист чувствует какое-то особенное пристрастие, влеченье, «род недуга», действует в повести в роли настоящего самодура, который изводит двух «французов» – братьев Гордеевых. Они были крепостными заводовладельца, давшего им высшее техническое образование и для этого пославшего их за границу, когда они были еще мальчиками. Сделав их европейски-образованными, он не успел дать им «вольную», и братья, оставшись после смерти своего барина-благодетеля такими же крепостными, как простые заводские рабочие, поступили под начальство «энергичного старика». Но словам автора, это был характерный старец, необыкновенно цветущий, красивый, вопреки природе. «Широкое русское лицо так и дышало силой – розовое, свежее, благообразное». Несмотря на внешний прекрасный облик, он был, говоря шуточным стишком Некрасова, «чиновник с виду и подлец душой». «Французы» не могли раболепствовать перед самодуром, и он морил их в шахте и довел до того, что один из Гордеевых покончил с собою, а другой брат сошел с ума. Жену одного из братьев, иностранку, «энергичный старик» сделал своей любовницей. Федор Якимыч в управлении заводом выказал отчаянную жестокость: в машинной он, то и дело, сек и виноватых и правых, ссылал в новооткрытый медный рудник, служивший на заводе чем-то в роде домашней каторги, на изнурительную работу, которая считалась хуже «огненной» во сто крат и ссылка в которую признана была рабочими величайшей бедой. Побои и ругательства без конца, практиковавшиеся Федором Якимычем, разумеется, не шли в счет. Таковы были приемы «энергичного старика», представляющие яркую иллюстрацию заводских порядков при крепостном праве. Повесть имеет обличительный характер и, вместе с тем, это живая страничка из истории крепостного времени на Урале, в заводских районах. Грустное, подавляющее впечатление производит эта повесть и так ярко написана, что читатель вместе с автором душой переживает ужасы былого, которым хотелось бы не верить, но нельзя, потому что автор пишет голую правду, не прикрашивая её ни малейшей фантазией. Мимоходом нельзя не сказать, что, как повествователь, как бытописатель, летописец нравов, он высоко-правдив. Он дает только факты, которые сами говорят за себя, и вдобавок умеет рассказать их так, что иногда невольно бьется все учащеннее сердце читателя и морозь подирает по коже.
В 1892 году в «Северном Вестнике» с первой книжки начал печататься новый большой роман нашего писателя, в пяти частях, занявший собою целое полугодие журнала, роман «Золото». В нем Мамин развертывает перед читателем живописные, с пестрыми, колоритными картинами уральской золотопромышленности, страницы недавнего былого. Это – картины человеческой алчности и всяких ужасов в момент перелома, совершившегося при падении крепостного права и следующего за ним пореформенного периода, в момент перехода от принудительных работ к вольнонаемному труду. Действие происходить на Балчуговской и Кедровской дачах, где из кожи лезуг «старатели» и хищничество доходит до геркулесовых столбов. Повальное пьянство, дикий разгул, убийства свирепствуют во всю. Страсти предпринимателей разгораются в пожары… Полунищее приисковое население, многотысячная толпа, не то свободная, не то подневольная, творить невесть что, охваченная хроническим недугом – золотой лихорадкой. её пароксизмы вызываются снятием казенного запрета с громадной золотоносной Кедровской дачи, обетованной земли, сплошь усыпанной золотом. Довольно казне жадничать, – теперь над добыванием золота может трудиться всякий, кто хочет. Золотая лихорадка сводить с ума самых уравновешенных людей, когда они начинают чувствовать близость счастья, перед которым все преклоняются, – близость золота. Оно в корень развращает население. «Самые стойкие, самые выдержанные в духе патриархальных, веками выкованных и закаленных традиций люди и семьи гибнут, как мотыльки на огне, опаленные ядовитым дыханием золотого молоха…» А в результат – одна разруха, тлен. Из-за золота рушатся устои старой патриархальной семьи. Его добывают страшным трудом или воруют друг у друга, звереют в атмосфере легкой добычи…
На сцене питомцы каторги и крепостничества, мрачный старший штейгер Родион Потапыч, бабушка Лукерья, скупщик краденого золота Ястребов, Каблуков, с чистой совестью сосущий дойную корову, казну, в своей канцелярии, старатель Матюшка, «кержак» Кожин, жизнерадостный Карачунский, управляющий приисками, и много других лиц, живущих золотом и около золота, представителей начальствующих верхов и самых последних низов. Это мастерски обрисованные типы, живьем схваченные из суровой действительности. Суров Родион Потапыч, штейгер, обожающий свою родную шахту, но безусловно честен и с любовью очерчен автором, как сильная, кряжевая натура. Орлом смотрит Ястребов, к которому попадает едва ли не семь восьмых золота, краденого в округе, скупщик, сумевший широко поставить воровское дело, широкая натура русская, пьющая запоем и нередко, чувствующая покаянное настроение. Если «орлом» смотрит храбрый вор Ястребов, то городской чиновник Каблуков, всесильный в области приискового промысла, продувная бестия, знающая все ходы и выходы, способный и на подлог и на кражу, представляется коршуном-тетеревятником, не брезгающим всякой падалью. Очень цельная натура – раскольник Кожин, интересен безобидный старатель Матюшка, делающийся убийцей. Он укокошил другого старателя, только-что разбогатевшего счастливого старика Княжина, да прихватил кстати еще троих и зверски покончил со всеми четырьмя. Жаль делается Карачинского, управляющего приисками, впутавшегося в грабительскую теплую кампанию, систематически расхищавшую казенное дело; его отдают под суд, и он стреляется. Кожин погибает, будучи оторван от любимой жены; штейгер Родион Потапыч Зыков, из мести затопивший шахту с новой, открытой им богатой жилой золота, кончает помешательством; старуха, раньше бескорыстная, а потом готовая из-за нескольких рублей проклясть сына, сгорает во время пожара, спасая свой капитальчик. И все разрушается, идет прахом, и, как поет оперный Мефистофель, «люди гибнут за металл!» Начав читать роман, вы уже как-то пророчески чувствуете что не чем иным, как только бедой, может окончиться эта болезнетворная жажда золота.
Роман производить потрясающее впечатление, интерес растет с каждой новой страницей. «Когда вы читаете роман, справедливо замечает Скабичевский, перед вами бесконечно распутывается клубок ненасытной алчности, продажности, готовности потопить ближнего в ложке воды из-за медного гроша, зверской жестокости, душегубства. На протяжении всех четырехсот страниц положительно не над чем отдохнуть душою; хотя бы один луч света блеснул в этой непроглядной мгле кишащего всеми пороками гнезда. Даже любовь, это чувство, которое по самому своему существу должно было бы умиротворять и смягчать душу, ведет здесь, напротив того, лишь к новым жестокостям и зверствам». Этот же критик находит, что в романе «Золото» быт и нравы уральских золотоискателей изображены «в таких мрачных красках, перед которыми должны побледнеть все пресловутые рассказы Брет-Гарта из калифорнской жизни». И в этом замечательном произведении проводит Мамин свою любимую идею о полном бессилии, грустном принижении человека перед стихийными силами. Здесь она выражена необыкновенно сильно и убедительно. Одна из таких убийственных стихий золото. Оно, но словам автора, «недосягаемая мечта, высший идеал, до которого только в состоянии подняться промысловое воображение». Золотая сила перевернула вверх дном всю жизнь людей, под её страшной пятой переродившихся до неузнаваемости, с одной стороны почувствовавших свое бесправие, тяжелую зависимость, с другой пренебрегших лучшими старыми заветами, совестью, честью, стыдом, святых чувством любви. Под действием магической силы золота совершилось страшное растление нравов, люди перестали быть людьми, озверели, исподличались, были готовы на все. Одно из действующих лиц романа, «Мина клейменый», рассказывает «старателям», мечтающим разбогатеть, небылицу о какой-то «золотой свинье». И в романе Мамина, по остроумному и меткому замечанию одного критика, эта «золотая свинья» вырастает в какой-то зловещий символ, в роковое фантастическое чудовище. Это – одна из щедринских «торжествующих свиней», которые «подкапываются под самые корни здоровой жизни, на зубах у которых непрерывно хрустят человеческие кости, а с рыла каплет горячая человеческая кровь». В романе «Золото» ярко выступает и художественная сторона писателя, его огромное уменье живописать фон картины, широкой, многообъемлющей, располагать на ней пестрые характерные фигуры, показать движение масс. Последнее всегда особенно ему удается. Кроме того Маминь удивительно выдерживает в «Золоте» образность народной речи, своеобразность народного языка, причем разговоры действующих лиц изумляют легкостью, своей естественностью. Меткия словца, поговорки, присловья всегда изобилуют у него в разговорах, описаниях, а относительно диалогов писатель достигает такого совершенства, что, по выражению одного критика, сближается даже «с таким чудом в этом отношении, как Гамсун». К романе «Золото», по замечанию того же критика, «диалог обогащен целым калейдоскопом народных оборотов и присказок».
Мамина-Сибиряка всегда угнетал вывод, к которому он пришел, наблюдая русскую жизнь. Всюду страшная неурядица, недохватки жизни, идущей на убыль, какая-то обидная неразбериха, безтолочь, непрестанная разруха, роковая, бессмысленная и беспросветная. Этот вывод свой он проводить настойчиво и последовательно не только в своих больших романах-летописях, в которых он рисуеть с разных сторон жизнь и нравы Урала и Приуралья, знакомя с их промыслами, но и в произведениях, затрагивающих жизнь интеллигенции, разных слоев общества. Пессимизмом веет от его сборника «Детские тени», в котором собраны рассказы и очерки: «Аннушка», «Живая совесть», «Коробкинь», «Он», «Господин Скороходов», «Папа», «Тот самый, который», «Сусанна Антоновна», «Брат», помещавшиеся, кроме «Коробкина», большею частью в «Русском Богатстве» 1892–1893 годов. Невольное отражение детских и юношеских воспоминаний, впечатлений писателя, это – тени, вопиющие призраки жертв невозможного общественного строя, людской бесчеловечности, «призраки тех миллионов младенцев, которые ежедневно вполне легальным путем умерщвляются, приносимые в жертву удовлетворению не только наших минутных похотей, нашему комфорту, честолюбивым, любостяжательным и тому подобным низменным страстям и порокам, но и самым высшим духовным интересам». В «Детских тенях» чуткий беллетрист обнажает перед нами наводящие ужас общественные язвы, которые прикрыты изящной внешностью, лоском цивилизации, блеском приличия, внешностью безукоризненной жизни, какою она представляется с виду. Вот кормилица – одна из тех несчастных женщин, за которыми стоят тени брошенных ими на произвол судьбы младенцев, брошенных из тяжелой нужды, ради того, чтобы пойти кормить чужого ребенка, который «сосет чужую жизнь»; вот дочь мелкого провинциального актера, бедного, убогого, которую обстановка и отсутствие воспитания развратили чуть не с пеленок; вот сын рабочего, с детских лет лишенного ног; вот дети, зараженные страшной болезнью; вот дочь интеллигента, умирающая от каких-то странных нервных припадков – жертва наследственности, и проч. Сколько глубокого смысла в этих рассказах, как тонко и колоритно они написаны, какое неотразимо-сильное впечатление производят они, запечатленные настоящим художественным талантом. Каждый из этих рассказов выстрадан, пережит, написан, как говорит Гейне, лучшей кровью сердца. И сколько в этих рассказах таких потрясающих вещей, от которых не может не скорбеть душа, не может не волноваться ум, которые будят нашу совесть и заставляют задаваться неизбежным вопросом: «Неужели это всегда будет так и строй жизни будет давать столь плачевные, прискорбные результаты?»
Тоска о несовершенстве жизни, о её бесцельности, её жестокой убыли, жалость к жертвам подгнивших основ невозможного строя – с одной стороны и жертвам «роковых росстаней» живо чувствуется и в рассказах, вошедших в сборник Мамина «Около господ», заключающий в себе, кроме заглавного рассказа, еще два очерка: «На чужой стороне» и «В услужении». Тут и серый мужик, раньше занятый своим хозяйством, печальным, почти нищенским, а затем превращенный, по милости доброго господина в егеря, а далее в вора, занимающегося браконьерством; тут и полусерая кухарка, которую судьба заносит к хорошим господам, а потом губит. И тут жо ярко изображается жизненная неурядица. Добрый барин, оторвавший мужика от его хозяйства, большой весельчак, остроумец, огораживает своего егеря, этого самого мужика, такой исповедной тирадой: «А для чего жил Пал Игнатыич, по-твоему? – говорит он о себе. – Ел, пил, наживал капитал… У меня тысяч четыреста есть. Ну, и что же? У тебя их нет, а умрем одинаково за милую душу… Ах, тоска, тоска, тоска… А все думаешь, что все это только пока, а потом что-то такое будет, что-то новое, радостное и счастливое, и что ты проживешь жизнь не даром. Да… А в сущности получается одно свинство, и никому ты и не нужен, и никто о тебе не пожалеет». Этой тирадой объясняется довольно ясно авторское признание, пессимизм писателя, очень мало верящего в «господ» и думающего, что от прикосновения к ним людей серых последние мало выигрывают, и что ни мужик ни прислуга хотя бы и «хороших господ» не может повторить строчки старого стишка: «Хорошее знакомство в прибыль нам!»
Последним большим произведением Мамина, где выдвинут капиталистический процесс, был роман «Хлеб», напечатанный в первых восьми книжках «Русской Мысли» 1895 года. Это уже не царство золота, меди, железа, самоцветов – мощный, всемирно-известный богатырь Урал, это – богатырь иного рода, благословенное степное Приуралье, – своего рода «Микула Селянинович». Много рассказов посвящает Мамин богатырю Микуле и завершает в романе «Хлеб» эпопею Приуралья в длинной художественной летописи, где все истекает из хлеба и все вращается около хлеба. Летопись относится к сравнительно недавним временам, периоду самому интересному в жизни Приуралья, который связан с окончательным переломом в экономической жизни хлебородного края. Еще дремали черноземные равнины у подошвы седого насупившегося старца Урала. Но пришел благодетельный муж, «капитал», и разбудил дремлющих красавиц. И что произошло в этот момент и дальше, о том и повествует летописец, изображая первые шаги пионеров капиталистических предприятий и начиная с дореформенных дней. «Он с добросовестной объективностью историка-художника останавливается на неудачных попытках борьбы с этими ловкими „реформаторами“ представителей старого патриархального торгового уклада, которые все либо гибнут, смятые колесами железной экономической необходимости, либо добровольно складывают оружие и покорно следуют за её триумфальным шествием». Перед нами богатейшая зауральская житница, население которой, исконные земледельцы, совершенно не видали крепостного права, и «экономическая жизнь края шла и развивалась вполне естественным путем, минуя всякую опеку и вмешательство». Уральское купечество сплавляло по реке Ключевой баржи с хлебом, шедшим из Зауралья и оренбургских степей. Торговля хлебом сосредоточивалась в городе Заполье, залегшем в низовьях реки Ключевой главной артерии благословенного Зауралья, в котором осело крепкое хлебопашоственное население; благодатный зауральский чернозем давал баснословные урожаи, не нуждаясь в удобрении. У народа было всего вволю и земли, и хлеба, и скотины, и жили здесь так, как жили отцы и деды, чуждаясь новшеств в своем краю, который был переполнен трудовым богатством. И не было в их краю ни пароходов, ни «чугунки», и население свои капиталы закапывало в землю и прятало в подполье, не имея понятия ни о кредите ни о банках.
Может-быть, такая жизнь, такие порядки длились бы вечно, но повеяло вдруг чем-то новым. Богатый край привлек к себе дельцов последней формации, летучия станицы хищных тварей, и они принесли с собою самью свежие ростки экономического прогресса. И тут все были выбиты из старой колеи и весь край зашевелился; купцы-старожилы спохватились – и «пошла писать губерния». Круто изменилась жизнь и купцов и мужиков. Последние продавали свои запасы, а деньги несли в лавки и особенно в кабак – и в конце концов разорялись. На разоренное природное богатство мужика набросились паразиты. Каким-то сосущим все соки паразитом явился и банк. Он старался доконать пошатнувшиеся предприятия, закрывая кредит неудачникам и расширяя его лицам, которые и без его помощи процветали, делиа которых росли. Этот банк словно задался стихийной задачей систематически заниматься разорением. Ростовщики тоже делали свое дело. За общим разорением последовал огромный пожар Заполья, а раньше постигло ею другое бедствие – голод, с голодным тифом. Этому всему и посвящен роман «Хлеб», в котором великолепно изображены нравы Заполья, экономический крах, фигуры хищников. Один из уральских критиков, разбирая это произведение и отдавая ему должное, находит, что Мамин, пожалуй, слишком мрачными красками рисует результаты первых шагов капитализма по черноземным равнинам Приуралья. Получается такое впечатление, будто, чего ни коснется только рука неизбежного и вместе нежданного гостя, – все становится отравленным. Отравление действует на одних медленно, на других быстрее, но гибнут кругом все – и сильные и слабые. «Словно ядовитый „анчар“ вырастает в центре хлебородного края не естественный мирный прогресс промышленности, а какое-то „древо смерти“. бесконечный ряд несчастий разражается над Запольем: преступления, сумасшествия, смерть – красной нитью проходят на фоне общего разорения и рассыпающейся прахом, от соприкосновения с „золотым тельцом“, чести и честности». И в романе «Хлеб» писатель заставляет торжествовать одну из стихийных сил, которая действует по-своему и словно смеется над царем земли, над его всяческими ухищрениями. В «Хлебе» не менее ярко, чем в других романах Мамина, живописуется все бессилие человека перед этим стихийным великаном, перед которым человек – не более, как жалкий пигмей.
Романом «Хлеб» Мамин закончил серию своих произведений, рисующих со всех сторон Урал и Приуралье, их нравы, обычаи, общественную жизнь, их дореформенный и пореформенный быт с пестрой многочисленной толпой личностей всякого рода. Еще в очень молодые годы Мамина занимала мысль – дать целую серию романов на манер «Ругонов – Макар» Золя. Об этом он мельком говорит в своем произведении «Черты из жизни Пепко». Лелеял ли писатель эту мысль и дальше, нам неизвестно, но в сравнительно короткое время он написал целый ряд романов: «Горное гнездо», «Три конца», «Золото», «Жилка» («Дикое счастье»), «Приваловские миллионы», «Хлеб» – представляющих собою нечто цельное, связное, одноидейное, широко задуманное. В литературе нашей это – чрезвычайно оригинальное явление, имеющее примеры только в западной изящной словесности. Этой серией Мамин оказал огромную услугу, как художник-этнограф, как блестящий летописец, показавший воочию жизнь края, нам известного только по наслышке. По изучению Урала у нас имеются солидные, серьезные работы, так или иначе дающие сырой материал, не более. И Мамин один своим крупным, художественным талантом одухотворил научное изучение края, сделал его общедоступным, возбудил громадный интерес к этим любопытным местам. Имя Мамина-Сибиряка, по справедливому замечанию его биографа-уральца, «должно бы быть навсегда вырезано на самых высоких вершинах Уральского хребта». Эта серия произведений, если даже отбросить местность, в ней изображаемую, не потеряет своего интереса, потому что она является крупнейшим нравоописательным романом с целым рядом богатейших картин, живых, разнообразных сцен и типичных представителей прошлого и современности, свободно, легко плавающих в житейском море или бесследно тонущих в его темных, ненасытных волнах.

