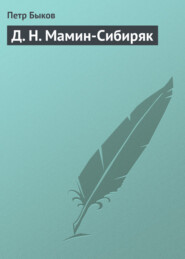 Полная версия
Полная версияД. Н. Мамин-Сибиряк
О своих тяжелых годах в Петрограде Дмитрий Наркисович говорил всегда неохотно и мало и большею частью ссылался на свой роман «Черты из жизни Пепко», где он, по его словам, «все описал». Однако частенько, когда его посещал кто-нибудь из молодежи и был сносно одет, он, замечая это, качал головой и говорил: «Как много дал бы я в свое время за то, чтобы бывать в семейном доме, но у меня в молодости бывали такие минуты, что буквально не в чем было войти „в люди“, не пойдешь же в сибирских сапогах». В другой раз он кого-нибудь из молодежи спрашивал: «А вы где обедаете?» – «Да вот, в студенческой столовой». – «А не колбасой с чаем питаетесь?» И, не дождавшись ответа, с горячностью говорил: «А ведь, небось, не знаете, что есть замечательная рыба – невский сиг! недорогая, вкусная, ну что стоит самому на керосинке сварить себе уху, изжарить наконец! Вот и я студентом тоже… на колбасе голодал, а не знал, как быть сытым на берегу Невы». И все это разглагольствование Мамин обыкновенно заключал, шутливо подмигивая, словами: «Эх, вы!»… По собственному признанию Дмитрия Наркисовича, лекции посещал он далеко не часто, но зато пробелы знания усердно пополнял чтением, которому посвящал немало времени, еще будучи в пермской семинарии. Читал он без особенного выбора книги и статьи, посвященные общественным вопросам, причем его записные книжки, без которых он редко оставался во все годы его сознательной жизни, наполнялись массой выписок.
«Несомненно, уже к этим годам, – говорится в одной заметке о Мамине, – относится начало приобретения солидного образовательного багажа, которым позже отличался писатель. Тут и химия, и геология, и общественные науки с Марксом и Спенсером во главе. Кажется, читалось все, что попадет, со всею жадностью к духовной школе ума; но все это укладывалось в стройную систему гуманного миросозерцания, и от естествознания намечался уже переход к историческим наукам и литературе» Университетские занятия шли не важно, они обрывались то газетной работой, то беганьем по урокам из одного конца города в другой, а то и дружественными заседаниями в гостеприимных трактирчиках, где отдавалась неизбежная дань молодости. Из времен своего студенчества Мамин охотно повествовал о том, как известный ученый, профессор П. Н. Зинин, посадил его на экзамене из химии. В эти годы, но рассказам Дмитрия Наркисовича, он набрел на хороших людей, ставших его друзьями, разделявшими с ним его горе и радости, его порывания, надежды, стремления. И если он не угасал духом, не разбился о подводные камни в житейском море, ища берега, то этим он много обязан своим друзьям, которые были ему особенно дороги в минуты отчаяния, недовольства собой, своим прозябанием в мурье в это время, когда где-то далеко кипела настоящая жизнь, которую ему так хотелось описать, когда он серьезно начал обдумывать один из первых своих романов, доставивший ему столько горьких минут.
Все свободное от занятий время он посвящал писанию романа. «То была, – рассказывает Мамин, – работа Сизифа, потому что приходилось по десяти раз переделывать каждую главу, менять план, вводить новых лиц, вставлять новые описания и т. д. Недоставало прежде всего знания жизни и технической опытности. Но я продолжал катить свой камень. У этого первого произведения было всего одно достоинство: оно дало привычку к упорному самостоятельному труду. Да, труда было достаточно, а главное – была цель впереди, для которой стоило поработать»… Однако среди этой работы, в разгар её, на Мамина вдруг находили моменты глухого отчаяния, и тогда он бросал любимый труд. В романе «Черты из жизни Пепко» он передает о своих муках в такие тяжелые моменты. «Ну, какой я писатель? – думал он. – Ведь писатель должен быть чутким человеком, впечатлительным, вообще особенным… А я чувствовал себя самым заурядным средним рабочим – и только. Я перечитывал русских и иностранных классиков и впадал еще в большее уныние. Как у них все просто, хорошо, красиво и, главное, как легко написано, точно взял бы и сам написал то же самое. И как понятно! Ведь я то же самое думал и чувствовал, что они писали, а они умели угадать самые сокровенные движения души, самые тайные мысли, всю ложь и неправду жизни. Что же писать после этих избранников, с которыми говорила морская волна и для которых звездная книга была ясна?..»
Роман, над которым так мучился Мамин, был окончен и появился в одном малоизвестном журнале, где ему почти ничего не заплатили за это произведение. Затем Дмитрий Наркисович опасно заболел, но оправился, и вместе с выздоровлением у него снова явилась неудержимая потребность творчества. Он написал небольшую повесть («Строители») и передал ее в редакцию «Отечественных Записок», но потерпел жестокую неудачу. О ней подробно рассказано в том же автобиографическом романе Дмитрия Наркисовича, уже несколько раз цитированном здесь: «Черты из жизни Пепко». «Домашняя уверенность и литературная храбрость, – повествует начинающий писатель, – сразу оставили меня, когда я очутился в редакционной приемной. Мне казалось, что здесь еще слышатся шаги тех знаменитостей, которые когда-то работали здесь, а нынешния знаменитости проходят вот этой же дверью, садятся на эти стулья, дышат этим же воздухом. Меня еще никогда не охватывало такое сознание собственной ничтожности… Принимал статьи высокий представительный старик с удивительно добрыми глазами. Он был так изысканно вежлив, так предупредительно внимателен, что я ушел из знаменитой редакции со спокойным сердцем». Это был Алексей Николаевич Плещеев, занимавший тогда в «Отечественных Записках» скромную должность секретаря редакции, слишком известный своими добрыми отношениями к литературной молодежи, её друг и кумир, покровительствовавший всем литературным дебютантам, в которых он замечал хот искорку священного огня. В неудаче Мамина ни Плещеев ни сам автор повести не были повинны. Тут было просто какое-то странное недоразумение, что-то необъяснимое…
Ответ Мамину обещали дать через обычные две недели. «Иду, – рассказывает Дмитрий Наркисович далее, – имея в виду встретить того же любвеобильного старичка-европейца. Увы! – его не оказалось в редакции, а его место заступил какой-то улыбающийся черненький молодой человечек с живыми темными глазами. Он юркнул в соседнюю дверь, а на его месте появился взъерошенный пожилой господин, с выпуклыми остановившимися глазами. В его руках была моя рукопись. Он посмотрел на меня через очки и хриплым голосом проговорил: „Мы таких вещей не принимаем“… Я вылетел из редакции бомбой, даже забыл в передней свои калоши. Это было незаслуженное оскорбление… И от кого? Я его узнал по портретам». Это был Михаил Евграфович Салтыков, и в его ответе для Мамина заключалось еще восемь лет неудач. «Уж слишком резкий отказ, и фраза знаменитого человека, – говорил Дмитрий Наркисович, – несколько дней стояла у меня в ушах. Это почти смертный приговор». Когда острая боль от незаслуженной обиды и огорчение прошли, Дмитрий Наркисович продолжал писать и печататься в газетах и разных мелких изданиях, но его «стремление к большой литературе на время как-то совсем затихло», чтобы через каких-нибудь три-четыре года возродиться с новой силой и чтобы предстать в эту литературу во всеоружии таланта и веры в свои силы. Весною 1877 года Мамин покинул Петроград и вернулся в родные места, где неустанно работал, изучая край и лихорадочно отдаваясь литературной деятельности в течение четырнадцати лет.
Во время пребывания Мамина в Петрограде ярко обозначилось его миросозерцание, выяснились его взгляды, идеи, которые легли потом в основу лучших его произведений: богатый альтруизм, отвращение к людскому взаимопоеданию, к грубой силе, пессимизм и любовь к жизни, тоска о её несовершенствах, «о мире печали и слез», где столько жестокостей, неправды, ужасов, от которых страшно делается жить на свете. Из автобиографического романа «Черты из жизни Пепко» видно, какими мыслями полон был Мамин, тогдашний неудачник. Чрезвычайно характерно, например, такое его рассуждение: «Неужели можно удовлетвориться одной своей жизнью? Нет, жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец – вот где настоящая жизнь и настоящее счастье!» В другом месте он говорит, что его мучила «какая-то смутная жажда жизни, и он презирал обстановку и людей, среди которых приходилось вращаться», и что вместе с тем он «хотел жить за всех, чтобы все испытать и все перечувствовать. Ведь так мало одной своей жизни!» Пессимизмом проникнуты были его мысли о нашей науке и литературе. «Мы плетемся, – говорил он, – в хвосте Европы и питаемся от крох, падающих со стола европейской науки. Наши ученые имена не шли дальше добросовестных компиляций, связанных с грехом пополам собственной отсебятиной!.. Мое репортерство открывало мне изнанку этой русской науки и тех лиллипутов, которые присосались к ней с незапамятных времен. По своим обязанностям репортера я попал на самые боевые пункты и был au courant русской доброй науки».
Грустью отзываются и его размышления о русской литературе. Неужели ново только то, что хорошо позабыто? «Несовершенство нашей русской жизни – избитый конек всех русских авторов, но ведь это только отрицательная сторона, а должна быть и положительная. Иначе нельзя было бы и жить, дышать, думать… Где эта жизнь? Где эти таинственные родники, из которых сочилась многострадальная русская история? Где те пути-дороженьки и роковые росстани (направо попадешь – сам сыт, конь голоден, налево – конь сыт, сам голоден, а прямо поедешь – не видать ни коня ни головы), по которым ездили могучие родные богатыри?» Вот эта самая былина о «русском богатыре на распутье» и является главенствующим мотивом всего творчества Мамина, его любимой идеей с самых первых его произведений и кончая последними вспышками его таланта. Всюду перед нами нескончаемые порывания, усиленные стремления выйти на настоящую дорогу, устроить свое благоденствие, уют, достигнуть хоть того, чтобы не голодать, не холодать, и между тем всюду кругом развал, прогар, обнищание, гибель и т. п. Устами своего героя Пепко писатель скорбит об оскудении нашей жизни людьми, об исчезновении пророков и о том, что если бы и были пророки и стали обличать прогрессирующую современность, то им выпала бы горькая доля… «Да и самое слово в наше время потеряло всякую цену; мы не верим словам, потому что берем их на прокат. Слово ветхого человека было полно крови, оно составляло его органическое продолжение, поэтому оно и имело громадное значение…» Далее уже от своего имени писатель спрашивает: «Много ли у нас своего?» и отвечает: «ведь лучшие наши произведения – только подражания, более или менее удачные, заграничным образцам…» Вообще, уже тогда начинавший писатель более или менее определил свое настоящее призвание, свое profession de foi.
Из признаний Мамина, относящихся ко времени его первых начинаний в литературе, любопытны его указания на ту область, в которой он чувствовал свою силу и даже компетентность и взгляды на это дело. Оказывается, что уже и тогда он был силен в описаниях природы. «Ведь я так ее любил, – говорит он, – и так тосковал по ней, придавленный петербургской слякотью, сыростью и вообще мерзостью. У меня в душе живы и южное солнце, и высокое синее небо, и широкая степь, и роскошный южный лес… Нужно было только перенести все это на бумагу, чтобы и читатель увидел и почувствовал величайшее чудо, которое открывается каждым восходящим солнцем и к которому мы настолько привыкли, что даже не замечаем его. Вот указать на него, раскрыть все тонкости, всю гармонию, все то, что, благодаря этой природе, отливается в национальные особенности, начиная песней и кончая общим душевным тоном… Свои описания природы я начал с подражаний тем образцам, которые помещены в хрестоматиях. Сначала я писал напыщенно-риторическим стилем à la Гоголь, потом старательно усвоил себе манеру красивых описаний à la Тургенев и только под конец понял, что гоголевская природа и тургеневская – обе не русские, и под ними смело может подписаться всякая другая природа, за очень немногими исключениями, настоящая равнинная Русь чувствуется только у Л. Толстого, а горная – у Лермонтова, эти два автора остались для меня недосягаемыми образцами. Над выработкой пейзажа я бился больше двух лет, причем мне много помогли русские художники-пейзажисты нового реального направления. Я не пропускал ни одной выставки, подробно познакомился с галлереями Эрмитажа и только здесь понял, как далеко ушли русские пейзажисты по сравнению с литературными описаниями… С каким удовольствием я проверял я свои описания природы по лучшим картинам, исправлял и постепенно доходил до понимания этого захватывающего чувства природы. Мне много помогло еще то, что я с дьтства бродил с ружьем по степи и в лесу и не один десяток ночей провел под открытым небом на охотничьих привалах. Под рукой был необходимый живой материал, и я разрабатывал его с упоением влюбленного, радуясь каждому удачному эпитету или сравнению». Здесь ясно высказывается истинно-художественная натура писателя, его тонкое понимание природы. В пору полного расцвета его таланта эта любовь и понимание, это врожденное чувство природы выразились очень ярко. Любовь к природе Мамина идет рука об руку с любовью к жизни, и получается та редкая гармония, которая ощущается в каждом его произведении – гармония линий, красок, душевных настроений и переживаний. Описывает ли певец Урала свои любимые зеленые горы, лесную глушь, реку Чусовую в половодье с бурлаками, горнозаводские уголки, раскольничьи скиты и могилы первых страстотерпцев за старую веру, – всюду у него ясные, художественные отражения природы, на фоне которой идет жизнь, заклейменная «печатью зла и суеты», развиваются и драмы всевозможных оттенков и вообще целая человеческая трагикомедия. В его яркой картине уральской весны – пейзаже дремучего леса, во всех описаниях природы виден её вдумчивый созерцатель, отдыхающий среди неё, вверяющий ей свои горькия думы о несовершенстве жизни, свою тоску о «богатыре на распутье», о тщете хороших замыслов, погибающих от неустройства человеческого бытия.
Приехав в родные места, Дмитрий Наркисович недолго отдыхал после своей, полной неудач, петроградской жизни и скоро принялся за работу. Он разбирал, привезенный с собою, целый ворох рукописей, переделывал свои рассказы, очерки, много уничтожал, писал новые вещи и в особенности много времени посвящал задуманной им серии «Уральских рассказов». Первый из них – «Старатели. Очерки приисковой жизни» Дмитрий Наркисович послал в журнал «Дело». Это была, так сказать, прелюдия к тем романам и летописям, которые обнимали его родной край со всех сторон и давали богатые картины разных промыслов Урала. Впервые писатель знакомил в этом рассказе читающий люд с сумрачным отечеством железа, золота и самоцветов – с тем удивительным краем, о котором смутно слышало что-то большинство русского люда, знавшего его, по чьему-то счастливому выражению, «немногим лучше, чем Индо-Китай, Южную Америку, центральную Африку». Много волновался Мамин в ожидании ответа из редакции о судьбе своих «Старателей». И ответ пришел самый печальный. Рукопись вернули, испещренную на каждой странице замечаниями, подчеркнутыми местами, вопросительными и восклицательными знаками. Не к фабуле, не к содержанию относились эти пометки на рукописи, а к форме, к длинным периодам, тяжеловатым оборотам, к спешности работы. Редактор Благосветлов признавал за автором несомненное дарование и давал совет как можно больше работать над изложением, над отделкой. Мамин и раньше, перед этим случаем, с грустью говорил друзьям на их замечания: «Нет у меня таланта! Не стоит работать: ничего из меня не выйдет!» И, по свидетельству близких его друзей, буквально опускал руки. А после возвращения ему рукописи из редакции журнала страшно огорчился и ходил, как в воду опущенный, не прикасаясь к своим рукописям.
Но длилось это недолго. Его большая жизнерадостность, его сангвинический характер не позволяли ему отдаваться на продолжительное время тяжелому настроению, унынию. Не много дней прошло – и писатель воспрянул духом. С новым подъемом принялся он за любимый труд. Камня на камне не оставил в своих «Старателях», принялся за другие очерки из серии «Уральских» рассказов, много работал над формой. Когда он жил еще в Салде, он окончил первую часть романа «Приваловские миллионы», а переселившись в Екатеринбург, занялся её переделкой, произведя, по его выражению, «капитальный ремонт». Результаты всех этих занятий получились блестящие. В течение 1882 года он напечатал большие рсязсказы – в «Деле», «Вестнике Европы» и «Устоях» С. А. Венгерова – «В камнях», «Все мы хлеб едим», «На рубеже Азии», «В худых душах», и кроме того поместил в «Русских Ведомостях» ряд фельетонов: «От Урала до Москвы», начатых годом раньше. рассказы эти, этюды к большим картинам Урала, обратили на себя внимание – и Сибиряк, псевдоним, под которым они появлялись, стал замечаться читателем, а в журналистике он приобрел уже некоторое значение. Талант писателя был признан, двери редакций гостеприимно раскрылись для прежнего неудачника, и с этого момента его усиленная литературная деятельность не прекращалась, его плодовитость вызывала удивление. И в этих первых рассказах Мамина, выводивших его на широкую дорогу, уже намечались характерные признаки его таланта, его любимые мотивы, стремление к изображению природы относительно воздействия её на жизнь, влияния, в большинстве случаев неотразимого, на человека, чуткость к совершающемуся вокруг писателя, уловившего новые веяния на старые, дряблые устои. И тут уже чувствуется оригинальный бытописатель, до тонкостей изучивший жизнь и нравы его родных мест тяготеющий к маленьким людям, показывающий неустанную борьбу «между исканием наживы и человеческими чувствами», чувствуется вольный художник, чуждый предвзятых тенденций. Ярким блеском перед нами загорался этот уральский самоцвет, и уже ощущали мы это простое, чистое сердце, настоящее русское.
Все понимающие люди остановили наибольшее внимание на его очерках из захоиустного быта, помещенных в журнале «Устои» под заглавием: «На рубеже Азии», где он выдвигает своих лесных героев и представителей черноземной силы на одной жз далеких наших окраин. Но еще больше заговорили о Сибиряке, когда в следующем, 1883 году, в «Отечественных Записках» появились его «Бойцы. Очерки весеннего сплава на реке Чусовой», – выхваченная прямо из жизни, пестрая, колоритная картина гигантского человеческого труда, со множеством фигур, во главе которых стоить во весь рост сплавщик Савоська, своего рода чудотворец, подчинивший себе толпу многострадальных бурлаков. Бойцы – это грозные утесы на реке Чусовой, страшилище для сплавщиков, проводящих мимо них барки с железом, медью и чугуном. Безмолвные гранитные чудовища зорко стерегут деревянные посудины, идущие мимо них, и ждут, что вот-вот оплошает кормчий, и тогда о могучую грудь черного бойца в дребезги разобьется утлая барка. Дело происходит на одной из нижних пристаней реки Чусовой, Каменке; действующие лица – «унылые, сумрачные бурлаки», которых загнала сюда неволя издалека, из деревень, отстоящих от Каменки в сотнях, а то и тысячах верст. Неволя – злая нужда рада и нищенскому заработку, на который нужно жить и платить подати; ради этих податей многих и послал сюда «мир». И кого только тут нет: вятичи, архангельцы, пермяки, башкиры, зыряне, татары, местные заводские мастера, оригинальные шикари и сорви-головы. Большинство с котомками и без котомок, в рваных полушубках, в заплатанных азямах и просто в лохмотьях, состав которых можно определить только химическим путем, а не при помощи глаза… «Это какой-то совсем серый народ – с испитыми лицами, понурым взглядом и неуклюжими тяжелыми движениями. Видно, что пришли издалека, обносились и отощали в дороге».
Прекрасно представлены здесь контрасты. С одной стороны, дивная природа, величественная, полная гармонии вообще и во дни красавицы-весны в особенности, с другой – неурядица людская, тяжкая борьба за существование, ужасы опасности среди бушующих волн, готовых поглотить немало человеческих жизней. «С ясного голубого неба льются потоки животворящего, света, земля торопливо выгоняет первую зелень, бледные северные цветочки смело пробиваются через тонкий слой тающего снега, одним словом, в природе творится великая тайна обновления, и, кажется, самый воздух цветет и любовно дышит преисполняющими его силами. Прибавьте к этому освеженную глянцовитую зелень северного леса, веселый птичий гам и трудовую возню, какими оглашаются и вода, и лес, и поля, и воздух. Это – величайшее торжество и апофез той великой силы, которая неудержимо льется с голубого неба, каким-то чудом претворяясь в зелень, цветы, аромат, звуки птичьих песен, и все кругом наполняется удесятеренной кипучей деятельностью». Это – с одной стороны. А с другой, невероятная голытьба толпы, «чающей движения воды» – т.-е. вскрытия реки Чусовой, чтобы погнать по ней барки, полчища полуголых, полуголодных, геройски выносящих холод, ненастье, подлое обращение тех, кто их нечеловеческий труд считает ни во что, равнодушно смотрит, как эти геркулесы нагружают или разгружают барки, стаскивают их с мели… Вот «нашим глазам представилась ужасная картина: барка быстро погружалась одним концом в воду… Палуба отстала, из-под неё с грохотом и треском сыпался чугун, обезумевшие люди соскакивали с борта прямо в воду… Крики отчаяния тонувших людей перемешались с воем реки… Несколько черных точек ныряло в воде: это были спасавшиеся вплавь бурлаки. Редкий из них не тащил за собой своей котомки в зубах. расстаться с котомкой для бурлака настолько тяжело, что он часто жертвует из-за неё жизнью; барка ударилась о боец и начинает тонуть, а десятки бурлаков, вместо того, чтобы спасаться вплавь, лезут под палубы за своими котомками, где часто их и заливает водой».
С вопиющей правдой рисует эти свои впечатления писатель-очевидец, не сдабривает их никакой тенденцией, рассказывает удивительно просто, с невозмутимым спокойствием о самых драматических положениях своих серых героев. Это его всегдашняя манера. И тем не менее «волнует мягкия сердца», заставляет ледянеть кровь в жилах. Писатель передачей одних только фактов, без малейшего сгущения красок вызывает в читателе глубокое сочувствие к этим несчастным пасынкам судьбы, которые умирают ради благосостояния отъявленных хищников, либо от простуды, вечного недоедания, изнурения, или гибнут в водной пучине. Нельзя без содрогания читать о бедственном положении несчастных сплавщиков, особенно из инородцев. «Русская бедность и нищета, – рассказывает автор, – казались богатством по сравнению с этой степной голытьбой и жертвами медленного вымирания из самых глухих лесных дебрей. Как ни беден русский бурлак, но у него есть еще впереди что-то в роде надежда: осталось сознание необходимой борьбы за свое существование, а здесь крайний север и степная Азия производили подавляющее впечатление своей мертвой апатией и полнейшей беспомощностью. Для этих людей не было будущего; они жили сегодняшним днем, чтобы медленно умереть завтра или послезавтра». И добро бы эти жертвы человеческие, эта тихая трагедия шли на пользу чьего-либо процветания, а то ведь вся эта эксплуатация нищих, обкрадываемых негодяями-приказчиками, эти смерти пропадают даром: акционерная компания, ради которой совершалось столько беззаконий и гибли люди, сиротели семьи, – обанкрутилась. И тут сказалась неурядица русской жизни, сопряженная с разорением, прогаром, неожиданной ломкой, над чем Мамин-Сибиряк постоянно задумывался и что является большею частью главным мотивом в его произведениях, и в романах и в большей части уральских рассказов, в которых писатель следит не за жизнью массы, а за роковой долей хищников, порабощающих эту массу, высасывающих из неё соки, а затем погибающих нежданно-негаданно.
В «Бойцах» мы встречаем, кроме излюбленного Маминым мотива, и любимый тип его – олицетворение силы, мужества, буйной удали, качества, к которым писатель чувствует непреодолимое тяготение, большое пристрастие. Это богатырство ему по душе во всех видах, какого бы характера оно ни было. Несомненно, что это почти обожание силы, безудержного молодечества тесно связано с детскими годами писателя, брошенного судьбой в дикий и суровый край, где он или видел воочию жизнь горнозаводских обитателей, кержаков, т.-е. раскольников, боровшихся с православными, видел отвагу, широту размаха, или слышал обо всем этом, и в его памяти запечатлевалось неизгладимо виденное и слышанное им и заронилась любовь ко всякого рода «богатырям» и крупным и мелким в его восприимчивой душе. Своего рода богатыря вывел он и в «Бойцах» в лице Савоськи, главаря сплавщиков, отъявленного пьяницы и забулдыги, мгновенно превращающегося в героя, удалую башку, проявляющего «сил молодецких размахи широкие», при первом столкновении с водной стихией. Лодырь в безработное время, Савоська, довольно близкий родственник Челкаша Максима Горького, преображается в капитана баржи, деятельного, умного, распорядительного, трезвого, словно забывшего о существовании водки. Смелость и находчивость его вызывают удивление и восхищение окружающих, которые рабски подчиняются его мощной воле. В его глазах, делающихся вдохновенными, пламень отваги, бесшабашной удали, готовность померяться силами со стихией, встретить смерть лицом к лицу. Трубные звуки его могучего голоса словно хотят взять верх над ревом Чусовой. Гулко звучит его команда: «Веселенько похаживай, голуби!» и, глядя вдаль, он выкрикивает: «Нос налево ударь… нос-от!.. Шабаш корма»… Видно, что писатель, присутствовавший при сплаве баржи, восхищается своим героем. «Он слился с баркой в одно существо, – любовно повествует автор. – Нужно было видеть Савоську в трудных местах, где была горячая работа; голос его рос и крепчал, лицо оживлялось лихорадочной энергией, глаза горели огнем. Прежнего Савоськи точно не бывало; на скамейке стоял совсем другой человек, который всей своей фигурой, голосом и движениями производил магическое впечатление на бурлаков. В нем чувствовалась та сила, которая так заразительно действует на массы».



