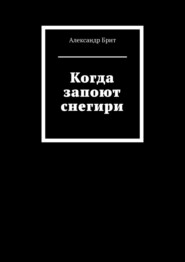скачать книгу бесплатно
Когда запоют снегири
Александр Петрович Брит
От столыпинских реформ до послевоенного лихолетья 1946 года. Историческая драма с элементами психологического детектива и мелодрамы.
Когда запоют снегири
Александр Петрович Брит
© Александр Петрович Брит, 2021
ISBN 978-5-0055-2820-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Когда запоют снегири
Сознание возвращалось мучительно. Вначале появились звуки, то нарастающие, то медленно нисходящие к безмолвию, вплоть до абсолютной тишины, будто, для того, чтобы, напитавшись исполинской энергией, через мгновение вновь накатить могучей волной. Этот неистово пульсирующий гул, с неимоверной силой бьющий по вискам, сейчас и составлял, для лежащего на обрызганной кровью траве красноармейца, весь окружающий его мир. На самом деле, происходящее вокруг не было доступно для восприятия бойца, а шум, угнетающий его медленно возвращающееся сознание, возникал где-то внутри него, и постепенно начинал перемежаться чем-то еще. Это приходила боль. Тупая, ноющая, она вначале пронизывала все затекшее тело, но затем, исподволь, начинали проявляться ее источники. Тут же появилось весьма невнятное понимание, что это он, и с ним что-то происходит, что ему плохо. Но кто он, и где он, было не ясно. Беспорядочная муть в голове делала тщетные попытки хоть как-то оценить происходящее. Это давалось нелегко, потому что, даже отдаленный намек на появление проблеска мысли, отзывался невыносимым спазмом в затылке. Прошло неизвестно, сколько времени, прежде чем человек начал ощущать собственное тело и скорее всего, пока что рефлекторно, попытался им управлять. Вдруг возникла и уже не отпускала назойливая, звенящая, бесконечно повторяющаяся фраза, – головой отвечаешь, головой отвечаешь, за лошадей головой отвечаешь, – и это вызвало нечто напоминающее тревогу, и заставило двигаться. Но движений не получалось, а вышло едва заметное судорожное подергивание, мгновенно отозвавшееся протяжной, глухой болью в правом плече, и правых же голени и колене.
Резкий толчок в спину, почти окончательно, вернул в реальность. Послышалось странное бормотание, вперемешку с приглушенным гоготом, и это вызвало желание, превозмогая головную боль, разомкнуть веки. По глазам ударил непривычно яркий свет, что заставило веки тотчас же сомкнуться, и повторить попытку через мгновение. Сквозь белесую пелену, и идущие поперек глаз, расплывчатые серо зеленые полосы, взору предстала коричневато черная гора, с размытым весьма сложным очертанием, но в следующий миг стало понятно, что это голова лошади. Она лежала совсем рядом и это означало, что тело животного всей своей тяжестью сковывает его движения, и является главной причиной онемения и боли в ноге. Впереди произошло некоторое невнятное движение, в результате чего перед глазами возникла пара сапог. – Встайт, – послышалось сверху отвратительное рявканье, сопровождаемое настойчивым толчком в левое плечо. – Немцы, – прострелила стремительной молнией все его члены, убийственная догадка. Отчаянная попытка освободить правую ногу из-под тяжеленной туши ни к чему не привела, но в тот же миг неведомая дьявольская сила вырвала потрепанное тело из оков, и тут же поставила на ноги. Устоять было невозможно, онемевшая, бесчувственная правая нога предательски подвернулась, и ничего не соображающий беспомощный солдат рухнул на землю, усугубив при этом свои страдания от боли в плече. Где-то сбоку лязгнул затвор винтовки. – Все…, – встрепенулось, а затем замерло похолодевшее сердце и провалилось так глубоко вниз, насколько это было возможно. – Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый; – почему-то прозвучало в нем, и душу сдавила дикая тоска. – Не уж-то, вот сейчас, ты Петр Стриж, тридцатилетний здоровый мужик, бесследно, бесславно, навсегда исчезнешь в мрачной бездне небытия. – И все? В отчаянии, но все – таки с совсем ничтожной толикой надежды, он повернул голову в ту сторону откуда донесся зловещий звук, заставляя себя сквозь боль и обреченность, в последний раз взглянуть в ужасающие глаза смерти. Увиденная сцена, никак не соответствовала логике происходящего, во всяком случае, логике человека, приготовившегося к смерти. Поодаль молодой веснушчатый верзила, с размаху хрястнул прикладом винтовки о землю, и, отшвырнув оставшуюся в руке часть, в расположенную неподалеку воронку, наклонившись, поднял какую-то железку, которая тут же исчезла в одной из многочисленных складок его одежды. Петр понял, – это был затвор от его винтовки, исковерканные останки которой теперь покоились на дне воронки от бомбы, разорвавшей на части его судьбу. – Пук пук, – произнес, со странным оскалом, который в другой ситуации можно было принять за добродушную ухмылку, дородный немец средних лет, стоящий впереди, одновременно тыча стволом винтовки в лицо безоружного пленника. Сознание вполне окрепло, хотя боли в голове стали какими-то резкими. Мозг работал исправно, и, расценив действия немца как угрозу расстрела в случае неповиновения, заставил, превозмогая боль, встать на ноги. Правая нога подчинялась хотя и судорожно подрагивала, но все-таки опереться на нее полностью мешала какая-то тягучая, ноющая боль. Один из немцев, наигранно изображая услужливость и бормоча при этом, что-то на его взгляд, весьма остроумное, вызвавшее у двух других его спутников достаточно сдержанный смех, сунул в руки Петра кривую сучковатую палку, предварительно довольно артистично продемонстрировав, как ее использовать. Это придало дополнительный импульс веселью. – Ржете суки; – с хрипом выплеснулась всплывающая, дурманящая разум ярость, по-видимому, проявившаяся в его взгляде или намеке на угрожающее движение, потому что, в следующее мгновение вновь лязгнул затвор, и он получил не очень сильный, но достаточно болезненный удар в спину, что заставило его опереться на импровизированный костыль. И это последнее в его понимании как ничто другое означало, почти что окончательное и полное смирение. От осознания собственного бессилия и явного превосходства этой отлаженной, адской, разрушительной машины, огромным катком давящей его, его землю, его армию, его города и села, его страну, Петра накрыла мелкая дрожь. Тем временем, сзади послышался не внятный окрик, напоминающий какую-то команду, после чего в плечо слегка подтолкнули, и это приходилось воспринимать, как единственный, и неоспоримый, свершившийся факт; дорога в неизвестность и неведомые испытания, дорога в срам и унижения, дорога в плен открыта.
Он плелся уже около получаса. Ходьба, как ни странно, несколько облегчила его физические страдания. Толи боль в ноге действительно поутихла, толи сработал появившийся неизвестно из чего, действенный механизм привыкания. Так или иначе, но боль в эти минуты была хоть и достаточно ощутимой, но все-таки сносной, что позволяло, хромая на правую ногу, идти не получая тумаков в спину. Маршрут пересекал однопутную, извилистую железную дорогу в том месте, где она, огибая довольно протяженный березовый колок, уходила резко вправо. Сразу за поворотом чуть вдалеке виднелись дымящиеся, оскалившиеся, замысловатыми рваными пробоинами вагоны поверженного пассажирского поезда.
– За лошадей головой ответишь; – вновь выскользнула из глубины памяти, странная, как заклинание абракадабра, разбавленная идущим из той же глубины, звуком пикирующего самолета. Теперь он вспомнил все: Как ожидал в течение нескольких часов политрука Полянского, который уйдя на несколько километров вперед, занимался каким-то важным делом. Вспомнил, как ожидая командира наспех стреножив и расседлав лошадей в самой непроглядной лесной чаще, дремал, при этом умудряясь прислушиваться к приближающейся канонаде. И как этот до безумия перепуганный политрук орал на него, тряся пистолетом зажатым в детском кулачке, грозя расстрелять на месте по закону военного времени за то, что лошади оказались расседланными, и по этой причине не были готовы к мгновенному отходу. Вспомнил, как политрук выронил из крохотной не очень умелой руки свой пистолет, пытаясь на скаку, для чего-то извлечь его из кобуры, и что бы исправить ситуацию на мгновение приостановился. Но вероятно осознав тщетность поиска небольшого предмета в густой траве, и учтя фактор времени, с силой пришпорил разгоряченного коня. Политрук спешил. Спешил, когда отдав команду, – за мной, – поскакал в сторону, противоположную месту расположения их батареи. Спешил, когда приближаясь к остановившемуся поезду на скаку объяснял маневр, – у меня важное и секретное задание, а на тебе лошади. Спешил, когда заскочив на подножку последнего вагона отправляющегося поезда, визгливо выдавливал из себя, – за лошадей головой отвечаешь. Когда через некоторое время началась страшная бомбежка, Петр понял, какое и чье важное задание должен был выполнить младший политрук Полянский. Этот тщедушный, изрядно начитанный, курчавый почти еще мальчик, ежедневно вбивавший в заскорузлые мозги красноармейцев очень важные идеи, касающиеся только одного, как правильно Родину любить, в ту минуту способен был выполнять команду, или просьбу, или заклинание только одного единственного человека. Он слышал только его, самого умного, самого справедливого, самого важного для него командира, собственную мать. Ведь она, без сомнений, провожая сына на войну, сквозь слезы умоляла; – сыночек, постарайся остаться живым, – и ему было плевать на все другие команды, их просто не существовало. И что из того, что на самом деле, за эти долгие два не полных страшных месяца бомбежек, крови, грязи и смрада, два месяца упорных боев и тягостных отступлений, было отдано и получено столько приказов, что и не счесть. И он, вчерашний комсорг, какого-нибудь факультета философии, не только был обязан проводить разъяснительную работу среди бойцов, что и выполнял с запредельной ретивостью. Нет, он и сам, наверняка был убежден в том, что каждый приказ должен быть выполнен любой ценой. А цена была такая неподъемная, такая высокая, дорогая цена, и платили ее ежедневно на его глазах десятки бойцов, казалось без всякой гарантии хоть как-то повлиять на ход происходящего. Внезапно Петру пришла в голову неожиданная мысль; – ведь он сегодня дважды был в шаге от смерти. Но от осколков бомбы спасло тело поверженной лошади, а незадолго до того, политрук не смог справиться, со своим оружием, теперь уже понятно для чего выхваченным из кобуры. Ведь тот сделал выбор и ему в этом не нужны были попутчики, а тем более свидетели. Одно оставалось не ясно, помог ли этот выбор уцелеть в огне? Это вряд ли. А у самого Петра, в сложившихся обстоятельствах, не было, ни возможности, ни права на выбор. И это, наряду с тем фактом, что он еще жив, и почти здоров, приводило его в непонятное смешанное состояние полного смятения. Не было ни радости, ни печали, его поглотила тягучая, удручающая, мрачная тоска, убивающая волю к жизни. Даже тогда, когда под обстрелами и бомбежками приходилось гнать лошадей тянущих за собой уцелевшие в жестоких перестрелках орудия, не было так скверно на душе. Да, в любой момент упавший неподалеку снаряд или бомба могли разорвать тебя в клочья, или покалечить. Но страх, уже не сковывал твоих движений и мыслей, как в самых первых боях, а наоборот, заставлял действовать стремительно и слаженно, насколько позволяла ситуация. А ситуация, как правило, заставляла, насколько возможно скорее поменять дислокацию, дабы твои командиры да и весь уцелевший расчет вместе с тобой, могли более надежно использовать вверенное вам всем орудие. Ты дважды уходил от опасности попасть в окружение. В первый раз вам удалось это сделать почти без потерь. Батарея прорвалась в полном составе, за исключением утраты одного разбитого орудия, да гибели двоих бойцов. Но в следующий раз, при выходе из стремительно сжимающегося кольца, ты уцелел среди немногих. Погибло больше половины, личного состава батареи, в том числе ее командир, капитан Булавин, да еще два офицера. Раненые наверняка попали в окружение и были пленены. Лишь несколько из них, в основном с легкими ранениями, проскочили вместе с другими «везунчиками». Вы смогли вывести всего два орудия, в том числе и сорокапятку твоего расчета. Но выпрыгнуло, вместе с этим орудием через горлышко вас двое здоровых, кроме тебя еще сержант Протасов, да раненый в левую руку, кажется на вылет, красноармеец Демирханов.
А отражение атак на позициях? Среди разрывов и свистящих пуль, в грязи и смрадном маслянистом дыму. Когда лишь мельком можно было обратить внимание, к примеру, на корчившегося от невыносимой боли, с разорванным животом сержанта Мамина, который только что орал во всю глотку, торопя бойцов, и покрывал всех подряд, несусветным трехэтажным матом. Ты был диким, загнанным зверем, из всех сил стремившимся выжить и растерзать, порвать, загрызть врага.
Был животный страх, но и он оставлял, пусть и совсем мизерный, но все-таки, кусочек надежды, что вот-вот упремся да и направим события в нужное русло, и, что тебе повезет и ты уцелеешь в этой кровавой бойне. А сейчас, ты плелся вначале один затем в узеньком ручейке, таких же, как ты измученных горемык. Ручеек, постепенно разрастаясь, превращался в полноводную реку, медленно текущую, и уносящую всех попавших в нее, куда-то на запад. По поведению пленных можно было без особого труда понять, кто и как, относится к собственному пленению. Многие из попутчиков шарили глазами по лицам рядом идущих, постоянно озирались, как бы выискивая знакомых, либо еще кого-то, подходящего, для чего-то, только им ведомого. В глазах таких, читался страх потерять их теперешний статус, и упаси бог, попасть вновь в окопы. Они, наверняка видели в происходящем действе, перспективу остаться в живых. Некоторые, так же как и Петр, наоборот, понуро плелись уперев свои взгляды в пыльную дорогу ни на кого не глядя, были погружены вглубь себя, в собственные мрачные размышления. Они, во всяком случае это точно относилось к Петру, воспринимали пленение как нечто ужасное, что могло привести к полному краху и крушению, каких – либо, надежд. И это в свою очередь, никак не способствовало сохранению, и так изрядно истраченных сил.
Раздался протяжный металлический звон, исходящий из подвешенного на колючей проволоке, полутораметрового куска рельса. Огромная человеческая масса, сплошным ковром застилающая низину, что прилегала к двум довольно добротным скотным загонам, пришла в движение. Люди выходили из оцепенения, в которое их вгоняла гнетущая обстановка неопределенности, не проходящего чувства голода, и отупляющего безделья.
– Сибиряк, – послышалось из-за спины, – кушать подано, мать их через колено, пойдем, может быть хоть сегодня, чего-нибудь перехватим, иначе я точно отдам богу душу.
– О Коля, да мы ее разве не отдали еще, только совсем другому товарищу, прости господи, – с трудом вставая на ноги, пробурчал Петр слова сомнения по поводу наличия в них бессмертной души.
– Ты что, сибирячек-кержачек, шибко верующий? Так обрати внимание на вот тех суетливых воинов, – Николай кивнул в сторону стремительно обгоняющей их довольно плотной группы, – пади душу спасать бегут, шевелись, не то загнемся за колючкой.
– Это запросто, – легко согласился Петр, и, они, дружно прихрамывая, заметно прибавили хода, но пройдя таким шагом несколько десятков метров, уткнулись в хвост внушительной очереди. Очередь являла собой три длиннющие колонны по два, и этот порядок свято соблюдался каждым измученным, голодным беднягой, жаждущим получить миску свекольной похлебки да кусок хлеба с древесной или соломенной мукой.
– Фрицы научили, – подсказал, еще во время вчерашнего стояния, вновь прибывшему Петру, здоровяк из-под Саратова, Коля Чекмарь, местный старожил с недельным стажем. – Накормили, два дня тому назад, досыта, свинцовой кашей троих самых нетерпеливых и пронырливых ребяток. – Вот тебе и три колонны по двое, порядок мать их через колено, ну это я думаю, пока новых добровольцев ни пригонят. А сегодня, стоя справа от своего более искушенного в лагерных делах соседа, менее искушенный Петр, внимательно следил за тем, как безнадежно, медленно продвигается ненавистная маячащая спереди спина. И как с каждым разом, все глубже погружается метровая палка с прикрученным к ней ковшом в парящий чан с похлебкой, чтобы вычерпать, как ему казалось, последнее. – И чего они там топчутся, – подталкивало Петра нечто отдаленно напоминающее рассудок, – сейчас же все растащат, – все больше заводился он, подаваясь всем корпусом вперед, – добровольцев на вас нет, стоп, стоп, что это я, – успел остановить, от накатывающего звериного порыва, вовремя включившийся разум. – Остынь дубина, – обругал себя Петр, – не такой уж ты и голодный, ну как, например, этот волжанин. А он-то, вон какая махина, пожрать только подавай, а вроде бы и не ноет. Кстати, что он там вчера про добровольцев изрек, надо бы расспросить. И, продолжая рассуждать на эту тему, незаметно для себя, принялся пересчитывать значительно поубавившихся, впереди стоящих, очередников из правой колонны.
По установленному немцами правилу, есть у места раздачи, под страхом расстрела, было нельзя, и поэтому получившие паек арестанты, не мешкая возвращались на свои насиженные места, обходя на приличном удалении колонны, своих менее удачливых собратьев по несчастью.
– Не ешь все сразу, – предупредил Николай своего спутника, принявшегося активно расправляться с куском теста, размером с гусиное яйцо, которое почему-то пахло древесной смолой, – растяни насколько сможешь, тогда вернее почувствуешь насыщение.
– Угу, – гукнул, с готовностью соглашаясь ничего не соображающий собеседник, отправляя в последний путь остатки желто-серой массы, частично прилипшей к не очень чистым, но таким сладким пальцам.
– Да вы сударь я погляжу, гурман еще тот, теперь аккуратней, с так сказать, первым блюдом, не ровен час…
– Трое суток во рту ни крошки, – парировал Петр. А ты, растягивать намерен, дразнить меня будешь?
– Ну ничего, потерпишь, зато за науку тебе сойдет, а похлебку помедленнее наворачивай, она сегодня немного богаче, чем обычно, – демонстрировал свои немалые познания в специальной кулинарии Николай, – свеклы, вроде больше, да и чувствуешь ржавый рыбный привкус, либо кишками сдобрили, а возможно, консервные банки ополоснули. А вообще-то, ты свои главные калории только что проглотил, хотя там максимум сто граммов муки, а остальное думаю, древесная пыль или еще какая-то подобная этому, «изысканная» добавка.
– Ну и сколько, при такой кормежке протянуть можно? – усевшись удобнее на облюбованное место неподалеку от поваленной изгороди, спросил Петр, обращая вопрос в большей степени к самому себе, – неделю, две, три.
– Думаю в самом лучшем случае ты протянешь полтора месяца, я и того меньше, – прозвучал безжалостный приговор. – Это если немцы не кокнут раньше времени, а они всегда готовы, за каким хреном им орда такая. Они, я думаю, и не ждали, подобные столпотворения на содержание, им меньше народа, больше кислорода, так что споткнешься, пуля в лоб и все дела. Ну а если пулю не подловим, так через полмесяца вот в таких «атлетов» превратимся, – кивнул Николай на слегка обособленную группу сильно изнуренных, исхудавших пленников. – Ты посмотри, сколько их вокруг, до десятка трупов ежедневно уносят. Благо мы с тобой вроде не очень изувеченные, хотя по сравнению с основной массой добровольцев изрядно потрепанные.
– Что-то я не пойму, ты добровольцами кого называешь?
– Да ты что сюда с небес свалился, разве не в общей колонне притопал? А то там не разглядел, как бравые ребятки, почти строевым шагом идут сдаваться. Тебя-то, к примеру, сразу видно, не по доброй воле тут. Да, понятно простаку любому, – настаивал Николай, почувствовав некоторое смущение в реакции собеседника. – Первым делом, видно навскидку, у тебя каких-либо друзей приятелей в этом «санатории», точно быть не может. Так ведь, к тому же, не такой уж ты свежий огурчик. Хромой с рукой не порядок, да у тебя и фотокарточка слегка подпорчена. Может быть, ты подсадной? Да нет, это скорей ты обо мне можешь такое думать, я же тут ветеран, и с тобой первый заговорил. Но во мне тоже будь уверен, – продолжал он, спрятав миску и ложку, и перейдя почти на шепот, – хотя провокаторы среди этой публики тоже есть, дней пять тому одного придушили. Поначалу, как настоящий трибун за побег агитировал, приличную аудиторию, между прочим собрал, а затем неосторожно чесночком срыгнул. Салом с чесноком здесь вряд ли пленников когда-нибудь кормили, вот благодарные слушатели вовремя и среагировали на столь редкий в этих местах кулинарный изыск. Так что Петруха, утекать надо пока силенки есть, – хлестануло по барабанным перепонкам именно то, что вытекало из логики всего разговора, но противоречило логике последней фразы, – да ты не думай, провокаторам нужна большая толпа, что бы охрана чуть-чуть постреляла для нашей острастки и дело сделано, отдыхай спокойно. Чтоб тебе, да и мне спокойней было, друг от друга не отходим, если есть план, позже скажешь. У меня-то точно есть вроде нормальный план, мать его через колено. Охране, мне кажется наплевать на нашу сохранность, тяп-ляп они нас стерегут. Так что думай, если нет, я один дуну, – прозвучало, как призыв к решению ребуса. – Я подремлю пока, – и моментально свернулся калачиком.
Запахнув, как можно плотнее свою видавшую виды шинель, втянув голову в плечи так глубоко, насколько позволяла ширина поднятого воротника, Петр, в тяжелых раздумьях, расположился неподалеку.
– Думай, – повторил он, как ему показалось, самое важное слово из только что услышанного, – легко сказать. То, что выжить здесь почти невозможно, он и сам понимал без всяких наставлений. А желание бежать, казалось таким естественным, и только усиливалось с того момента, когда его впихнули как в помойный ручей, в беспорядочный строй военнопленных, обреченно бредущих навстречу мучениям. Из этой пылящей, растянувшейся на добрую версту колонны, он с завистью дважды наблюдал, как группы по несколько бойцов, сопровождаемые нестройной, ленивой канонадой винтовочных выстрелов, бросались в близлежащие лесные заросли, вызывая у недавних попутчиков возгласы сочувствия и одобрения, а меж ними, впрочем, и довольно дружные язвительные окрики. Он бы, не задумываясь, побежал вместе с этими смельчаками, но сил на это не было. Ушибленная нога, тянущая боль в грудине и правом плече, головная боль, отдающая прострелами в виски при каждом резком движении, едва позволяли выдерживать темп неторопливой ходьбы. Сейчас же, как ему казалось, он значительно окреп, и, мог бы, при случае, «сделать ноги». Тем более что он понимал – при местном рационе его относительное здоровье продлится всего несколько дней. Так что, вопрос номер один; – бежать, не бежать? – закрыт с самого начала. Но тут же возникает, не менее важный вопрос; – верить, не верить? – вот где голову сломаешь, чужая душа, потемки. Вызывало некоторое сомнение то, что Николай как будто и не слышит его, а пытается внушить мысль о побеге, не очень-то интересуясь мнением собеседника, уж очень умело, и как бы по заученному тексту выдавая все важнейшие аргументы в пользу побега. Или это только кажется, от страха, и чрезмерной осторожности? Ведь, он говорит то же самое, о чем думаешь и ты, и, это неоспоримый факт. Факт и то, что он тоже не слишком-то доверяет, или просто делает вид, а на самом деле, всё, отлично понимая, играет, преследуя какую-то только ему понятную цель. А с другой стороны, уж слишком все мудрено, где та важная птица, ради которой стоило огород городить, наверняка он не кривит душой, а точно собирается бежать, и тебя с собой за каким-то лядом зовет. Вот то-то и оно, вроде, дюжий мужичина, говорит, что план побега есть, беги, не задумываясь, так нет же, что-то мудрит. Для чего? Тебе это надо? Зачем переливать, из пустого, в порожнее? Понятно же, не побежишь – сгинешь к бабке не ходи – решишься, – может быть, выживешь, не получится, – ну хоть не издохнешь, как безропотная скотина в загоне. От осознания правильности принятого решения, по озябшему съежившемуся телу пробежала сладостная, ласковая, теплая волна. Она овладела им полностью и унесла измученное обмякшее сознание в мир ничем не сдерживаемых грез:
По залитой ярким солнечным светом, широкой устланной сочным, зеленым ковром из молодой травы-муравы, улице, шествовала невиданная, никогда до сих пор не существовавшая, невозможная красота. Она плыла от колодезного журавля, что живописно возвышался у края села, неся на расписном коромысле, опертом на узенькие, хрупкие плечи, до краев наполненные серебрящейся студеной водой, большущие ведра. Блики от воды складывались в ослепительные лучи, которые причудливо поигрывая на лицах многочисленных зевак, заставляли тех, щурясь и широко улыбаясь, уклоняться от назойливых и шустрых солнечных зайчиков. А она плыла, едва касаясь невысокими каблучками своих золотистых сапожек, поверхности почти незаметной, обозначенной всего лишь слегка примятой травой не очень широкой дорожки, и никого казалось, не замечала, и этим еще больше привлекала к себе внимание окружающих. А те, разделившись на несколько неравнозначных по численности компаний по интересам, как будто заранее приготовившись к чему-то важному, провожали ее долгими взглядами, выражающими все что угодно, от восхищения и до крайней степени неприятия и осуждения. Саша, а это была именно она, уже оставила позади самую малочисленную группу, состоящую из нескольких авторитетных бородатых мужиков, безмолвно и степенно оценивших все ее внешние достоинства. Гордо пронесла свой ладный стан мимо активно нашептывающих что-то друг дружке, стоящих внушительным кружком, взрослых деревенских матрон, миновала беспорядочную толпу восхищенных, изрядно обескураженных парней, с оглупленными гримасами вожделения, лицами. Не обратив и малейшего внимания на девиц плотно обступивших, по-видимому, самую словоохотливую подружку, выдававшую наверняка что-то весьма едкое, подразнив нарочитым пренебрежением эту пеструю подбоченившуюся сарафанную ватагу, устроившую обстрел завистливыми взглядами, медленно приближалась. И это был восторг, сковывающий дыхание, и, пронесшийся легким ознобом по всему телу, необычайно волнующий душу восторг.
– Укради меня милый, – послышался до боли родной шепот, прозвучавший, как показалось настолько громко, что его можно было принять за голос из репродуктора, подвешенного на высоком столбе у сельсовета, – укради меня поскорей.
– Ох, Саня Санечка, что же ты трубишь на все село, это и так секрет неизвестный разве что бабке Парашке по причине ее полной глухоты и слепоты, – рассуждал удачливый соискатель любви, а вслух произнес, – сегодня за полночь будь готова, красота моя. В мгновение ока жаркий, солнечный, многолюдный полдень превратился, в морозную звездную ночь, стерегущую их великую тайну. А пара гнедых, друзья на веки, как будто понимая значимость происходящего, без устали делали свое дело, неся по санному следу этих двоих, так нужных друг другу молодых людей, укутанных единственным, необычайных размеров, пахучим овчинным тулупом. А упивающиеся собственным долгожданным счастьем двое, почти ничего не соображали. Они и не замечали, ни огромной бесстыдно улыбающейся во весь рот луны, ни безразлично выпучившихся на них звезд, бесстрастно освещающих их путь в, несомненно, радостную, а как же иначе, но неизвестную новую жизнь. Не замечали комьев снега, летящих на них из-под копыт, разошедшихся не на шутку лошадей, и будто бы предназначенных охладить жар, укутывающий пуще безразмерного тулупа, не замечали приближающейся погони. А между тем огромные комья снега превращались в непрерывный, сплошной снегопад, нависший над миром сплошным студеным покрывалом, сквозь которое доносились тревожащие, быстро приближающиеся зловещие звуки погони. Полы тулупа распахнулись, лицо и грудь обожгло острыми морозными колючками. Сквозь нарастающие завывания ветра и беспорядочный сумбур из обрывков человеческой речи, вперемежку с грязной бранью, донеслось, – беги Петруша, беги мой милый, беги.
– Давай вставай, – послышался Петру почему-то мужской и от того невыносимо противный голос, – вставай быстрей Петруха не унимался Николай, – промокнем совсем.
Моросил нудный, осенний, что называется, поздний гость до утра, ледяной дождь. Судя по густоте нависших над грешным миром, иссини черных мрачноватых туч, дело шло к природному катаклизму, а может быть, так просто казалось спросонья, тем более что уже заметно вечерело. Тем не менее, призыв поспешить в укрытие был как нельзя кстати.
– Эх, – промелькнула щемящая мысль, – вот так-то реальность встречает. Вокруг суетился обездоленный, неприкаянный народ, начинающий мерзнуть пока что от промозглого порывистого ветра, да в большей степени от осознания перспективы вначале промокнуть насквозь, до нитки, чтобы затем уже наверняка околеть. – Ну, ты и мычал во сне, как будто тебя толи пирогами с ливером обкармливали, толи писаные красавицы до полусмерти затискали, – ехидничал, с некоторым оттенком зависти, говорливый волжанин. – Эх, – только и смог ответить, не до конца проснувшийся Петр. – И что ты надумал, – продолжал он практически без паузы, и какого-либо видимого перехода, хотя и так было понятно, что тема разговора вернулась, то есть, становилась куда более серьезной. – Да надумал, надумал, – как бы нехотя буркнул Петр, – куда деваться от такого агитатора или пропагандиста, никак не уловлю разницы, да тут сама ситуация по важнее любого агитатора будет, или пропагандиста, хрен его разберет, только я ума не приложу, как и что.
– Вот и ладненько, ты на небо посмотри, я думаю, что сама природа нам поможет, – начинал излагать свой стратегический замысел, рождающийся прямо на глазах самопровозглашенный командир, вставая и одновременно внимательно оглядывая место пристанища, как будто опасаясь не забрать с собой что-то из пожитков, которых, если говорить по правде, просто не существовало.
– Теперь слушай внимательно, идем вместе со всеми в сторону скотных дворов, вон у той разбитой емкости останавливаемся, как бы отлить, и там пока прячемся, места в ней хватит, дальше расскажу на месте. Шевелись, не то промокнем раньше времени, только бы еще кто не увязался.
Через четверть часа большое переселение народа благополучно завершилось. Нудная морось продолжалась, но разместившиеся в чреве десяти, а может быть пятнадцати кубовой бочки беглецы, чувствовали себя вполне уютно и устроено, уж во всяком случае, более устроено, чем их собратья по несчастью, что битком набились в скотные корпуса. Некоторое время сидели, молча, так как слова, сказанные даже не очень громко, внутри звучали так звонко, что казалось, распространялись на всю округу. Затем, поочередно утыкаясь губами, друг другу в ухо, шепотом обсуждали план дальнейших действий, из чего Петр мало что понял, но понял одно точно – главное, не отставать. Когда наступила кромешная тьма, изредка рассекаемая медленно ползущим лучом прожектора, и послышалось призывное пора, сердце мгновенно уперлось в глотку и бешено забилось радостно и тревожно. Все дальнейшее происходило, словно в тумане. Колючую проволоку преодолели довольно просто, переползя под ней по дну русла пересохшего ручья, а ведь это препятствие казалось самым сложным. Дальше гонка в сумасшедшем темпе. Бег по пересеченной местности, пролетающие мимо стволы столетних деревьев и бьющая в лицо мокрой травой вздыбливающаяся земля, затяжные подъемы по раскисшей глине и беспорядочная круговерть обрывистых спусков, все это продолжалось, как бы вне времени и пространства и прервалось мгновенно, когда силы оставили беглецов. Едва пробивающиеся сквозь медленно ползущие тучи, лучи идущие от бледного, стареющего месяца, слегка освещали зыбкую поверхность водной глади безымянной реки, так нежданно и непрошено возникшей на пути. Двое лежали на неприветливом берегу, в одночасье обессилевшие не только от неподъемных нагрузок, но в большей степени, от неожиданно возникшего, и от того, кажущегося непреодолимым, препятствия. Оба ощущали себя слабыми, совершенно ничтожными, скудоумными козявками, не пригодными для совершения, чего-либо, мало-мальски путного, да к тому же, накрепко подчиненными какой-то неведомой и не доброй воле. – Ну и какие умные мысли начинают зарождаться по поводу происходящего, в умах великих стратегов, – слегка отдышавшись, пробурчал Петр, язвительно крякнув пару раз, не отрывая лица от земли. Ответа не последовало, но само сказанное не понятно каким образом, но несколько приободрило. Вставать не очень хотелось, тем более что для этого не было не лишних сил, да и осмысленной необходимости так же не присутствовало. Вопреки ожиданиям, дождь не превратился в катастрофический ливень, не успев основательно промочить одежду, истощался. Лишь изредка он напоминал о себе слабой моросью, и это в свою очередь добавляло толику оптимизма. Лежали погруженные в беспорядочные, сумбурные мысли, прислушиваясь к ночной звенящей тишине, изредка нарушаемой гулом отдаленной канонады. Легкий порыв ветра донес слабо различимые звуки собачьего лая, и тут же услужливое воображение многократно усилило их интенсивность, и основательно упорядочило мысли, придав им конкретики.
– Петро, ты слышал, или мне показалось, – прервал затянувшееся молчание Николай, чем сразу же добавил красок во внезапно всплывшую в памяти, недавно увиденную, страшную картину расправы над несчастным пленным. Тот несчастный довольно быстро и, как казалось, легко бежал в сторону кромки леса по извилистой траектории, наверняка считая основной опасностью выстрел в спину. До лесной чащи оставалось преодолеть всего несколько метров. Но, в это мгновение, огромный пес, разъяренный погоней, взлетев на спину бойца, мгновенно сбил того с ног, к радости еще двух подоспевших, оскалившихся чудовищ. Собаки праздновали победу, как подобает это делать охотнику, зверю, только что удачно затравившему добычу. Бедняга тщетно пытался хоть как-то защищаться, но тут же потерял все признаки жизни. Захлебывающиеся собственным рыком овчарки рвали безжизненное тело жертвы, с остервенением трепали окровавленные клочья одежды, пытаясь освободить от них собственные клыки. Прозвучал винтовочный выстрел, а за ним громкий окрик, означавший, по-видимому, некую команду собакам, те вдруг нехотя оставили жертву и, устроившись чуть поодаль, принялись прихорашивать свой внешний вид. Все завершилось тем, что двое немцев проволокли за ноги истерзанное тело вдоль изгороди из колючей проволоки так долго, пока не вмешалась их усталость, а может быть и лень. Расчет немцев запугать, срабатывал безошибочно, увиденная сцена, вряд ли, добавляла решимости совершить побег. И сейчас все это мгновенно пролетевшее перед глазами действовало угнетающе, и казалось, должно было парализовать волю, но что-то неуловимое все-таки, препятствовало установлению безоговорочной власти животного страха. Николай продолжал молчать, и этот факт говорил о том, что он тоже не в полной мере подавлен страхом, и, наверняка каким-то образом пытается осмыслить происходящее, одновременно прислушиваясь к потоку слабых, но разнообразных звуков. Между тем отдельные звуки становились все более и более различимы по причине внезапно возникшей необходимости в их распознавании и спонтанному подключению рассудка к выполнению этой работы. Вновь донеслись звуки заливистого лая, повторившегося несколько раз, причем на разные голоса, это усердствовали наши, неухоженные наверняка косматые, родные русские дворняги. Жить стало лучше, жить стало веселей, вспомнились великие слова вождя. Захотелось сразу же поделиться радостной догадкой с соседом, одновременно продемонстрировав свою опережающую сообразительность. – Да что тут слышать, – нарочито равнодушно буркнул Петр, – деревня в верстах двух, или хутор какой, вон как собачки заливаются, – добавил он, не без оттенка гордости в голосе, завершая свое, как ему казалось, глубокомысленное умозаключение.
– Это понятно, – незамедлительно парировал Николай, – весь вопрос на том, или на этом берегу этот самый хутор, мать его через колено, и, конечно же, есть ли там немцы, тоже интересно. – Ну, так не слышу команды, какого черта разлеживаться, не на печи у тещи, косточки хрен прогреешь, а слегка простудиться в раз можно, – продолжал бодриться добровольный подчиненный. – Двигаем вдоль берега на лай, а там видно будет. На том без лишних пререканий и сошлись.
В хорошо протопленной, бревенчатой, с одним узеньким окошком баньке, присутствовал рай. Во всяком случае, его точно ощущали двое расположившиеся на полке внушительных размеров, дабы отдохнуть часок другой, и хорошенько прогреться. Уснуть не удавалось по двум причинам, в первую очередь мучила жажда после съеденных по нескольку штук на брата вяленых рыбин, снятых с пенькового шнура, протянутого тут же, под навесом, от чего приходилось раз за разом черпать воду медным ковшом из деревянной лохани. К тому же, через полчаса стало жарко, и пришлось приоткрыть дверь. Вместе со свежим воздухом ворвался все тот же прерывистый собачий лай на разные голоса.
– Красиво собачки лают, на нас не реагируют, это хорошо, – подумал Петр, ловя себя на мысли о том, что нечто подобное он уже испытывал, и казалось не так уж и давно, но все-таки не здесь на войне, а в той далекой но такой устроенной и уютной мирной жизни. Он силился связать свои ощущения с каким-то событием, очень значимым, он это чувствовал, но память отказывалась способствовать его устремлениям, к тому же, что-то извне начинало отвлекать его от интенсивных раздумий. Послышались слабо различимые звуки, толи не связной человеческой речи, толи визга побитой собаки. Но практически тут же, вырвались из тишины нечленораздельные, вопли подвыпивших мужиков.
– Откуда они взялись, – прошептал Николай, – будто черти из табакерки.
– Эй, хозяин открывай ворота, встречай дорогих гостей, – заорал во всю глотку, по-видимому слегка тронутый верзила.
– Наливай хозяйка щей, я привел товарищей, – вторил его, слегка картавый собутыльник, – Метрий, не затискай там Фиску до смерти, давай поднимайся, и лодку не забудь привязать.
Прибывшие барабанили в дверь и окна хаты, и через некоторое время окна бледновато засветились, слегка вычленив из темноты очертания добротного, бревенчатого строения. Со свирепым, протяжным визгом отворилась дверь, и на довольно высокое крыльцо, как будто выкатился приземистый дед, заросший большой кудрявой бородой, которая казалась совершенно белой в лучах света от керосиновой лампы, какую он держал в левой руке.
– Кого ешшо чэрти прыперли, – услышал Петр, почти родной белорусско-хохляцкий говор, на коем изъяснялась добрая половина его земляков односельчан, потомков столыпинских переселенцев, наверняка и из здешних мест тоже. – Ас як пальну, с двух стволов, – продолжал дед потрясая дробовиком в правой руке. – Так яечачки и отлетят, псам голодным в корм. Это ты Василь, ли шо?
– Да я это дядь Кондрат, а ты чего начальство не признаешь? Давай ребят своих сюда, гулять будем, – налегал на командные интонации в голосе этот самый Василь. – Да пошевеливайся, новая власть перед тобой, – с распирающей все его существо, гордостью, выпалил он, от чего надолго, и истошно закашлялся.
– Ну и дурэнь же ты со ступой, – не задумываясь, выдохнул дед, – як я побачу так ты самый тупый во всей округе, вырядился-то. Полицай ли шо?
– Но ты, не очень-то, не на колхозной сходке, а то не погляжу, что родич, зараз шлепну как тех красноперых. – Да буди уже ты сынков, – примирительно добавило новоявленное начальство. Снова со звериным визгом распахнулась дверь, и на крыльце появилось два дюжих молодца в исподнем, с изрядно мятыми физиономиями. – Выпить есть, проходи, с усилием провернул язык один из, хозяйских сыновей, а то добавить бы не мешало. Но старик буквально спихнул сыновей с крыльца, бормоча при этом, – куды проходи, там мать с бабкой. Пущай спять, вон под навес дуйте к баньке, там и рыбки, вяленной полно, да уж только не гогочите пуща жеребцов. Последняя просьба возымела обратный эффект. Начался балаган в виде; дружеских объятий, с попыткой отрыва друг дружки от земли, беглого и сбивчивого обсуждения последних новостей, и прочей не связной болтовни, в том числе, частое и не лестное, упоминание Метрия с Фиской, и вяленой рыбки.
В воздухе повисла напряженность. То, что встреча с этими хлопцами не сулит ничего хорошего, было ясно с самого начала. Но, теперь еще и шансов избежать этой встречи оставалось ничтожно мало.
– Давай потихонечку обратным ходом, а затем к лодке попробуем, – прошептал еле слышно Николай, – только вот вокруг поленницы проскользнуть как-то надо, а это у них совсем под носом. Рядом что-то зашуршало, и сразу же послышался звонкий женский голос, – Митя, а Мить тут и в правду рыбка вялится, вкусненькая, наверное, наливай, эй хлопцы, айда скорей сюда.
– Пошли, – хоть и шепотом, но почти зарычал Николай, и мгновенно выпрыгнул в предбанник, а там зацепившись за угол скамьи, споткнулся и буквально выкатился кубарем во двор. Раздался истошный вопль Фиски, ватага ринулась в направлении бани. Петр, вооружившись увесистым поленом, бросился на помощь товарищу. Тот, не мешкая, вскочил на ноги. Резким ударом левой руки, точно в подбородок, он надежно уложил на землю, возникшего на пути «Метрия». Затем, во все ноги, ринулся, вдоль поленницы. Компания мгновенно разделилась, трое устремились ему вдогонку, но было видно, что догнать беглеца они не смогут. К Петру бросились два полупьяных хозяйских сына, один из них тут же скорчился, получив удар поленом в ребра, но второй угадил Петру в переносицу, а тот, оседая, хрястнул обидчика своим оружием ниже колена. Верзила взвыл, но вместе с подоспевшим к нему на подмогу Дмитрием, они, в два счета подмяли под себя соперника, и принялись, методично не жалея сил дубасить без разбора, куда придется. Неожиданно раздался винтовочный выстрел, затем еще один, экзекуция тотчас прекратилась. По-видимому, возобладало желание нападавших, тотчас же узнать о причинах и результатах стрельбы.
– Отбегался сука, – смачно выругался Василь, – вы, что еще одного захомутали, дайте-ка я его, вдогонку отправлю, разбегались тут.
– Успокойся прыдурок, чаго он тебе сробил, и так хлопца измочалили вусмэрть, – оттеснял полицая подоспевший дед, – и того за коим хрэном стрельнул, нехай бы топали по добру, восвояси.
– Ну ладно пусть поживет еще, – смилостивился меткий стрелок, и хлестко врезал лежащему на боку бойцу ногой под дых, – завтра, с утра пораньше, к немцам в лагерь свезу, если не поленюсь.
Его примеру последовала вся гопкомпания за исключением старика да девицы, которая напротив всячески пытались урезонить своих дружков.
– Да успокойтесь вы изверги, забьете мужика, лучше выпейте, обмойте уж, коли так, свой неслыханный, очень лихой героизм. Толпа отпрянула, разместилась неподалеку под навесом за столом. Стали наперебой с жаром обсуждать произошедшее, изредка прерывая это увлекшее их занятие, на еще более увлекательное, питье горилки. Петр лежал на уже высохшей холодной траве лицом вниз, уложив голову на, ладони, с большим усилием подтянутых под голову, рук. Смерть в очередной раз прошла мимо, слегка прикоснувшись принеся страдания и боль телу, и одновременно лишила надежды на какой-либо благополучный исход. Она унесла его товарища, за могучую спину которого, так уж получается, он прятался практически во всем почти сразу же после знакомства, признав в нем для себя непререкаемого авторитета. А теперь, этот волжской богатырь, лежит где-то рядом, совсем бездыханный. Для него все закончилось. Боль, жалость, непреодолимое отчаяние, ощущение полного одиночества и безысходности, все это приводило Петра к навязчивой и омерзительной, но такой простой мысли о том, что он, будто бы завидует своему погибшему товарищу.
– Эй, «Антика воин», – прервали мрачные размышления чьи-то исковерканные пьяным дурманом слова, – ну-ка глотни за помин души дружка твоего, коль уж тебе так повезло, что жив остался.
– Или не повезло?
В разбитый нос ударило резким запахом пережженной, наверняка свекольной, сивухи, источавшийся из литровой медной кружки, которую один из собутыльников, совал Петру, упирая ею в висок. С трудом, задействовав правую руку, Петр повернулся на левый бок, оперев локоть левой руки в землю, слегка приподнял тело. Перед глазами все потемнело, затем окружающий мир несколько раз искривился, одновременно погружаясь в легкую дымку, которая постепенно начала рассеиваться, и следом за этим, реальность приняла почти привычные очертания. Перед ним на корточках, едва удерживая равновесие, восседал светловолосый, кудрявый парень лет восемнадцати, глупо улыбаясь во всю пьяную физиономию, не в силах произнести ни слово, мыча и гримасничая, протягивал Петру почти полную кружку. Из-за стола донеслись вопли одобрения более искушенных в пьянстве, чем этот безусый юнец, а посему и слегка менее опьяневших гуляк.
– Давай-ка, дорогой товарищ, прими нашего угощения, хотя мы тебя и так изрядно угостили, – хихикнул, по-видимому полицай Василь. – Выпей, чтоб не так страшно было, да и мне спокойней, только все до дна, не то расстреляю, – беззлобно добавил он.
Петр поднял, уже стоящую на земле вместительную кружку дрожащей рукой, с трудом поднес ее к разбитым губам успев при этом сглотнуть обильно выделившуюся слюну, и стал очень медленно, цедя сквозь едва разжатые зубы, как он это делал всегда, вливать в себя отвратительного запаха жидкость. На удивление быстро кружка опустела, и Петру показалось, что он выпил не больше граненого стакана, что тоже немало, на самом же деле в кружке изначально было ни как, не менее полулитра самогона.
– У, – громко загудели за столом, – сибиряк не иначе. Давайте его в бане запрем, нехай отсыпается, а то сами-то как пить дать напремся в пашню. Убежит ненароком, чем черт не шутит.
– Да и хрен с ним, – подумалось Петру, лежащему навзничь на холодной земле. И его еще слегка теплящееся сознание, вместе с телом, устремилось вслед за поднимающимися в небо ногами, увлекающими всего без остатка в темноту к тучам и звездам, и Бог знает куда еще.
– — – — – — – — – — – — – — – — – — —
Черниговка заметно опустела и приобрела женское лицо. Война выполняла свое дело настойчиво и бесцеремонно, приглашая на ратный подвиг, все новых и новых мужчин. Уходили целыми семьями, по три, четыре человека. Вначале, провожали матерых, понюхавших пороху, обученных воинов. Казалось, что на этом все и закончится, ведь война не может продолжаться очень долго. Были и такие, особо убежденные в силе красной армии, «знатоки», которые, вполне серьезно, пытались убеждать своих не очень-то легковерных земляков в том, что война вот- вот закончится, и их, переодетые в военную форму, односельчане благополучно вернутся к своим женам, мамкам и деткам, так и не успев доехать до мест сражений. Степан Павлович Стриж шестидесятитрехлетний ветеран империалистической, относился к подобным рассуждениям, как к пустой болтовне, не знающих жизни людей. Он-то представлял наверняка, что с германцем придется повозиться изрядно, что еще много раз бабы будут лить слезы, провожая своих героев на фронт, а потом истошно реветь, получив похоронку. Так оно и происходило. Сам он проводил на фронт старшего, из двоих сыновей, Петра, да двух зятьев. Обе дочери, как и полагается, давно покинули отчий кров. Старшая, Ганна, жила собственным хозяйством, с детьми, в доме, который они с мужем построили в году, наверное, тридцать восьмом. Арина, с детьми, жила вместе с родителями мужа, в их доме. А так как ее муж был их единственным ребенком то об отделении никто и не помышлял, тем более что места хватало всем с лихвой. Этот факт, на протяжении уже нескольких лет, не давал Степану покоя. Нет, с Ариной-то все хорошо, живет в довольствии, при муже, и его родителях. Все чин чином. Беспокоил Петр, покинувший отчий дом с диким скандалом, и со срамом, как когда-то, казалось Степану, а после, ютившийся в тесной и ветхой избушке, доставшейся его жене Александре от покойной бабки. Теперь, когда от ушедшего на фронт, одним из первых, Петра, уже три месяца не приходило ни весточки, это беспокойство отца превратилось в тягостное чувство вины. Иначе и не могло быть. Он, овдовевший пару лет тому назад, роскошествовал, вместе с пятнадцати летним Яковом и тринадцати летней Маней, в просторном, крестовом доме. А, его старший, по сути главная и единственная надежда, оставил свое семейство, жену красавицу, что уж теперь отрицать, с полуторагодовалой дочкой, в тесной развалине.
Нахлынувшие воспоминания, почему-то, перенесли Степана в пору его собственной молодости. Времена были беспокойными, насыщенными ожиданием каких-то перемен. Украинская деревня Черниговка, затерявшаяся где-то в Черниговской губернии, бурлила. По молодости лет, а ему в ту пору было шестнадцать – семнадцать, Степан не особо вникал в суть происходящего, но ему, все-таки, было понятно, что все разговоры, сходки и даже очень частые скандалы, происходившие в последнее время среди взрослых отцов семейств, были связаны с возможным переселением в какие-то далекие, сибирские земли. Взбудораживалось местное население частым появлением различных агитационных листков, в коих, это самое население призывалось оставить насиженные места и перебраться туда, где ничего, пока что, нет кроме диких лесов, да бесконечных степных просторов. Начальство не жалело щедрых посулов. Он не мог их не помнить, ведь это было едва ли не единственной темой для разговоров в течение, года, а может быть и полутора лет. Каждой семье предлагалась перевозка в любую, из выбранных ею, подлежащих заселению, местность, по сниженным ценам на проездные билеты, а детей обещали перевезти и вовсе бесплатно. Каждой семье обещали, в бессрочное владение, огромные, в понимании украинских крестьян, земельные наделы, по пятнадцать десятин на каждого члена семьи мужского пола. Так же, обещались субсидии на обзаведение хозяйством, лошадьми и прочей домашней живностью, необходимым сельскохозяйственным инвентарем. Кроме того, желающие могли получить беспроцентные кредиты на строительство домов, с отсрочкой его возврата на пять лет, с последующей выплатой в течение десяти лет. В первые три года пребывания в Сибири обещали бесплатные билеты на поезд, для поездки на родину. Ребята призывного возраста получали отсрочку от службы в армии на пять лет. Все это, конечно, выглядело весьма заманчиво, особенно если учесть не очень роскошную жизнь, в которой пребывало большинство крестьян, в основном малоземельных. Но, что-то не устраивало это самое большинство, привыкшее к той мысли, что от властей добра не жди.
– Какого ляда тащиться черти знает куда, бросая земельку кормилицу. Мчаться, сломя голову, туда, где морозы лютые, лес да чисто поле. Земли, говорят, там очень бедные, ничего не родят, сколь их потом ни поливай, да ни обрабатывай, – твердили наиболее благополучные мужики, имеющие мало-мальски приличные земельные наделы, да не большое количества ртов. – Так там еще и самураи косоглазые совсем под боком вы что, думаете, это правители о нас с вами пекутся, да хрена с два, земли, пустующие, царь батюшка заселить хочет, что б мы их там и обороняли.
– Про японца, верно, сказано, правительству, конечно, нужно нагнать народцу на безлюдные земли, поэтому-то оно точно пойдет на большие расходы. Да и здесь уж невмочь; прокормить наши выводки, – возражали многодетные, да обладатели совсем уж захудалых земель, да безземельные батраки. – К тому же Япония, совсем у черта на куличках, на острове, за морем, а нам туда какого беса тащиться, Сибирь большая, прямо за Уральским камнем начинается.
Долго продолжались подобного рода дебаты, не приводившие к каким-либо сближениям двух противоположных мнений. Страсти накалялись. Решение пришло из самой Сибири. Две семьи, к коим жители Черниговки не особо серьезно относились, по причине, как казалось, их не очень дюжих умственных способностей, и не слишком выдающегося трудолюбия, пару лет, как покинули родную деревню, будто бы перебравшись в Сибирь. Про них и думать забыли, но вот они напомнили о себе в письмах к родственникам, содержание коих говорило о том, что живется им не плохо, уж во всяком случае, намного вольготнее, чем прежде. Родственники из числа уважаемых мужиков, которые раньше считали переселение авантюрой, стали, во всех местах скопления народа, тряся конвертом, всячески расхваливать житье, на сибирской чужбине, зачитывая самые важные отрывки. Если верить первопроходцам, земля в тех местах, не столь плодородна, но это с лихвой компенсируется ее количеством. Сочное разнотравье, стоит по пояс и выше, так, что корми скотины столько, твое здоровье позволит, да сколько мест для зимнего содержания соорудишь, что тоже не проблема, вокруг леса полно. Все обещанное, начальство выполнило; так, что живут они, припеваючи, в просторных новых домах, о каких на родине и помышлять не могли. И, как правило, заканчивали добровольные агитаторы свои проповеди тем, что цитировали слова содержащий призыв к землякам, не сомневаться, а смело перебираться на вольные места, пока правительство не передумало, чем черт ни шутит.
Земляки поделились на партии или на узкие группы по принципу; родня, кумовья, соседи. Все обсуждения теперь уже происходили в таком узком кругу, и сводились к одному, как сделать переезд более выгодным.
– Степан, – как-то по-особенному в тот раз, заговорил отец, – тебе Сонька Павлюкова нравится? Хороша девушка, красивая, да и не заморыш какой, конь конем.
– Батя, да у нас вроде бы лошадь есть, зачем нам еще кобыла необъезженная, – не совсем понимая, с чего вдруг отец завел этот разговор, съязвил Степан.
– Да ты мне не зубоскаль, – урезонивал парня отец. – Я серьезно говорю, тебе ведь уже восемнадцатый год, что болтаться по девкам. Натворишь, чего не надо, потом женись, на ком попало. А Сонька, девушка справная, отличной женой тебе будет, да и работящая, а не объезженную кобылку объездить, одно удовольствие.
– Ну, ты даешь, – рассчитывая отделаться шутками, ощерился улыбкой потенциальный жених, – не хочу я жениться, а на Соньке, к тому же, еще и страшновато. Твой младшенький отлупить может, он за ней так и подглядывает, вот пусть и женится.
– Что ты мне все улыбы строишь, у Никитки твоего, еще сопли по колено, да и все из рук валится. Тринадцать лет, а толком ничего делать не может. Вы с Егором в его возрасте уже вполне пригодными к разной работе были, а теперь уж ты и вовсе любого взрослого мужика за пояс засунешь, готовый хозяин.
– Не пойму я, что-то бать, с чего ты так моей женитьбой озаботился. Боишься, натворю чего? Напрасно, а давай я на Алене Бобок женюсь, если так уж тебе не терпится, – продолжал Степан, теперь менее шутливо, – чем тебе не невестка, да и красившей Соньки твоей будет.
– Сынок, да они ж, эти Бобки, захудалые совсем, голь перекатная, – продолжал напрягать, парня Павел Яковлевич, – Павлюковым разве чета, у тех все чин чином. Да и, дочка ихняя нисколько не страшнее Аленки тобой хваленой, только покрепче будет.
– Ну да, как ты говоришь, конь конем.
– Хватит Ваньку валять, – прервал, отец, – женишься, а мы с Прокопием Кузьмичом, вам крепко поможем, свадьбу закатывать не будем, не до того, но денежек чуток подкинем, зато на новых землях, как глава семейства, все сполна получишь, – раскрыл отец, одной фразой, свой выдающийся стратегический замысел.
Так оно все и вышло. Перебрался Степан вместе с женой, родителями и братьями, в составе группы односельчан, состоящей из двадцати семей на новое место жительство. А там и зажил своей семьей, как исправный хозяин. Денег, что подкинули отец с тестем, в купе с теми, что он получил на обзаведение хозяйством, хватало на постройку большого дома, покупку лошади, двух коров и кое, какого инвентаря, да еще оставалась небольшая сумма. Но они с Софьей решили немного попридержать расходы, присмотреться, как да что пойдет в хозяйстве, а уж там потратиться с наибольшей выгодой. Дом поставили не такой большой, как многие, а для чего хоромы, пока детей не наплодили. Купили лошадь, коров да пару овец, а косилки, сеялки да веялки, использовали, родительские. Тем более что поначалу, пока его, да двое Сонькиных братьев, были подростками, – обрабатывали землю гуртом. Года, как по заказу, выдались урожайные, а цены скупщики давали достаточно высокие. Это позволило Степану, продавая зерно, собранное со своего, хотя и не очень большого надела и с долей от отцовских и тестевых земель, за три года, сколотить приличный капитал. Куда вложить денежки, у Степана вопроса не возникало. Ведь, он давно вынашивал план обзавестись мельницей, а в тот момент настало время, это сделать, пока не поздно. В деревне на тот момент собственной мельницы не было, не дешевое это удовольствие, на помол пшеницу мужики возили в соседнюю деревню, верст за десять и каждый был не прочь исправить ситуацию в собственную пользу, как только появится достаточно средств. Самым изворотливым и оказался Степан. Купил оборудование для мельницы, да к ней, немалой мощности крупорушку, а к этому присовокупил еще одну лошадь. После того, как мельница была построена и все отлажено, хлебопашец потянулся к нему нескончаемым потоком. Привозили по нескольку кулей пшеницы, а с ними заодно куль другой овса или ячменя, для приготовления крупы, на корм скоту. Мука выходила отменная, самого тонкого помола, что не мог не оценить народ, и вскоре к Степану стали свозить зерно уже и из окрестных деревень. Цену он брал божескую, при этом его доходы возросли многократно, ведь работы на мельнице хватало, чуть ли не до самой посевной, только поворачивайся. Трудились с раннего утра и до вечера, на пару с Софьей, которая в работе не только не уступала мужу, но привыкшая с молодых лет считать себя обладательницей чуть ли не мужской силы, хваталась делать то, с чем и не каждый мужик мог сладить. Степан, частенько, поругивал супругу за чрезмерное рвение, но толку это имело мало. Он привлек к работе на мельнице своего младшего брата Никиту, да шурина Василия, обоим в ту пору по шестнадцать исполнилось, здоровые бугаи вымахали, чего в зимнюю пору по деревне разгуливать, на девиц заглядываться. В деревне стали появляться пришлые, да и некоторые местные люди, которые предлагали свой труд за умеренную плату, но и тогда, Софья продолжала работать по хозяйству, наравне с мужиками, на корню отвергнув предложение мужа, нанять работников, – еще чего не хватало, срамиться, это ж барство какое-то будет. Только, когда выяснилось, что она на сносях, и уже не первый месяц, Степан решительно, с привлечением всей родни, попытался укротить чрезмерный энтузиазм своенравной супруги, и отчасти, это ему удалось. Но она, по-прежнему, вертелась неподалеку от него, выполняя какую-нибудь, как ей казалось посильную работу. А Степан, частенько, ловил на себе ее улыбчивый взгляд, не совсем понимая, что является причиной ее всегдашнего радужного расположения духа. Он все понял, гораздо позже. Не тогда, когда в слякотном августе, ни повитуха, ни появившийся гораздо позже фельдшер, не смогли спасти ее, и она умерла, истекши кровью, оставив ему, как бы в напоминание о себе, звонкоголосую дочку. Не тогда, когда, похоронив жену и отдав дитя на попечение бабок, беспробудно пьянствовал, приглашая разделить с ним горе всех, кто подворачивался под руку. И не тогда, когда накопившиеся заботы приказали впрягаться, как лошадь, в повседневные дела, а верной помощницы, как раньше, под рукой не оказывалось. Нет, гораздо позже. Минуло больше года, когда из соседней деревни, приехал его старинный знакомец Пантелей с двумя подводами зерна. Одной из подвод правила его дочь Мария, чернобровая, синеглазая, как Степану показалось совсем, малолетняя. Она, лишь единожды взглянула на хозяина, покрывшись при этом ярким румянцем, а Степан ответил сдержанной ироничной улыбкой так, как бы он это сделал, например, дурачась с младшей сестрой. Обговорив с хозяином все обстоятельства сделки, Пантелей с дочерью, быстро уехали, ответив отказом на предложение выпить кваску, сославшись на занятость. А Мария, как будто и не уезжала, ежеминутно напоминая о, своем существовании, днем и ночью маня к себе, будто мощным магнитом. Вот тогда Степан и понял все про покойную жену; и причину ее сияющей улыбки, и чрезмерный порыв в работе. Ей просто хотелось быть рядом, жить его заботами, дышать с ним одним воздухом, видеть его, и радоваться жизни, беспричинно, как ему тогда казалось, улыбаясь. Он ощутил щемящую тоску, разбавленную пониманием собственной вины перед ней. Ну, а Мария вскоре стала его женой, и у них появились на свет Арина и долгожданный сынок Петр. Наследник, как не без гордости, часто, называл его Степан, рос шустрым сорванцом, скорым и на поступки, и на слово. С малых лет, с каким-то упрямством любопытствовал, что да как происходит на скотном дворе. Особенно его интересовали лошади, коих к тому времени, в отцовском хозяйстве было целых пять. Частенько, застав сына в очередной раз на конюшне, отец уводил его к своему главному детищу, на мельницу, и там, в очень интересной и доходчивой форме, как ему казалось, рассказывал о тонкостях мукомольного дела. Сын слушал с большим интересом, а иногда и спрашивал, почему да зачем, что не могло не радовать родителя, но в следующий раз на мельницу не шел, а мчался к лошадям, доказывая, как понимал это отец, свою излишнюю строптивость. Когда миновали страшные года; война империалистическая, затем, еще более страшная, гражданская война, да кровавая пора продотрядов, и наступило послабление для крестьянства в виде продовольственного налога, и самого НЭП, Петро, из малолетнего сорванца, постепенно превращался в крепкого парня, и первого помощника, особенно на полевых работах. Перед самой революцией, когда Степан с братом Егором, почти одновременно вернулись с фронта, братья решили произвести родственный обмен хозяйствами. Причиной этому послужило то, что Егор, пришедший с войны с покалеченной ногой, не мог обрабатывать свои поля, которые были гораздо обширнее, чем у Степана. В результате, мельница отошла Егору, а все поля достались Степану. Все складывалось достаточно удачно и привело к обоюдному удовлетворению. Егор, вопреки сомнениям Степана, оказался весьма оборотистым мужиком и к началу коллективизации заметно расширил свое хозяйство, обновил оборудование, вдвое увеличил поголовье скота. На скотном дворе и на мельнице у него управлялись наемные работники.
– Папка, – прервал воспоминания звонкий голос Мани, – я к Семенчикам сбегаю на часок, тетка Матрена нас с Наташкой обещала научить вязать каким-то хитрым узлом, а потом пойду с Наденькой поважусь.
– Да сходи, конечно, хлопотунья моя, а где Яшка бродит, – осведомился отец без особого энтузиазма.
– Да где-то здесь болтался, – донеслось из-за распахнутой двери.
Через мгновение, съежившаяся, маленькая Манина фигурка промелькнула в проеме окна. За окном было прескверно. Третьи сутки, первый ноябрьский снег вперемежку с запоздалым дождем, начиная с полуденного часа, падая на подмороженную за ночь землю, к вечеру разжижал дороги на улочках, заодно увеличивая владения бесконечного количества луж.
– Полезу, наверное, я, на печке спрячусь, – подумал Степан Павлович, – заодно и косточки прогрею, а то поясница совсем распоясалась, сейчас мы ей покажем, как себя правильно вести, – бурчал он себе под нос, удобнее, располагаясь на пахнущих дрожжевой опарой овчинах. Тягостные мысли не заставили себя долго ждать.
Как получилось так, что он, и его родной сын, не смогли, в какой-то момент, понять друг друга, накопили горы взаимных обид, общались как едва знакомые люди, что на селе особенно тяжко. Степану казалось, что уж теперь-то, он наверняка бы все смог разрешить, очень легко и просто, и он частично это сделал, когда, собравшись с духом, поговорил с Александрой:
– Дочка, ты прости меня ради бога, – вспоминались ему эти слова, произнесенные с комом в горле. – Не прав я был, давно уже собирался повиниться перед вами, да вот видишь, как все оно вышло. Давай-ка не вредничай, перебирайся к нам, что ты с дитем ютиться здесь будешь, у нас места полно, да и нянька готовая есть, так всем будет лучше.
– Да я на вас Степан Павлович, зла не держу, – неторопливо отвечала невестка, продолжая прихорашивать светлые, жиденькие волосики на голове дочурки, уставившей свои искрящиеся голубенькие глазки на деда с улыбкой и одновременно со смущением, рассматривающей его во всех подробностях. – Только не могу я мужа ослушаться, да еще в такой ситуации, а он мне запретил у вас жить, пока сам все не перерешает, так и сказал.
Вот такой разговор, тяжелый, но одновременно обнадеживающий. Ну, что же теперь-то, ни письма, ни весточки, какой, остается только ждать да надеется на благополучный исход. А с другой стороны, ну никак не может быть по-иному, во имя справедливости высшей, не может Петро сгинуть на этой проклятой войне, так и не примирившись с отцом, нелепо это и неправильно. – Да, натворил ты, старый хрен, – обругал себя и другими, самыми последними словами Степан, а память, услужливо перенесла его в те самые времена:
Сходка продолжалась уже более двух часов. Народ, расположился вокруг здания сельского совета, как кому заблагорассудится; сидя на немногочисленных скамейках, на бревнах, прямо на траве, некоторые восседали, на предусмотрительно захваченных из дому, табуретах, но в основном стояли кружком поодаль от крыльца, на котором и рядом с ним топталась небольшая кучка мужиков, представляющих так называемую сознательную часть крестьянства.
– И, негоже, нам подводить власть советов, давшую освобождение землепашцу и пролетариату от ярма эксплуататоров. Она и сейчас, в заботе о благе трудового крестьянства, вновь указывает верный путь, который обязательно приведет всех нас к лучшей жизни, – чеканил слова районный агитатор. – Партия учит, что только коллективный труд позволит поднять сельское хозяйство на новую высоту, не удивительно, что многие крестьяне проявляют сознательность и объединяются в коллективы.
– А, много ли на сегодня в нашем районе артельных мужиков насчитывается? – прервал монотонную речь Никита, младший брат Степана, – судя по нашей деревне, не особливо-то стремится справный мужик избавляться от нажитых годами хозяйств.
– По сводкам на апрель тридцатого года, коллективными формами труда, в нашем районе объединены около семи процентов крестьянских хозяйств, – продолжал районный начальник, как будто не услышав вопроса, – однако, как подсказывает нам партия, к декабрю текущего года, коллективизация должна охватить восемьдесят процентов крестьянских хозяйств. Ну, а в том, что это будет выполнено, как и любое другое задание партии, можете не сомневаться, – закрепил он сказанное резким, коротким движением ладони правой руки, с растопыренными пальцами. – Нам не смогут помешать в этом, никакие препятствия; ни бессознательность середняка, ухватившегося за хвост собственной коровы, ни буржуйские замашки кулака – мироеда. Пускай, он показывает свой звериный оскал, – угрожающе уставил он леденящий взгляд в Никиту и стоящих радом братьев.
– Да хрен вам в зубы, – полушепотом, но с вызовом, выпалил Егор, ни к кому не обращаясь, – отдай все, и стань ровней голодранцам? Так они, что и там, за камнем, что тут, всегда в носу ковырялись, да сивуху лакали, почем зря.
– Притормози, брат, – слегка подтолкнул его Степан плечом в плечо, – они все сделают, не уж-то ты не понял, в Дмитровке, говорят, раскулачка прошла, слышал, что было. – Думать надо.