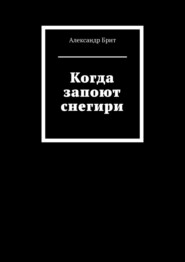скачать книгу бесплатно
– Пока еще фрицы, нас с тобой в обиду не дадут. Не ровен час, сами за милую душу, шлепнут и не поморщатся, – успокаивал, старшего товарища, Сергей. – Нам тут неизвестно; кто, когда, и, за что, отвечать будет. Немец, он дядька аккуратный и настырным через край бывает, говорят, – будто под Москвой уже стоит.
– Может быть и стоит, но судя по тому, что не слышно пока, что бы праздновал победу, получается, что ни беса у него не получается. Как в июле, да в августе, нахрапом, – рассуждал Евгений, и чувствовалось, что он и вправду, учитель. – А, по времени, если учесть, какими темпами немец продвигался в начале, уже давным-давно, должно было бы все их победой закончиться.
– Так оно и есть, – поддержал, сказанное учителем, Петр, – в этой же газетке, забыл сразу сказать, пишут о мощном контрударе Красной армии. – Кажется под Старой Русой, там, вроде бы, немцы даже в окружение могли попасть, а это в августе было.
– Так-то, оно так, но, что-то армии нашей, вместе с Буденным, да Ворошиловым, здесь пока не наблюдается, – не менял, своего настроения Андрей Максимыч. – Пока, что, германец гуляет по нашей земле, а где же это самое; – воевать будем на чужой территории, причем, малой кровью, да могучим ударом. А как же иначе, стратеги херовы, ядрена вошь в вашу душу мать.
– Умеешь, все-таки ты Максимыч, красноречием своим дух собеседников, на должную высоту приподнять, – явно иронизировал Евгений. – Где это видано, чтобы нападающий внезапно, словно из-за угла, сразу же и проиграл. Даже дурачку должно быть понятно, что любой напавший исподтишка, всегда, на первых порах имеет преимущество. Особенно, если нападает на доверчивого партнера. А, коль скоро, до сих пор, не может справиться с Красной армией, стало быть, вот-вот по физиономии получит, обязательно должен получить так мне кажется.
– Выходит, как не крути, один хрен, тупик, здесь не передохнем, так свои, дорогие товарищи с превеликим удовольствием расстреляют, – заключил Сергей. – У них, это, за милую душу, раз плюнуть.
– Да, шлепнут кого-то, – согласился Евгений. – А как же, но думается мне, не всех и не каждого. Наверняка разбираться будут. Ведь согласитесь, все мы в плен попали при различных обстоятельствах; кто-то, быстрей фрицев, бежал, с поднятыми руками, к ним навстречу. А другой боец, дрался до последнего, специалисты дознаются, кого-то, возможно, даже наградят.
– Ну, ты Женя хватанул. – Наградят, конечно наградят, а потом догонят, да и еще наградят, так, что мало не покажется, – взволнованно зачастил Андрей Максимыч, – кому, мы на хрен, сдались? Смотри, вон какая лавина, каждый со своей торбой поступков, да думок потаенных, об этих самых поступках, и все без исключения с надеждой выжить любой ценой, а как выжить, вот это и есть, мне так кажется, главная думка каждого из нас. И какой специалист, скажи мне на милость, сможет разгрести все это говнище. Если даже по своей доброте, и захочет это сделать, в чем, исходя из опыта предвоенных лет, приходится основательно сомневаться? Что-то не верится мне, что кто-нибудь из нас, сможет выйти сухим из воды, какую-то кару придется терпеть, каждому. Если уж очень повезет, каким-то единицам, то возможно отделаются небольшим сроком, но думаю это лучшая из возможных перспектив.
Разговор затягивался. Но, чем дальше собеседники углублялись в эту непростую тему, тем более очевидным было, что прийти к общему мнению, им вряд ли удастся, и, что на любой казалось бы, неоспоримый довод одного, у кого-то обязательно найдется, свой не менее весомый аргумент. Становилось понятным, что легче от копания в том, о чем очень мало знаешь не становится, и что, каждый останется при своих, нелегких мыслях.
– Ладно, что мы переливаем из пустого в порожнее, будет время, будет и пища. Нам, пока что, ночь коротать предстоит, значит опустимся на грешную землю, и даже ниже, – остроумно подвел черту Евгений. – Кажется мне, ночка выдастся холодноватая, и то ли еще будет, вот о чем пока что, думать надо. А мы в непролазные дебри лезем, нельзя сделать даже второй шаг, не сделав первый, так ведь, новосел? – обратился он к Петру, таким тоном, что было понятно – ответ не предполагается.
– Согласен, – вместо Петра ответил Андрей Максимыч, и, протяжно, со свистом, закашлялся, – они бы сволочи лучше табачку подбросили чем газетки подсовывать. – Все, веселее бы было, – добавил он, с трудом подавив кашель. А ночка и впрямь не жаркая ожидается, – заключил, по-видимому, заядлый курильщик первым спустившись к своей лежанке. Удобнее устроившись, в той мере, в какой допускали царящие здесь обстоятельства, вскоре, затих.
По рекомендации Сергея, Петр сгреб под себя все, что осталось незадействованным на их лежанке; сухую траву, солому, высохшие, здоровущие листья лопуха, листву деревьев. Затем, учтя только что услышанный кашель и рассудив здраво, – лучше руку переохладить, чем застудить легкие, – подняв воротник шинели и подсунув под себя все ее выступы, улегся на левую руку. Было не очень удобно, и он прижался спиной, к спине Сергея, сразу почувствовав, некоторое уменьшение нагрузки на левый бок и руку. Вспомнилась недавняя банька, с ее перегретым воздухом, и неутолимой жаждой, а еще вспомнилось, вдруг то, что же напоминала ему, та обстановка. Тогда, в тепле и на сытый желудок, он никак не мог вспомнить, да и времени на воспоминания, практически не было. И вот, надо же, как все-таки устроена человеческая память, сейчас, когда предстоит провести ночь в холодине, все всплывало, как наяву: Ленивый лай собак, не слишком активных, не торопящихся пресекать присутствие чужаков, пары лошадей, да человека из соседнего села. И, такая же, хорошо протопленная, банька. И тревожное, длящееся казалось, бесконечность ожидание. Ожидание момента, когда разомлевшие после субботней бани мужики; отец, да братья Александры, изрядно выпив по такому случаю самогону и плотно закусив, прекратят веселую болтовню и утихомирятся. И как прибежала Наталья, тринадцатилетняя забияка, сестра Александры, которая казалось, была влюблена в Петра даже более чем ее старшая сестра. Принесла какой-то сверток, не иначе как с «приданным» невесты, и заговорщицки сообщила, что Саша сейчас подойдет. При этом казалось, что она хотела сказать совсем другое, – посмотри какая я хорошая, а ты дурачок большой, выбрал Саньку. Эх. Чмокнула его в щеку и мгновенно исчезла в темноте двора. И как после, с Сашей долго не могли оставить, все увеличивающийся жар, этой самой маленькой но такой уютной баньки. Все это, мгновенно промелькнуло перед глазами, как наяву, и тут же, перенесло его из жарких объятий, в холодную яму, где спина соседа, являлась единственным источником тепла. Чувствовалось, что никто из соседей не спит, хотя все хранили молчание, но выдавали свое бодрствование, то легким вздохом или позёвыванием, а то едва уловимым движением.
Разбудил голос из скрипящего и шипящего громкоговорителя. Подробности разобрать было невозможно, но все сводилось к тому, что после приема пищи, весь контингент лагеря должен выстроится, вдоль коридора разделяющего сектора и администрацию. Цель этого мероприятия Петр не особенно понял, так как в этот самый момент, отвлекся на занятие, как он любил говорить, спортивным шевелением, дабы слегка согреться. Но, кажется, все шло к тому, что перед пленными будет выступать какая-то важная персона.
Примерно через час, когда последние арестанты управились с едой, в виде половника каши из крупы непонятного происхождения, да куска липкого черного хлеба, контингент сосредоточился вдоль колючки, и стал вяло переговариваясь, ожидать начала важного, а здесь иных и не бывает, выступления. На противоположной стороне коридора, неподалеку от ограждения, красовался деревянный помост, высотою около двух метров, на который медленно поднималось несколько немцев в форме, и двое в гражданской одежде. Получалось так, что любой арестант мог легко расслышать звук голоса, доносящегося с этого помоста, ведь до каждого из секторов, расстояние было практически одинаковое, не более двадцати, двадцати пяти метров. Петр, в очередной раз, удивился организаторским способностям немцев, когда отчетливо услышал чистейшую русскую речь.
– Солдаты, – громким командным голосом, заговорил щеголеватый мужчина, лет сорока, – я капитан, теперь уже бывший капитан, Красной армии, Колов Иван Сидорович. Так же, как и вы, я честно, не щадя себя, воевал за свою Родину, Россию матушку. И воевал бы, возможно, и по сей день, если бы не случилось того, что случилось со всеми нами. Только, попав в плен, я осознал, что это было неизбежно. Нас, таких сынов отчизны, миллионы. Но давайте, рассудим здраво, – кто в этом виноват? Разве виноваты те воины, кто храбро дрался в окопах, но не мог противостоять, лучшей в мире армии, за которой идет вся цивилизованная Европа. Или, может быть, виноваты те, чьи судьбы были изломаны, большевистской жидовской властью, прошедшей серпом и молотом по головам, ни в чем, не повинных граждан. Это, ведь они, пархатые активисты, гноили народ в годы безумной индустриализации, и они, силой, загоняли свободного землепашца в колхозное ярмо, оставляя их семьи без куска хлеба, а непокорных награждали клеймом «кулак» и всячески преследовали, вплоть до физического уничтожения целыми семьями. Скажите мне, виноваты жертвы всех этих бесчинств большевизма, в том, что пережив множество издевательств не захотели отдавать свои жизни, за эту бесчеловечную власть? Нет, – отвечу вам я, не виновны граждане, а безусловно, правы. И таких россиян как я, кто так думает, миллионы. Среди нас, не только рядовые красноармейцы и младшие командиры, но и многие генералы, разуверившиеся в правоте и силе большевистской жидовской власти, и по этой причине, добровольно сдавшиеся германскому командованию. Назову вам лишь двоих из них, фамилии, которых запомнил, это генерал- майор Кириллин, и генерал-майор Понеделин. Но повторюсь, генералов среди принявших единственно правильное решение, не один десяток. Уж им ли не знать истинное положение дел, и на фронтах, и в самой большевистской верхушке, которая, из-за животного страха перед своим же высшим офицерским составом, устроила жесточайшую расправу над преданными генералами, в самый канун войны, тем самым, облегчив немецкой армии, выполнение задачи, полного разгрома Красной армии. Ну, и как верить такой власти? Власти, устроившей геноцид собственного народа, власти бросающей в мясорубку войны миллионы мало обученных, почти безоружных солдат, под командованием неопытных командиров, и власти, которая отказывается от этих самых солдат и командиров, попавших в плен по вине все той же власти. Только СССР, единственная страна Европы, не пожелала подписаться под женевской конвенцией, об обращении с военнопленными. Представьте себе, пятьдесят три страны подписали, а Советский Союз нет. Мало того, они предлагают, любому желающему, уничтожать каждого, кто сдался в плен, об этом прямо говорится в зверином, сталинском приказе номер двести семьдесят. Вот у меня в руках швейцарский еженедельник, а в нем ответ Сталина, на вопрос представителей Красного креста, о положении военнопленных. – У нас нет военнопленных, у нас есть предатели, – как вам это нравится, а, доблестные воины? Мы все предатели, и всех нас ждет суровая расправа. Вот такая она, эта «распрекрасная», так называемая, рабоче-крестьянская власть. Но пусть они не надеются, не долго, им осталось хорохориться. Немецкие войска, стоят уже на пороге большевистского логова, на окраинах Москвы. Дни, коммунистической заразы, и жидовского владычества, сочтены. И я, спрашиваю вас. – Ради чего, вы должны, томиться, и ожидать, на свою голову, возвращения кошмаров, большевистского правления? Никакого возвращения не будет. Не за горами тот час, когда, немецкие войска, в парадном строю, пройдут по улицам Москвы. Вот тогда-то, начнется новая жизнь для России, без большевистских комиссаров, бесчинств НКВД, без навязанных крестьянству колхозов. Германия заинтересована в том, чтобы Россия была ее верным союзником, и сделает все, чтобы так оно и было. Но сделает она это, только с помощью настоящих патриотов новой России, которые верят, что, в установлении нового порядка, который приносит великая Германия, залог будущего процветания нашей любимой Родины. И тогда, патриоты спросят, – а где были вы, когда мы боролись с большевистскими бандами, за освобождение нашей Отчизны, от их гнета, чем вы занимались, в это время, и как собираетесь жить в новой России? И, что же, мы им ответим, и не будет ли поздно, что-то отвечать? Великая Германия дает нам шанс, организовать новую жизнь на нашей с вами земле. Дело найдется каждому, из тех, кто захочет способствовать установлению нового порядка. Нужно только сделать правильный выбор, и тогда Германия, а вместе с ней мы, настоящие патриоты России, примем вас в свои ряды. Только представьте себе, вместо жалкого, без какой-либо надежды на благополучный исход, существования, в статусе никому не нужного, предателя Родины, вы, сразу же, становитесь патриотами новой России. Вместо скудного лагерного питания – полновесный, солдатский паек, вместо невыносимых условий – светлые, сухие и хорошо отапливаемые помещения, вместо изношенных лохмотьев – добротная, свежая и теплая одежда, и еженедельная баня, куда же русской душе без баньки. Вот так, сегодня живут все те, кто уже сделал, единственно правильный выбор. Те из вас, кто согласен присоединиться к нам, и готов служить великой Германии и новой России, оставайтесь на месте. Остальные, могут разойтись по своим местам, и крепко подумать, над своей судьбой и судьбой Родины. Солдаты, вступайте в наши ряды, и тогда, мы вместе, добьем большевистскую гадину. А после, построим новую, справедливую Россию, которой можно будет, по-настоящему гордится, и нам и нашим потомкам! – с наигранным пафосом, наконец-то, завершил свою пространную речь, бывший капитан Красной армии, и уступил место оратора другому гражданскому, видимо из администрации лагеря.
– Не буду повторять слова капитана, вы сами все слышали, скажу только одно, – желающие, могут уже сейчас, остаться у ограждения, все, кто надумает позже, могут, в любое время, как это было и раньше, это сделать, подойдя к охране. Разойдись, – сбивчиво, подвел итог произошедшего действа, плюгавенький мужичок в мятом пиджаке, явно с чужого плеча, надетом на малиновую косоворотку, плотно застегнутую на все имеющиеся у нее пуговицы, в том числе и на самую верхнюю.
– Ну что, делаем правильный выбор, или топаем до любимого жилища, – донеслись, до слуха Петра, слова сказанные Андреем Максимовичем таким тоном, будто бы, произошедшее не произвело на него ни малейшего впечатления. Продолжительный кашель соседа, окончательно вывел Петра из состояния легкого оцепенения, и погружения в суть, только что услышанной речи. Они, лениво медленно поплелись к своему пристанищу. – Ты, Петро, наверное, впервые слушал подобных златоустов. Красиво поет сука, главное, почти не врет, очень подготовленные иуды. Каждый раз, немало народу у колючки остается, я их не очень-то и осуждаю. Не знаю, как бы сам поступил, – неожиданно признался он, – если бы болячка, не помогала, этот самый выбор сделать. Один хрен, подыхать скоро, до больших морозов, вряд ли дотяну. Не хотелось бы, чтоб, сыновья мои узнали, что их папка, полное, говно. Они, почти одновременно остановились. Не обнаружив рядом своих соседей, обернулись. Народ, медленно, в основном по одному, или небольшими группками, растекался по своим насиженным местам. Изредка оглядываясь и приостанавливаясь, ожидая кого-то, либо, поддаваясь возникающему, вдруг, сомнению. Немного постояв, и, убедившись что, толпа у ограждения, хотя и основательно поубавилась, но все же, оставалась достаточно внушительной, Петр, со старшим товарищем по несчастью, отправились восвояси. Они, так и не сумели, как не старались, заприметить своих соседей.
– Я так понимаю, Максимыч, что подобные агитаторы, или пропагандисты, японца в кружку, никак не пойму разницы, частенько здешним постояльцам, мозги промывают. Да надо же сволочь, все по больным мозолям, и прямо в душу. Истину ты сказал, ничего гаденыш, не врал ведь, все вроде на правду похоже, разве что, про генералов набрехал для пущей убедительности. Как думаешь неужели, генералы тоже сдаются, наравне с рядовыми бойцами? – замедляя шаг перед землянкой, спросил Петр, – что-то мне не очень в это верится.
– Про генералов, не знаю, они брат ты мой, еще как натерпелись от власти. Не все конечно, некоторые очень даже нежно обласканы ею. Но, чтобы добровольно сдаваться это, скорее всего, вранье, но очень действенное вранье, – усаживаясь на свое привычное место, согласился с собеседником Андрей Максимыч. А еще, думается, что и по поводу этого самого приказа, двести семьдесят, что ли, тоже не все правда, уж очень активно немчура на него ссылается. Не может Сталин такого сказать, как это так, – нет пленных, есть предатели, – да еще иностранным щелкоперам. Кажется, тут наш учитель прав, каждому, думается мне, раздадут по заслугам, кто чего натворил, за то и получи.
– А, сейчас, он бы с этим согласился, что-то я его рядом с нами не вижу, – съязвил Петр, указав кивком головы в сторону по-прежнему толпящегося у колючки народа. Численность этого самого народца впрочем, заметно уменьшилась, и составляла, насколько это можно было прикинуть с такого расстояния, примерно тридцать или где-то около этого, человек.
– Теперь уже не знаю, чужая душа потемки, хотя он этих агитпропов немало прослушал, может быть, что-то задержало, знакомца, например, какого-нибудь давнего, встретил. А вот тебе, как мне кажется, вся лежанка теперь достанется, спи как барин.
– Да они, наверное, вместе, или там, – и Петр вновь указал в сторону оставшихся у ограждения пленных, которые как раз в этот момент, тоненьким ручейком, потянулись к выходу в коридор, или, как ты говоришь, – с кем-то общаются.
– Возможно, и общаются, но вместе – вряд ли, – возразил Андрей Максимыч, – между ними симпатии с самого начала не наблюдалось, думаю, – Евгений скоро подойдет.
Но, Евгений не подошел. Не подошел не скоро, ни вечером. И только утром, в очереди за едой, какой-то знакомый, поведал Андрею Максимовичу, что наблюдал как, безжизненное тело, бывшего учителя, их общего приятеля, волочили, двое охранников, за территорию сектора. Выяснить какие-либо подробности, кроме того, что, голова Евгения была окровавлена, а его тело было обнаружено на месте вчерашнего сборища, уже после того, как толпа рассеялась, никакой возможности не было. – Вот и улетучились, соседи наши, ответили на вопрос о дальнейшей судьбе, – бормотал себе под нос, Андрей Максимыч, стоя у их осиротевшей норы, и уперев взгляд в землю, после того, как с едой было покончено. – Видно, Женька, что-то слишком остро прокомментировал, по привычке, из сказанного залетным певуном. И это, не очень понравилось, совсем уже, окончательно, определившимся ребяткам. Вот, суки конченые, такого мужика загубили, ублюдки. Давайте, теперь, усердствуйте, фрицевских задниц на всех вас, хватит. Вылизывайте всласть, – продолжал он приглушенно, с хрипотцой, сглатывая ком в горле. Вот тебе и новоселье, Петро, с проводами, – наконец-то, обратил он внимание на присутствие соседа, – такая ерунда получается на постном масле. Про Горбатко-то, я понимал, не выдержит паренек такого напряга, ну, а на Евгения надеялся, думал, что он меня разденет, на прощание. Видно тебе, теперь придется, когда я богу душу отдам. Да ты не тушуйся, – заметив некоторое смущение и удивление соседа, добавил он, – у меня шинелька более твоей будет, так что, ты в ней очень даже хорошо разместишься, может быть, вспомнишь добрым словом, когда в морозы, в кол не замерзнешь, – торопливо, заключил он, и отвернулся, захлебываясь тяжелым кашлем.
Теперь, когда прошли чуть больше десяти дней, Петр лежал на своем привычном месте, одетый в две шинели. Прижимаясь спиной, к спине парня, который перебрался в более добротное, по его мнению, пристанище, вместе с двумя другими горемыками, он вспоминал, этот недавний, но казалось такой далекий, разговор. И эти воспоминания, наравне с наследством Андрея Максимовича, и вправду согревали его. Между тем, стремительное шествие ноября, не сулило ничего хорошего. Природа брала свое, и календарь настаивал на том, что, очень скоро, наступят дни, когда обитатели лагеря, могут, запросто, превратятся в куски льда. Петр это понимал. Но, он понимал, а вернее чувствовал, и нечто другое. В лагере происходили какие-то, не понятно с чем связанные, перемены. И он пытался разобраться, что к чему. Количество пленных, – размышлял он, – не только не увеличилось, с того момента, как он попал сюда, но доже несколько уменьшилось. Что же это может значить? Многие умерли, да. Многие, устроились у немцев – тоже, правда. Но, это все убыль, а где же, массовая прибыль? Тьфу ты, японца в кружку, сказанул тоже, – прибыль. И все же, пленных на много меньше стало, свежих, поступать. А это значит; либо наши уперлись, и немец остановился, либо, тележка покатилась вспять, и немцы отступают. Какие, уж тут пленные, как бы самим не попасть к Красной армии на содержание. Так или иначе, но лагерь понемногу становится меньше населенным, хотя от этого, особенно с учетом похолодания не становится легче. Еще одно изменение, которое произошло дней, пять тому назад. Еды, стали давать заметно больше. И теперь, как подметил один из новых обитателей землянки, – весь день думаешь о холоде, а к вечеру о еде, – а раньше, даже в холод – только о еде. Да, голод и холод, это то, что, главным образом, убивало и ломало людей. Баня, да пироги, два самых навязчивых бреда, в которые ты попадаешь, помимо своего желания, почти сразу, после того, как только сумеешь, усилием воли, если хватит сил, выбраться из этого изматывающего состояния. И так продолжается целый день, лишь к ночи, усталость дает о себе знать, но все равно, даже в полудреме или во сне, ты полностью не расстаешься с этим сладким бредом. Но, все-таки, паек стал больше, а по какой причине? Контингент, ужался, это понятно. Но, кажется, тут есть еще какая-то, главная причина. Что это не милосердие, абсолютно точно. Видимо, немцам стало не выгодно гробить нас пачками. Не уж-то, мы им для чего-то понадобились живыми? Так те которые им нужны, уже с ними. На кой хрен им еще и доходяги, упертые? От непонимания ситуации, от холода и голода, от щемящей тоски, что с родни тоске, загнанного в угол зверя, от звенящего одиночества, Петр заплакал. Он плакал, как когда-то, шестилетним мальчишкой, увидев, предсмертные мучения цыпленка, покалеченного соседским псом. Но тогда, его смогла пожалеть и успокоить, мама, тем, что, вместе с ним, устроила погибшей птахе, подобающие случаю похороны, в одном из уголков огорода. Кто теперь, утешит его?
Между тем, перемены, в судьбах военнопленных, действительно начали происходить. Связано это было с провалом немецкого плана «молниеносной войны». Война затягивалась, и содержать у себя в тылу, огромную армию противника, даже и плененной, становилось, не только накладно, но и опасно. К тому же, затяжная война, требовала все больше материальных и людских ресурсов, которые стремительно истощались. В такой ситуации, нацистская верхушка не могла не воспользоваться, имевшимся в ее распоряжении, огромным потенциалом бесплатной рабочей силы. Промышленность в германии, ждала трудоспособных пленных взамен, рабочих молодого возраста, которые ранее были освобождены от призыва, а теперь, конечно же, понадобились вермахту, особенно на востоке. Во все лагеря были разосланы директивы, предписывающие, начать отбор и подготовку кандидатов, для отправки в Германию. Первым делом, были немного увеличены нормы питания. Через неделю, в лагере начался отбор, кандидатов подходящих, по состоянию здоровья, для отправки. Процедура отбора была предельно простой. Пленного заставляли пять раз присесть, с вытянутыми вперед руками, оголиться по пояс, и наконец, продемонстрировать состояние зубов. Прошедшие отбор, коих, было не более половины, сразу же, переводились в отдельный сектор. На них оформлялись какие-то документы. Затем, по мере подачи и формирования поездов, их кормили, вручали сверток с пайком на четыре дня, и грузили в вагоны, крытые или вовсе без крыши, кому какой выпадет.
Петру, как ему тогда казалось, несказанно повезло. В тот день, когда его, среди других, выживших пленных, доставили на территорию лагеря, затерянного где-то в центре Германии, стояла ясная теплая погода, напоминавшая сибирское бабье лето. Но это было первое, обманчивое впечатление. Днем позже, заявила о себе ветреная, пасмурная, влажная, немецкая зима. Температура колебалась где-то, около нуля, от, минус одного до, плюс трех градусов, и это было по-немецки; нудно и стабильно. С трудом выбравшиеся из грузовых вагонов, служивших их бессменным пристанищем не менее двух недель, арестанты растерянно толпились тут же у вагонов, озираясь по сторонам, с тревогой ожидая дальнейшей участи. Толпа представляла собой жалкое зрелище. В основном молодые парни, восемнадцати тридцати лет, выглядели измученными исхудавшими, дряхлыми стариками, много чего повидавшими на своем веку. По количеству надетого на каждого из них тряпья, опытный глаз мог легко определить, сколько пассажиров было набито в вагоны в самом начале пути. Бушлаты, шинели, телогрейки и даже полушубки, были натянуты на изможденные тела, в произвольном порядке, в два, а то и в три слоя. И теперь, все это распахнутое настежь, гардеробное разнообразие, воспринималось многими, в том числе и Петром, как демонстрация благодарности, тем, кто не выжил, еще в сборном лагере или в поездке, но своим теплом согрел уцелевших товарищей, по несчастью. А они, эти «везунчики», пережив лютые русские, морозы, как будто попадали в ласковую весну. Но это была не весна, это такая зима, немецкая зима.
– Петро, – прервал мрачные раздумья, до боли знакомый, кажущийся очень родным, как будто мальчишеский голос, донесшийся вроде бы, слева из толпы, – живой, черт носатый.
– Никита…, Лунок, – изумленно, почти взвизгнул Петр, не мешкая, заключив в объятья, не весть, откуда взявшегося односельчанина. – Не может быть, да ты посмотри, какой красавец. Как я рад тебя тут …, фу ты, японца в кружку. Дурэнь же я несусветный, прости, идиота, нашел, тоже мне повод, чему уж здесь радоваться-то.
– Да ладно тебе, я сам готов выдать, чего попало, – сделав рот до ушей, выпалил Никита. – Вдвоем-то, в любом случае хоть как веселей, ну да обхохочешься тут, ядрена вошь. Ну, ты тоже, как я погляжу, метить тать, красавец, хоть куда. Первый парень на деревне, только, надо же, вовсе, без гармошки, а так хорош.
– Так, а ты что, тоже с этой партией прибыл, или как? Могли бы, и увидеться, столько дней, коченея, болтались по железке. Так бы копыта откинули, и лежали бы где-нибудь на обочине рядышком, и вовсе не ведая, что хладный дружище рядом.
– Да уж, вполне могло и так статься, а встретится, не знаю, судя по расположению твоего вагона, вас прицепили к поезду через две остановки, после нашей погрузки, – как-то неожиданно смутился Никита, – ну теперь держимся вместе. Да, слушай, у тебя сухарика, какого-нибудь, не завалялось, не осталось. Петр машинально сунул правую руку в укромное место под шинелью, где когда-то хранились остатки хлебных крошек. Так он делал уже не в первый раз, и не в первый раз, его пальцы не могли обнаружить ничего, даже если он предельно тщательно обследовал все потайные уголки и складки кармана. Он помнил, что три репы, пять картофелин, и буханка черного хлеба, то есть то, что составляло его дорожный рацион, закончились никак не позднее, чем двое суток назад. Но рука не понимала этого, и периодически ныряла под складки одежды, на мгновение, возбуждая искру надежды, которая тут же гасла, приводя к всплеску отчаяния. Петр виновато взглянул на земляка. Увиденное, поразило его. Никита так смачно что-то пережевывал, что захотелось двинуть в его бессовестную челюсть. Но Петр сообразил, что это имитация еды, к которой прибегал и он, чтобы погасить приступ голода. Однако довольно быстро сообразил, что, подобный суррогат, лишь дополнительно истощает, а в результате, имеет обратное действие. В голове помутилось, колени задрожали, руки обвисли как плети, перед глазами возникла сплошная темная пелена, простреливаемая изломанными молниями. Наступило какое-то полуобморочное состояние, боковое зрение исчезло, силуэты расплывались, он едва ощущал реальность, и практически ничего не соображал. Он слышал какие-то выкрики и собачий лай, его несколько раз грубо толкали, кто-то его поддерживал и что-то бормотал. Плелся вместе с толпой, неизвестно куда и зачем, едва переставляя ноги, и казалось, что это продолжается, целую вечность. Затем, наступил момент, когда пелена перед ним окончательно сгустилась, и его поглотила абсолютная, и непроглядная темнота. Наверное, так наступает смерть.
Нет, это был голодный обморок, из которого он вышел, как ему показалось, очень быстро, а на самом деле, пробыл без сознания не менее пяти часов. Он ощутил себя немного бодрее, как это обычно бывает, после короткого сна. Не потому, что выспался, он бы проспал и сутки, но его сон кто-то растревожил. Немного кружилась голова, и слегка подрагивали руки. Но это в последнее время, постоянно сопутствовало его обычному состоянию. Когда, с трудом разлепив веки, огляделся, стало ясно, – он лежит на втором ярусе нар, а над ним, в полуметре, нависает еще один ярус. Сразу подумалось, – если третий ярус не самый верхний, это не очень-то удивит, уж слишком рачительные хозяева немцы, чтобы не сотворить такую гадость. Рядом, кто-то засуетился и громко прокряхтел, выражая, тем самым, нескрываемую радость.
– Петро, очнулся, наконец, ну ты меня напугал, – причитал Никита, – думал все, не жилец уже вовсе. Хорошо еще ребятки помогли сюда, на нары затащить, иначе песец бы тебе, пристрелили бы немцы, за милую душу. Тут, я со старостой договорился, пожрать, тебе чуток оставил. Здесь завтрак, обед, да, и ужин. Обещали, – еще будет, – порадовал он, подавая миску, как он сказал, наполненную сдобренным овсяным супом. Содержимое миски в мгновение ока, очутилась в желудке Петра, вызвав, вначале, сладостную тошноту, тут же, перешедшую в очень острую боль, которая длилась несколько минут, а затем, как-то незаметно, прошла. Петр вопросительно посмотрел на соседа, односельчанина. Тот, поняв суть безмолвного вопроса, ответил, – тут и завтрак, и обед, все вместе. Через мгновение добавил, – на тебя, ведь, посуды не напасешься. Да ладно, скоро ужин, потерпим, самого колотит от голода.
– А куда мы, вообще-то попали, твой староста, ничего такого не сказал? – имея большое желание, убить время до ужина, завел разговор Петр, – что за «санаторий» такой, и чем тут народ лечат.
– Как же, все рассказал. Это, как можно было понять с самого начала, трудовой лагерь. Иначе, для какого хрена, они нас сюда привезли? А порядки здешние, такие. В пять часов подъем, после завтрака, а это кружка жижи, называемая, почему-то, кофе – на рудник, тачанки с камнями катать. Там же, на месте, обед. Давали миску крупяного супа, с куском «русского хлеба», вот, метить тать, придумали. На ужин, опять же, этот самый кофе, да кусок хлеба. Это в восемь вечера, а там, спи, сколько влезет. Да, после завтрака и перед отбоем, – построение, на перекличку и для прослушивания важной информации. Завтра, например, с утра, нас регистрировать будут, и нумеровать. Вот так, и будешь ты – не Петр Стриж, а, например – номер тридцать пять тридцать семь. А, я – тридцать пять тридцать восемь, а не, Никита Иванович Лунок, – нарисовал Никита, красочную перспективу, их ближайшего будущего.
– С такими разносолами, мы им «много», этих тележек накатаем, – отозвался на новости Петр, – как бы самим, до смерти, не укататься.
– Это да, харчи жиденькие, не борщ с бараниной, на таком и лежа в тепле, долго не протянешь, думать надо, иначе кранты. – Ну, ты мыслитель еще тот, тебе тут что, колхоз «Десять лет без урожая» или артель «За индустрию»? Думать он будет…, пинка под зад, в лучшем случае, и все думки псу под хвост. Станешь, как лошадь загнанная, тачанку гонять, пока не околеешь, – распалялся Петр, а сам подумал, – этот Никита в прежней жизни, всегда мог неплохо устроиться, но, чтобы здесь, а чем черт не шутит.
Потянулись однообразные, нескончаемые, каторжные дни, безжалостно отбирающие силы у обитателей лагеря. Сочетание скудного рациона питания и непосильного труда на руднике по тринадцать часов, не могло не отражаться на состоянии пленных. По утрам, бывало, то один, а то и несколько человек из барака, оказывались мертвыми, или, не находили в себе сил, чтобы подняться. Таких несчастных, стаскивала с нар охрана, и они больше не возвращались. Мертвых же, по заведенному порядку, обязаны были выносить из барака их соседи. Иногда, перед утренним построением, тут же, неподалеку, рядком укладывалось до десятка тел. Не лучше обстояло дело на руднике. Стоило, какому-нибудь горемыке, приостановиться, чтобы слегка отдышаться, как он тут же слышал грозный окрик, в лучшем случае, или же получал удар стволом винтовки, а иногда и плеткой, если ему не везло, когда охрана была рядом. В таких случаях пленный, как правило, погибал. Если после удара падал на землю, и у него не хватало сил сразу же встать, его тут же убивали. Некоторые, окончательно отчаявшиеся храбрецы, дабы прекратить мучения, пытались имитировать побег, успешный побег был не возможен, и это все понимали. Выловив, незадачливых беглецов с помощью овчарок, их показательно избивали, и только после этого пристреливали. Другие арестанты, заканчивали свои жизни, набрасываясь на ненавистных охранников, почти мгновенно получая, такую желаемую и выстраданную пулю.
– Вот сейчас отмучается бедняга, – подумалось Петру, когда увидел, как впереди него, метрах в двадцати, пленный, отбросив тачанку в сторону, и выхватив из нее, довольно увесистый булыжник, метнулся в сторону проходящего мимо охранника. Прозвучало несколько выстрелов. Но прежде чем упасть, нападавший успел запустить камень, и попасть в голову замешкавшемуся охраннику. Тот, слегка присел, попятился назад, и, оступившись, опрокинулся навзничь. К нему уже спешили еще двое, неизвестно где отыскавшие на это силы, арестантов. Петр отбросил тачанку, мгновенно решив, – вот он, случай, – но, потеряв равновесие, впопыхах не поняв от чего, упал на камни.
– Лежи придурок, – шепотом, орал на него, Никита, только что, едва волочившийся следом, – убьют же, за не понюшку табака.
– Да японца в кружку, нахрена ты подлез, – почти рычал Петр, – ну шлепнули бы, и все, понимаешь, все; свобода, равенство и братство, и вечный покой, – хрипел он сквозь слезы. Но, за плотной канонадой, винтовочных выстрелов, автоматных и пулеметных очередей, никто его крика не слышал, даже он сам. – Вставай трус, баба худая, урод в жупе голова, – ругал он себя, самыми грязными словами, содрогаясь всем телом. – Встань, дерьмо на палочке, тряпка помойная, встань, это же так просто, одно движение и тишина. Но встать, не было сил, да и где их взять, когда, вдруг, стало так страшно умирать. Нет, не боли он боялся, той, что обязательно присутствует, при неестественном уходе из жизни. Ее-то, боли, он натерпелся изрядно, к тому же, она продлится всего лишь мгновение. Она, едва ли перевесит, весь ужас и страдания, пережитые им, – старался убедить Петра, какой-то другой Петр, все чаще в последнее время, возникавший в нем, и советующий, а иногда и требующий, поступать так, как он сам, не хотел бы. Он не понимал, для чего, и как, но ему, просто до отчаяния захотелось жить. Он ненавидел себя за это. Еще больше, ненавидел, спасшего его, только что, Никиту, – пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву, – вспомнилось, как будто бы и не к месту, много раз слышанное от матери. Учетчик, расчетчик, затрепанный, – продолжалось перекладывание вины, на товарища. – За свою жизнь отвечай, не хрен лезть, куда тебя не просят. Вон сколько счастливчиков, освободилось – пробурчал он. Пристраиваясь к тачанке после команды, «работать», добавил, – а ты, умник обделанный, тяни – таскай, пока не околеешь. Вот так-то, чучело, – завершил он, свой гневный выпад, обращая слова, то ли себе, то ли Никите. Как будто выговорив все, что возможно, надолго замолчал.
Вечером, после переклички, Никита, некоторое время, не появлялся. Это, случалось с ним и раньше, поэтому не удивило Петра, и тот, в отсутствие соседа вспомнил несколько эпизодов которые им вместе пришлось пережить, в той, мирной жизни. Вспомнилось, как передовик районного масштаба, учетчик из их родного колхоза, комсомолец Никита Лунок, ласково называемый друзьями Луня, произносил пламенную речь, на слете этих самых передовиков. Ему поручили это важное задание, не просто так, не за красивые глаза, а потому, что он заслуживал, тем, что умел это делать. Он научился говорить зажигательные речи в те времена, когда, будучи ярым сторонником коллективного труда, призывал своих односельчан, а после и жителей других сел в районе, отбросить сомнения, и смело вступать в колхозные ряды. А уж для того, памятного слета, посвященного, встрече со знаменитым летчиком, выходцем из их мест, героем, более подходящего оратора, было не отыскать. Правда, из того, что говорил Луня, Петр, как не старался, ничего вспомнить не смог. Но зато, помнил слова, сказанные летчиком на прощанье; – я, благодарю вас дорогие земляки, за теплую встречу, которую не забуду никогда, особенно пожелания молодого колхозника, о том, чтобы, наши летчики были самыми умелыми, а аэропланы, самыми лучшими в мире. Уверяю вас – наши, советские летчики, лучшие в мире асы, а аэропланы, летающие в Америку через северный полюс, можно смело называть, лучшими в мире, самолетами, – закончил он, под бурные аплодисменты и оживленный смех.
– Не спишь? – прервал воспоминания, плавно перешедшие в дремоту, незаметно возникший, рядышком на нарах, Никита.
– Да сплю уже, какого черта разгуливаешь где попало, будто за день не набегался? Откуда силы, не устал видно, – недовольно отозвался Петр, сквозь протяжную зевоту. – Утром за ноги стаскивать ребятки с плетками, сонных нас с тобой, будут.
– Обязательно будут если копыта не откинем, а к этому все идет, да ты потерпи чуток, выспишься, не так уж еще и поздно, послушай, – очень тихо почти вплотную к уху, шептал Луня.
– Ну что ты пристал, до утра потерпеть нельзя? «Мочи нет, как спать хочется, – недовольно, тоже шепотом, с сонной хрипотцой, произнес Петр», – говори быстро, не тяни уже кота за хвост.
– Тут, братишка, очень быстро не получится, я тебе сейчас все скажу, а ты крепко подумаю. Спорить ведь не будешь, надо как-то выживать пока еще не преставились… – Согласен?
– Ну, – прервал, затянувшееся вступительное слово, Петр, – излагай, что ты мямлишь.
Никита, оглядевшись и поняв, что ближайшие соседи беспробудно спят, продолжил, – сегодня пронесло, пулю в башку не получили, а завтра, послезавтра, окочуримся, к батюшке не ходи. – Дело только времени, не от пули, так с голодухи, или от заразы какой, а хуже того псы загрызут ненароком.
– Японца в кружку, – выругался Петр, – что ты воду в ступе толчешь, я, что ли, этого не знаю, развел тут партактив.
– Все, только ты терпения наберись, дослушай и не перебивай. Думаешь, где я был? Я со старостой барака разговаривал, не плохой, кстати, мужик оказался. Так вот, он рассказал, – что, если мы захотим, то он может нас на хозяйственные работы, по лагерю, устроить. Сказал, – чтобы не тянули, а то претендентов, на такие места, всегда предостаточно, и если решим, то утром, перед перекличкой, он отведет нас, куда следует.
– Что-то, я в толк никак не возьму; все работы, и так пленные из бараков делают, не очень-то в глаза бросается, чтобы им слаще, чем нам жилось. Сами, ведь, трупы с нар снимали не раз, да и котлы с баландой тоже таскали. Какие тут у них проблемы, кого сграбастали, тот и пошел, или, я что-то не понимаю? – пожал плечами Петр.
– Да все ты понимаешь, эти работы, кто-то организовывать должен, иначе неразбериха и бардак будет, а простому арестанту, в итоге, только хуже, ну это как всегда и везде было.
– А мы значит, с тобой на пару, все так организуем, что, нашему барачному обитателю, баланда борщом, со сметаной покажется, а нары – периной, со гладкой бабенкой. Совсем, ты меня запутал. На кой хрен, мы им сдались, если, я так понимаю, нас еще и кормить поить, как хрюшек на убой будут, иначе, нам с тобой, за каким бесом, огород городить. Так что, Луня, не крути хвостом, как радостный Бобик, предлагаешь ты, не какой-то хитроумный план, а просто, пойти на службу к немцам, заделавшись в капы. А что, правильное решение, другой возможности выжить, здесь, в лагере нет, и большинство надзирателей, да старост, только по этой причине, становятся капо, не от любви же, безмерной, к немецким порядкам.
– Конечно, – как будто, с некоторым облегчением, вздохнул Никита. – Капо, тоже разные бывают, некоторые, очень даже часто, народу жизнь облегчают, мне наш староста об этом, кое-что, поведал.
– Ты сам, будто и не видишь этого, как староста нас от немецкой пули спасает, то в рыло заедет, то плеткой обласкает, а иногда, совсем нежно, облает как цепной пес, давно бы мы без него на том свете обосновались. Так, друг Никита? – спросил, полностью взбодрившийся ото сна, возбужденный Петр.
– На сто процентов, а ты, чувствуется мне, будто сомневаешься. Я согласен, да, не красиво, со стороны выглядит как предательство, в иной ситуации, и я бы так думал. Но, подыхать, неизвестно за что, и без всякой пользы, разве это лучше. Все равно, у Красной армии кишка тонка, такую махину остановить, только миллионы, нашего брата, погибнут зазря. В конце концов, немец победит, а мы трупики, вот красота, кому от этого, какая радость? – как будто, самого себя спросил Никита.
– Луня, ты какого хрена сюда, в саму Германию прискакал? – оборвал, его логические выкладки, Петр. – Мог, ведь, по дороге, нечаянно, преставиться. Там в России, на Родине, все бы и решил. Уже глядишь, и сытый и одетый и в тепле был, да возможно, и у немцев, каким-нибудь учетчиком бы стал. Или ты, там, в пересыльном лагере, в чем-то еще сомневался.
– Да не в чем я не сомневался, некогда было. В плен попал, три дня в лагере, и в вагон, вот и все сомнения. А ты, скажи мне, чего тут забыл? Мог бы, как мне советовал, тоже пораньше все решить, ну если как герой хотел. Охранников сплошь да рядышком полно бродит, взял бы, да и кокнул, и все дела, давно бы отмучился. Так нет же, видно тоже жить хочется.
– Хочется, – признался Петр, – еще как, хочется, только вот, не очень-то получается. Как не крути, всюду клин. Если, в чем ты уверен, немцы победят, то кто мы у них будем? Рабы бессловесные, на самых грязных работах, «руссише швайне», скот и быдло, и не как иначе. А, если вдруг, надломится фриц, и не хватит у него силенки, тогда что? Коли, наши верх возьмут, тогда, нам с тобой, столб позорный; пуля в лоб, либо лагерь в любимой стране, и клеймо иуды, на всю жизнь. Вот и выбирай, что слаще. Но наши войска, мне кажется, пока что, не добиты, и думаю, немцы нас сюда вряд ли бы перебрасывали, если бы война двигалось к завершению. Но, конечно, если на счастье, события обернутся вспять, то, и в таком случае, это нам вряд ли поможет. В теперешних условиях, много не протянешь, может месяц, а может быть и завтра конец, какого черта, ты меня сегодня остановил. Так что, выбирай, хочешь, не хочешь, – закончил он срывающимся, дрожащим голосом.
– Да, – пробормотал, озадаченно, Никита. – Темный лес, тайга густая, давай спать, а то вставать уже скоро, – добавил он, отворачиваясь на бок.
Это были последние слова, услышанные Петром из уст его земляка, активного сторонника колхозного строя, передовика производства, Никиты Лунка, которого в их селе, почти все, называли просто, Луня. Когда утром, проснувшись от хлесткого щелчка плетки, обжегшего правую щеку, он не увидел соседа рядом, ему стало все ясно, – ушел. Пару раз Петру довелось увидеть его издали, когда тот, сопровождал по нескольку пленных, перетаскивающих какие-то тяжести. Но ни разу, их взгляды не встретились, да и не могли встретиться, потому что, Луня упрямо смотрел под ноги сопровождаемых им несчастных арестантов. Петр, конечно же, презирал его, точно так, как и другие пленные не жаловали, всех без исключения, пристроившихся различными помощниками к немцам. Неизвестно, откуда взялось, это не ласковое и пренебрежительно позорное «капо», но это прозвище, которым называли, обитатели лагеря, а порой и сами немцы, всех лагерных пособников, казалось, очень кстати подходило к ним. По словам некоторых пленных, которые по каким-то причинам, были знакомы с порядками в советских лагерях, эти самые капо, практически не отличались от тамошних активистов. Они, жили в тех же бараках, вместе с другими пленными, но были освобождены от тяжелых работ, лишь следили за порядком, иногда вмешиваясь сами, а иногда донося на нарушителей охране. Конечно, хозяева, их за исправную службу, подкармливали, но чаще они сами устраивали себе усиленное питание за счет других пленных. Те, ненавидя капов, тем не менее, считали, – что без них, было бы еще хуже, что лучше плетка, чем пуля в затылок, – а очень многие, им завидовали, и были не прочь занять их место. Петр, тоже завидовал Луне. Руки бы он ему, при случае, конечно, не подал, но все же завидовал. Нет, он завидовал; не тому положению, которое тот занял, не тому, что у того больше шансов выжить, это понятно. Он рассуждал, – ну вот, этот учетчик-расчетчик, как всегда, смог устроиться. Дрань еще та конечно, но ведь решил-сделал, а ты все жвачку жуешь как корова яловая, все болтаешься как кизяк в проруби, и так тебе не хорошо, и так плохо, эх жизнь, – содрогнулся он, в беззвучном плаче.
Между тем, заканчивался январь сорок второго года, и лагерников, по какой-то причине, перестали ежедневно выгонять на работы. Вначале, были перерывы в один – два дня, а вот уже целую неделю, как очень остроумно подметил один из соседей по нарам, – контингент, страдал от безделья. На самом деле, эта приостановка, вызванная, по словам старосты барака, какой-то крупной аварией на горно-обогатительном комбинате, очень многим спасла жизни. Во всяком случае, Петр, о себе знал точно, – это еще одно чудесное спасение. Несколько дней назад, он едва волочил ноги, почти ничего не соображал, по утрам просыпался и сползал с нар, как и большинство обитателей барака, только после побоев. А вечером, чудом уцелев, мгновенно проглотив скудный паек, замертво проваливался в сон. Все чувства притупились, человек постепенно превращался в животное, а затем, в совсем уже бесчувственную машину. Машина работала на пределе возможностей. Казалось, что она вот, вот, заглохнет. Заклинит, закипит, остановится, рассыплется, превратится в прах. Теперь же, почти не замечалась враждебность среды, которая по-прежнему, ежесекундно, окружала измученных до предела доходяг. Легче переносились, ежечасные построения, и беспричинные ночные побудки. Грубые, унизительные окрики, часто заканчивающиеся избиениями, стали казаться пустяковыми, дежурными наказаниями. Но, наконец, все пленники, за исключением тех, в ком не осталось ни капли сил, ощутили себя отдыхающими, какого-нибудь заштатного санатория. Природа брала свое. Организм, используя передышку, мобилизовался. Он исправно залечивал многочисленные болячки, и создавал некоторый запас сил, будто бы предчувствуя, скорый приход новых потрясений. Петр, чувствовал себя уже достаточно сносно. Но, когда услышал, сразу же привлекший его внимание, оживленный все нарастающий шум голосов, доносящихся из противоположного угла барака, мгновенно, вновь почувствовал себя обессиленным и покалеченным. – Все, лафа закончилась, – подумалось ему, – видно, опять впрягаться, о чем еще, можно так бурно шушукаться. Но вглядевшись в то, как реагируют, на содержание разговора, обитатели нар, он стал понимать, что, новость, залетевшая к ним неизвестно откуда, вызывает у людей обратные, ожидаемым им, эмоции. Весточка приближалась, переходя из уст в уста. Наконец, до его слуха донеслось, – под Москвой, говорят, в пух и прах, разнесли фрицев, вроде бегут, только пятки сверкают, и убиенными валяются, сотни тысяч.
– Да не уж-то, дождались? – отозвался Петр, сквозь пробивающуюся слезу радости, когда сосед повторил ему, только что услышанное. – Хрен вам в грызло, а не Москву, чувствовали ироды, что русский не лягушатник какой-нибудь, по сусалам еще как, накидать может. Вот и пригнали нас с тобой, землячок, подальше от нашей землицы, от греха подальше, на них горбатиться.
– Может быть и ладно, что пригнали, там-то у нас и вовсе шансов не было, а здесь, глядишь, да и выдержим как-нибудь, только бы наши, и вправду проперли бы их в задницу…
– То-то, я погляжу, какой ты выдюживший, да и я не лучше, – перебил соседа Петр, – завтра, тачку в руки и вперед, заново гробиться. Меня от одной мысли об этом, трясти начинает, но как-то терпеть надо…
– Всем заткнуться, – в свою очередь, перебил его рассуждения, свирепый рык старосты, сопровождаемый свистом плети, – или я вам глотки быстро заткну, в один миг. Разорались тут, недоумки долбанные, хана краснозадым вашим, не сегодня – завтра. Нехер сплетни, ихние, слушать. Всем, все понятно? Или вопросы, какие возникли? Так я, по быстренькому объясню, а кому не понятно будет, так немцы, еще быстрее в чувство приведут. Все, тишина, – закончил он.
– Кажется, не сплетня это была, – рассуждал Петр, в мертвой тишине, – нет, не сплетня, уж очень непривычно яростно, изводил себя в бешеном крике, староста. Почувствовал, сука, запах жареного, воротник туговат, становится, предвкушает веревку на шее, а петля затянется, рано или поздно, обязательно должна затянуться.
Беда, одна не приходит, – всем известный факт. – Пришла беда, отворяй ворота, – часто повторяем мы банальную фразу, именно тогда, когда напасти следуют одна за другой, порой, независимо друг от дружки, а, зачастую, не имея причинно-следственной связи. Наверняка, и у других народов есть, возможно, в другой форме выраженные, наблюдения этой закономерности. А, о нас и говорить нечего. Приученные, многолетним опытом, великих перемен, когда неприятности посещали нас, с регулярным постоянством, мы и не сомневаемся, порой напрасно, что беда пришла – жди беду следующую. Совсем наоборот мы относимся к приятным событиям. Тот же опыт нам подсказывает, – не радуйся очень – спугнешь. Не напрасно, в нашей речи твердо закрепилось словосочетание «нечаянная радость», то есть; незаслуженная, совершенно случайная, без всякой на то причины, свалившаяся нам на голову. Вряд ли, найдется какой-нибудь, наивный русский, у которого, ненароком, промелькнет мысль, – а вдруг, радость пришла, а следом еще и еще. Тем более, глупо надеяться на серию приятных новостей, которые могут вызвать радостные чувства, у людей, находящихся в жутких условиях вражеского плена, на грани выживания. По этой причине, новость, об успехах Красной армии, притом, возникшая в такой подходящий момент, воспринималась, большинством обитателей лагеря, с нескрываемым восторгом, как чудо. Но все понимали, что их реакция на новость слишком бурная, и не может остаться незамеченной лагерным начальством. Понимали и то, что, совсем скоро, неминуемо последует наказание, и за фиаско немецких войск под Москвой. Но особенно за то, что, об этом стало известно, самым обездоленным и бесправным, но все же советским людям, которые, и в этом аду, в большинстве своем, остаются преданными своей измученной Родине. И когда, на следующие утро, малорослый молодец, среднеазиатского обличья, сиплым голосом стал выкликать по номерам пленных, которые должны будут остаться на месте, после построения, Петр подумал, – вот он, ответный ход. Не стали фрицы откладывать в долгий ящик, это вам не русский Ваня, что долго собирается отомстить, пока совсем не забудет. Он обреченно ждал, когда произнесут его номер, приготовившись к худшему. Прозвучала команда, – остальным разойтись по своим местам. Толпа «счастливчиков», в одно мгновение, увлекла его за собой в душный, но казалось, спасительный, на четверть опустевший, барак. В тревожной тишине, слышно было, как колотится растревоженное сердце. – Спаси меня Господи, – неожиданно прозвучало в нем, однажды под бешеным обстрелом, сказанное одним из его однополчан, совсем еще мальчишкой. Он помнил, что тот, видимо усмотрев во взгляде Петра нечто, вроде изумления, тут же добавил, – в окопах не бывает атеистов.
– Семьдесят восемь, двадцать три, – разорвал тишину истошный вопль, вломившегося в барак старосты, сопровождаемого, двумя дюжими надзирателями, – ты что, баран, оглох совсем или хитро-мудрый такой, из строя свалил, думал, авось забудут о тебе?
– Да не расслышал я видно, когда меня выкликали, – причитал несчастный, совсем щуплый, изможденный мужичок, прикрывая голову обеими руками, что никоим образом, не спасало его от многочисленных тумаков.
– Давай, мухой в строй, покупатель ждать не будет, у них такого мусора, вагон, и маленькая тележка, – продолжал орать староста, – бегом, еще спасибо скажешь, если не расстреляют. – Ну, а вы, что шары выпучили, интересно стало? – Не волнуйтесь сверх меры, не сегодня, завтра, и ваша учесть решена будет, – завершил он более сдержанно, закрывая дверь барака за собой, предварительно, пропустив пленного, сопровождаемого надзирателями. Взбудораженный, уже который раз к ряду, заметно поредевший, контингент, вновь, но теперь уже ненадолго, погрузился в ту же, господствовавшую над ним, еще некоторое время назад, тишину. Всех, кто способен был еще, хотя бы слегка, соображать, интересовало, – что же может означать, в данной ситуации, простое слово, «покупатель». А главное, чего ждать, от этого самого «покупателя»? Барак, медленно, но верно, наполнялся приглушенным шепотом. На нарах, в разных углах, высказывались и обсуждались различные варианты. Смысл большинства мнений сводился к тому, что покупать собираются их родимых, только непонятно, за деньги, или что называется, фигурально выражаясь, чтобы больнее, ударить. То есть, торговать будут как вещью, как скотом, или как рабами на невольничьем рынке, кому как больше нравится, тот так и понимай. Промелькнула еще одна, не пустяшная мысль, – жить будем, во всяком случае, пока, ибо, глупо приобрести раба, чтобы тут же его и загубить. Все эти догадки, спустя всего час, подтвердил один из двоих, вернувшихся на свое привычное место, пленных:
– Подбирали работников на какой-то химический комбинат, ну и пятерых забраковали, у нас профессии другие есть, – сказал он, кивая в сторону лежащего неподалеку от него, напарника по возвращению, – а троих по здоровью отфильтровали, те доходяги совсем, уж и не знаю, куда-то их сразу же, всех скопом, и отвели.
Мысль о предстоящей продаже в рабство, несколько покоробила Петра. Но он здраво рассудил, – насколько я разбираюсь, рабство это; лишение права, быть нормальным человеком, иметь такую же свободу, как хозяин. Это; подневольный, каторжный труд, от зари до зари, на благо хозяина, это; ограничение передвижения, куда бы тебе ни захотелось, и общения с кем захочется. Если у тебя, это все было, и вдруг, ты лишаешься всего этого то, наверное, стоит переживать об утраченном благе. Но плен, мало чем отличается от рабства, разве что, более почетным способам попадания в неволю, но тут, как говорится, возможны варианты. А, что значит, сама смена статуса? По сути ничего не меняется, в твоем, по-прежнему незавидном, существовании, и как обычно, все дело в мелочах, куда попадешь, к кому попадешь, повезет, не повезет.
Вдоль строя пленных, выставленных на показ после переклички, деловито прохаживались, важного вида господа. Они, поочередно отделялись от группы, стоящей неподалеку, и, в сопровождении офицера из комендатуры, а, так же, надзирателя, изображая знатоков торговли, весьма придирчиво выбирали покупки. Их внешний вид, явно указывал на то, что, происхождения, все они, были неаристократического. Обветренные лица, натруженные руки, манера держать себя, и даже походка, все говорило Петру о том, что перед ним, обычные крестьяне, причем, даже в большей степени, приросшие к земле, чем он сам. Тем нелепее выглядели они, окутанные ореолом значимости, переполняемые, беспредельной гордостью, за «великую отчизну». Наконец-то, держава, выполнив свое обещание, делает их всех, господами. А как же, еще вчера, они; гнули свои спины на пашнях, полях, выращивая зерно и заготавливая корм скоту, ухаживали за многочисленным поголовьем свиней, топая по их испражнениям, дабы вырастить, для себя и настоящих господ, хрюшек на аппетитные сосиски к пиву. Теперь – они все, ровней некуда, единая нация господ, призванная повелевать, а работать на них будут покоренные народы.
– Ну и как нам не лопнуть от гордости и самолюбования, – читал Петр на самодовольных физиономиях покупателей, пока стоял в ожидании решения собственной участи. – Вот этот, кажется, должен забрать меня, – подумал он, в тот момент, когда старик, лет пятидесяти пяти, сноровисто и довольно тщательно ощупывал его почти высохшие мышцы на руках, молча сопровождая процедуру недовольной миной.
– Гут, гут, – повторил Петр про себя, слова немца, произнесенные тем, в момент, когда в покупательском азарте, он с нескрываемым почти счастливым, удивлением любовался отменными зубами Петра. – Позавидуй, хряк беззубый, у тебя видно никогда, такой красоты не наблюдалось.
– Гут, – еще раз, довольно прожевал покупатель, слегка встряхивая Петра за оба плеча, сопровождая это подобием улыбки, такой, с которой часто, хозяева похлопывают любимых лошадей по загривку, – гут.
Так Петра, на пару с совсем еще молодым парнем, лет двадцати, двадцати двух, по имени Игорь Бернов, приобрел, потертого вида, крестьянин, Пауль Шваб. Приобрел, наверняка за бесценок, что можно было понять по его довольной физиономии после возвращения из конторки. Он был весьма доволен. А Петр, глядя на своего нового товарища по несчастью, думал, – вот Игорек, не известно нам с тобой, двум доходягам, с чего этот старый хрен, такой довольный. – Толи работников в нас увидал исправных, а возможно рад тому, что беречь этих самых работников, коих дают по дюжине за три копейки, вовсе не обязательно. Вот и подумай, да все одно, толку ноль, хоть мозги поломай, уйму уже таких передряг пережили.
– Закончится ли эта проклятая, бесконечная череда мытарств когда-нибудь? – Сколько можно, на дворе февраль, это ж ведь, уже за полугодие перевалило, – подумал он.
– — – — – — – — – — – — – — – — —
Савраска, без всякой команды, вновь перешел с, так нелюбимого им, нудного, а от того, утомительного шага, на мелкую рысцу. Он всегда допускал подобное самоуправство, как только попадал на улочку, на противоположном конце которой, красовался хозяйский дом. По отшлифованной, мартовским ветром с легкой поземкой, до состояния льда, дороге, сани катились, легко и просто, с веселым поскрипыванием при боковом проскальзывании. Улица едва освещалась блеклым светом мерцающего полумесяца, редкими звездами, да слабыми огоньками из окон, укутанных снежными барханами, домов.
– Однако разметается, – подумал Степан, обратив внимание на усиливающийся ветер, – зря послушал скотников, да не отправил их к Ложку, сена стога два притащить. На ферме-то с гулькин хрен осталось, как завьюжит, из тех мест не пробьешься, вот и будут коровки газетки читать, мыча недовольно. Ну да ладно, авось, обойдется, в крайнем случае, зеленкой поддержим, ее вроде пока в достатке.
В размышлениях не заметил, как лошадь, уткнувшись в привычное место забора, остановилась и закивала головой, издавая при этом глуховатый звук, напоминающий команду остановки, которую она слышит от хозяина уже много лет.
– Тпру, – машинально отозвался хозяин, и выбрался из саней, – все золотце, спасибо за службу, день прошел и ладно, сейчас мы тебя накормим, напоим и спать уложим, – бормотал он еле слышно, медленно отворяя широкие ворота.
– Бать, давай я распрягу, а ты иди, там уже Маня заждалась, – услышал Степан голос Яши, – похвалы хочет, борщ знатный сварганила, и вправду, пальчики оближешь.
– Ну давай, только воды не пожалей, а так вроде накормлена, сенца малость предложи, – согласился отец, – куда на ночь глядя намылился?
– Ой, какая ночь, восьми часов, вроде еще нет, да я ненадолго, часок другой и дома, иди уже, и так совсем заработался, голодный, наверное, с утра дома не был. Отец на самом деле был зверски голоден, поэтому, оставив сына разбираться по хозяйству, поспешил в дом.
У стола, как заправская хозяйка дома, суетливо хлопотала Маруся. Запах из чугунка и почти до краев наполненной, вместительной миски, мгновенно довел, и так не дремлющий, аппетит, до предельного состояния.
– Ох, дочурка, выручай папку, – торопливо раздеваясь, сглатывал слюну Степан. – Голодный как волк. О, да ты у меня, на самом деле, хозяйка, каких поискать, – кивнул он в сторону стола, и добавил, потирая руки уже за столом – красавица моя конопатая.
– Вот тебе и здравствуйте, – с наигранной обидой, ответила дочь, – я его от голодной смерти спасаю, а он меня еще и обзывает почем зря, ни какая я тебе не конопатая, а очень даже похожая на тебя.
– Если на меня, то конечно не конопатая, – продолжал подтрунивать отец, – не конопатая, а курносая, и как ты на меня можешь походить, у тебя нос, пипка какая-то, а у меня, вон какой большой и красивый.
– Еще ни хватало, «шнобель» такой на лице носить, – язвила Маня, – толи дело, маленький, аккуратненький носик, вот ты какой…, знала бы, обязательно бы борщ пересолила.
– Да ты и так его пересолила, но вкуснятина получилась несусветная.
– Вот спасибо, – округлив глаза, будто бы возмутилась девочка, – то, страшная красавица, а то, несусветная вкуснятина, умеете вы папуль дочку порадовать.
– Ты что, обиделась что ли, это я так, для бодрости настроения, языком болтаю. Спасибо золотце мое, накормила отца, – лениво отодвигая опорожненную посудину, расплылся Степан Павлович в довольной улыбке, – и как бы я без тебя справлялся, ума ни приложу. – Ты у Александры-то давно была? – добавил он без малейшей паузы, – как они там справляются?
– Да вот, только часа два, как пришла, все с Надькой дурачились, – ухватилась за любимую тему Маруся. – Ох, и лепетунья же она, так и чешет эти свои, кале – бале, ни ляда не поймешь, но такая умора. А, как сказки слушает, глаза по плошке, – и Маруся выпучила глаза, пытаясь скопировать племянницу, – так и светятся.
– Это наша порода. Батька ее, тоже сметливым сорванцом рос, всюду лез, ох и любопытным же был, – хвастливо поддержал умиленный дед, и тут же осекся. А про себя подумал, – что это – был, почему – был? Вроде бы и понятно, был таким в детстве, и сейчас есть, такой или другой, но есть. И, как будто бы, к месту сказанное слово, но так резануло по сердцу, значит не к месту. Как, все – таки, слова и мысли связаны меж собой, особенно затейливо тогда, когда смысловой связи, вовсе и нет. Аккуратнее, нужно словесами разбрасываться, старый хрен, – дал себе дельный совет Степан, – а то, так вот, по чуть- чуть, и порвешь себя на кусочки. А сынок, мучается где-то, ну ничего, он справится. Вот тогда: и порадуемся, и поплачем вдоволь и от души, и напьемся в дугу, как раньше ни разу не бывало, и не думалось даже, как-то об этом. А ныне, он уже в который раз, представлял себе эту картину: они с Петром, разомлевшие, после баньки, за столом, а. на столе четверть и два граненых стакана. И долгий, долгий разговор, без конца. Когда уже это случится, скоро ли?
– Ну, я не буду рассказывать, – прервала его рассуждения, слегка недовольная дочь, – ты меня совсем не слушаешь. – Но, заметив, что отец, вновь был готов вникать в ее рассказ, с воодушевлением продолжила, – меня, Муся называет, а тебя, – Дудя. Обезьянка, еще та, такие рожицы строит, что обхохочешься. Узнает почти всю родню, когда я вас как-то изображаю. Если бороду почешу, как ты это делал, когда пытался ее отпустить, то, корчит, строгую мину, с губами в трубочку, и бормочет что-то не внятное. Я из этого понимаю только, – дудя. А если подношу к носу щепотку как будто с табаком, и чихаю, то она, раскрыв, рот шире ворот, передразнивает меня. То есть, конечно, Ганну, а затем со смехом катается по кровати бормоча, при этом, – пци Гане.