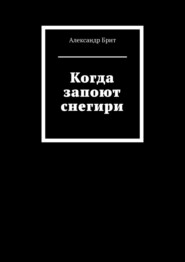скачать книгу бесплатно
– Ну а Александра, чего там, как?
– Да не знаю я, сегодня фельдшер приезжал, шептались они о чем-то, – в свою очередь, почти прошептала Маруся, – вроде бы, как я поняла, сказал, что в райцентр опять ехать придется.
– Ладно, с утра забегу обязательно, может что нужно, – задумчиво произнес отец, – сама-то никогда не спросит, а ты что ночевать к ним не собираешься, темень вон уже хоть глаз коли.
– Она Наталью с Людкой ждала к вечеру на ночевку, куда еще, мне путаться под ногами, наверное, уже приехали, так что, я сегодня дома, хоть вдоволь высплюсь, – сладко зевнула Маня.
Сестры почему-то задерживались. Прислушиваясь к завыванию ветра в печной трубе, и поглядывая на неутомимые ходики, едва различимые в слабом свете падающем из окна, стрелки которых указывали на то, что скоро девять, Александра начинала беспокоиться за девчат. Хотя и ехать им тут всего ничего три версты, но в такую непогоду, упаси бог, в чистом поле оказаться.
– Да уж, думается, матушка сообразила, не отпустить их. Сами-то, по молодости, совсем бесшабашные, примчались бы ни смотря ни на что. Ну и ладно коли так, в следующий раз заночуют, – подумала она, поправляя сползшее с плеча дочери одеяло. Та, тихонечко посапывая, лежала на левом боку, подложив под щеку, крохотную, словно игрушечную, ладошку, уперев колени в стену с ковром. А, по ковру, горделиво разгуливает пучеглазый олень, козыряя огромными, ветвистыми рогами, размер которых многократно превышает размер самого лесного красавца. Им хорошо вместе, ведь они друзья. Дикий исполин, с интересом засматривается на девочку, не отводя от нее своих большущих и сказочно красивых глаз. А она, понимая это, начинает играть с ним, то прикрывая лицо ручками, то прячась за кроватью. Но, потихонечку выглядывая из укрытия, дабы убедиться в надежности своего маневра, малышка понимает, что по-настоящему, полностью укрыться ей не удается, что олень все видит. А еще она понимает, что ему интересно с ней играть, а от того и ей становится совсем радостно и хорошо, почти, что как с мамой. По вечерам, когда спускаются сумерки, мама всегда говорит ей, – смотри, твой дружок захотел спать, сейчас пожелает тебе спокойной ночи и уйдет к себе домой. – Она ложится лицом к стене, и наблюдает за тем как старательно размалеванный, художником из окрестного села силуэт, медленно скрывается за сумраком ночи, чтобы вновь встретить ее на пороге нового дня. По утрам Надя, всегда, улыбается ожидающему ее оленю. Она привыкла к этому, ведь пока что, не было случая, чтобы милый дружок опоздал к ее пробуждению.
– Хорошо быть маленькой и несмышленой, живи себе да радуйся. Радуйся любому пустяку; что мама рядом, что все, кто бы ни появился в доме, с открытой улыбкой, стремятся поиграть с тобой, да так, чтобы тебе обязательно стало весело, или даже очень смешно, – размышляла Александра. Что ждет тебя впереди, доченька моя? Не знаешь, да и я этого не знаю, и папка твой не знает, и нет того человека, который бы мог предугадать, что с тобой, да и с ним самим будет потом. Ничего, бог даст, дождемся мы с тобой папку, вот тогда заживем. Правда, вот, на кой я ему такая, культя? Но это уж потом, как-нибудь да разрешится, главное, чтобы вернулся он, хоть каким, лучше бы конечно здоровым, но лишь бы вернулся. Тебе, с ним хорошо будет, уж во всяком случае, на много лучше, чем со мной. С меня, какой теперь толк, сама беспомощная, хуже дитя малого. Он же, в тебе души ни чает, а как иначе, ты ведь у нас долгожданная, – вновь повторила она будто заученные еженощные мысли, ощутив в этот момент легкий озноб, распространяющийся по всему телу. Так бывало с ней три предыдущие ночи подряд. Но, тогда, лихорадка наступала под утро, во сне, который начинал, вдруг, чередоваться с тяжким бредовым состоянием. В бреду, какие-то яркие, очень солнечные сцены, мгновенно сменялись необъяснимо мрачными кошмарами, вгоняющими в сковывающий и разум, и тело, ужас. То грезился ей сенокос. Там она, совсем еще маленькой девочкой, залихватски скачет, между только что, выложенными копнами, наперегонки со своими младшими сестренками, которые почему-то выглядят совсем уже взрослыми, как сейчас. А сестры дразнят ее, – дылда, дылда, не можешь обогнать нас на своих длинных ногах, – и заливаются безудержным смехом. Вдруг, налетает сильный, порывистый ветер, и уносит за собой сорванные с места, клочки сена, а вместе с ними и всю ее родню. С небес спускаются, иссини черные тучи, тут же превращающиеся в отвратительное, мохнатое чудовище, вселяющее в душу непреодолимый страх. Чудовище окутывает со всех сторон, будто поглощая свою жертву в собственную утробу, где царит полнейший мрак. Становится невыносимо жарко. Александра, накрепко сдавленная, словно гигантскими тисками, с жадностью, заглатывает воздух, которого, как ей кажется, вовсе нет. В полной тишине слышит собственное учащенное сердцебиение, через которое, до ее слуха начинает доноситься звук от чужого выдоха. Страх многократно усиливается, но по мере приближения звука, в нем возникают, знакомые, а после и очень родные нотки. Так дышит Петр. Мгновенно наступает восторг, экстаз и высшее блаженство, после чего, жара и полное отсутствие воздуха становятся непереносимыми, и отброшенный ими тулуп, мгновенно, переносит в нестерпимый холод. За тем, наступало временное, не очень продолжительное, просветление сознания, после которого, бред вновь брал свое, и все повторялось в разных вариантах и пропорциях, пока не наступало забытье. По утрам она просыпалась в холодной, влажной постели. Суставы рук и ног поламывало, как это обычно бывает после перенесенного жара, или к непогоде у стариков. Третьего дня, она, впервые почувствовав что-то неладное в обоих коленных суставах, не задумываясь, поспешила их слегка растереть. Когда левой рукой не нащупала колена, а уперлась в обрубок ноги, тут же, ощутила острую боль, такую, какой после последней операции, ни разу не испытывала. Колено отсутствовало, но оно болело, более того, ей показалось, что вновь появилась боль в ране ступни, причине всех бед. Но фантомные боли затихали почти сразу, после того, как рассудок подсказывал, что их быть не может, зато с большей силой начинала беспокоить культя. Заехавший сегодня в обед фельдшер, осмотрев рану, тихим голосом, озадаченно сказал, – как бы нам с тобой не доиграться Александра. Там у тебя воспаление, кажется началось гангрена может возобновиться упаси бог, давай я тебя с утра в район отвезу, от греха подальше, – и, обнаружив на лице больной, слабое выражение несогласия, уверенно и более громко добавил, – придется ехать в район.
– Хорошо, – тихо, так, чтобы не услышала находящаяся чуть поодаль Маруся, ответила Александра, – только просьба у меня, не надо Мане об этом знать.
– Понял, – кивнул старый лекарь, – значит, к утру будь готова, – прошептал он, поднимаясь со стула.
– Легко сказать, будь готова, – вспомнился сейчас тот разговор, – сестер, теперь уже, точно не будет. На кого же Наденьку оставлю? Тут, хочешь или нет, придется свекра беспокоить, а так не хотелось его посвящать, раньше срока, в эти мои скорбные обстоятельства, и так уже натворила черти чего и сколько. Совестно, – вспомнила она, настойчивые увещевания Степана Павловича, не затягивать, а как можно скорее показать медикам раненую ногу, едва до настоящего скандала, тогда, не дошло. Так нет же Шурочка – дурочка, как всегда ослицу упрямую не обуздала, все нет да авось. Вот и получай теперь по заслугам, баба глупая. Еще и людей, сколько из-за тебя страдать будут, – сглотнула слезу Александра, и поежилась от усиливающегося озноба.
Упрямство, было чертой характера, передаваемой в их семье по материнской линии. Маленькая Шура, частенько наблюдала, как ее мама с бабушкой, часами спорили о каком-нибудь, ничего не стоящем пустяке, например, о том, сколько в кадке осталось квашеной капусты; чуть меньше половины, или немного больше. При этом каждая из них, отвечала на, казалось бы, резонное предложение другой, пойти и проверить, всегда одной и той же фразой, – тебе надо, ты и проверяй, а я и так знаю. Отец, с большой готовностью, поддерживал это увлечение тещи и супруги, частенько подливая масла в огонь, дабы, оставаясь над схваткой, а пуще того, выходя из зоны их внимания, к своему вящему удовольствию, безнаказанно опрокинуть в себя, лишний, стаканчик другой самогону. Саша, напротив, с огорчением смотрела на подобные сцены, и наверняка знала, что, когда вырастет, точно не будет такой. Однако, со временем, все встало на свои места.
– Ты вылитая бабушка, такая же упертая, – однажды сказала ей мама, по какому-то пустяшному случаю.
– Это вы с бабулей, как две капли воды, похожи, особенно характером, – не согласилась дочь с материнской оценкой, – а я, как папа, ни с кем по разным глупостям спорить не буду, – заявила тринадцатилетняя егоза. И в течение нескольких дней, дочь с матерью, приводили друг дружке, казалось бы, неоспоримые доводы, но, так и не договорившись, остались каждая при своем мнении. Александра, уже понимала, что не права, ведь, даже сам этот случай, был явным доказательством, правоты матери, но ничего с собой поделать, как не старалась, не могла, тупо продолжала упорствовать. Она вспомнила, как влюбилась. Влюбилась, раз и навсегда. Напрасно Галя Басова, ее лучшая подружка, с которой ни как, невозможно было не поделиться, возникшими в ней непривычными чувствами, пыталась донести до ее сознания мысль о том, что это не хорошо и неправильно.
– Ты просто маленькая дурочка, он ведь женатый это раз, а еще говорят. По нему взрослые девки, да и бабы молодые, сохнут, – заговорщицки излагала Галя страшную, для пятнадцатилетних девочек тайну, – и он как будто, ни одной не пропускает, а тебе-то это для чего нужно, в подоле притащить захотела? – ехидно хихикнула она.
– Сама ты дурочка, – обиженно отозвалась Саша, и ее щеки запылали, – такую ерунду несусветную несешь, подруга называется. Врешь ты все, за бабками беззубыми, разные сплетни повторяешь. Тем понятно, делать нечего, вот они что попало и собирают. А если вправду гуляет, то ясно как белый день, что жена у него не любимая, а это значит, что рано или поздно он все равно ее бросит. Уж это-то, девицы на выданье всегда чувствуют, вот и строят глазки, так-то, а ты совсем, ни ляда не понимаешь. А я за него замуж выйду, обязательно, – огорошила она, и так уже изрядно пораженную, глубокими и весьма обширными познаниями, в области различных житейских тонкостей, подружку, – вот увидишь. Так оно в итоге и вышло, добилась своего. Значит, быть упрямой не всегда плохо, вот именно, что не всегда, но очень часто, но все-таки иногда очень даже правильно, – в полусознательном состоянии рассуждала она.
– Санечка, – послышался ей родной голос, – ну что, совсем плохо тебе? – звучало, как будто наяву, – давай я сватов зашлю и все дела. На кой нам с тобой огород городить, двадцатый век на дворе, ну кому нужны эти глупые забавы. Тебе-то это для какой такой радости?
– Хочу, – ответила она, едва шевеля непослушными губами, и попыталась добавить, – укради меня.
Все, что на этот каприз ей отвечал обескураженный Петр, до ее сознания не доходило. Да и с чего бы вдруг? Она и тогда будто не слушала его слов. Услышала только эти, – хорошо, договорились, только обещай, что больше никогда в жизни не будешь со мной врединой.
– Конечно, миленький мой, обещаю, – тут же согласилась, обрадованная таким широким жестом, невеста, – обещаю и клянусь, больше никогда в жизни не быть упрямой врединой, ни с тобой, и ни с кем-нибудь еще, и вообще, буду очень покладистой девочкой.
– Вот ты какая, как это, ни с кем, – наигранно, будто бы возмутился Петр, – ты со мной будь паинькой, а с кем-то другим будь врединой, еще как будь, и клясться не нужно, просто пообещай. Вот эти слова, а вернее суть сказанного, завершили ее воспоминания с примесью, туманящего сознание бреда, и вернули в реальность. Она почувствовала, что силы стремительно уходят. Культя сильно распухла и пылала невероятным жаром, любое прикосновение отдавалось в теле нестерпимой болью. Казалось, что именно там бьется сердце, каждый удар которого воспринимался теперь, как попытка выскочить наружу. Сердце гнало по жилам горячую, как кипяток кровь. Но в этих потоках возникали мелкие льдинки, а они, своим холодом, обжигали тело в разных местах. Александру лихорадило, она заметила, что изо рта начал идти пар, и это удивило. Только сейчас она вспомнила о том, что печь на ночь не протоплена. Маня, принесла из поленницы достаточно дров, которые лежали рядом с печью, а растапливать не стали, так как было достаточно рано, они и решили, что позже это сделают сестры. Нужно было попытаться растопить самой, иначе, при таком, не стихающем, шквалистом ветре, к утру в ее холопе будет царствовать настоящий ледник. Попытка не удалась. Она даже не смогла добраться до печи, упала на пол, сразу же, как только опустила с кровати здоровую ногу и попыталась перенести на нее вес тела. При падении, больная нога, бесконтрольно шлепнулась, вызвав болевой шок, и в глазах мгновенно потемнело. Некоторое время, как ей показалось, минут пять или чуть более, она пробыла в беспамятстве. Но холод, которым так и тянуло от пола, уверенно диктовал свои условия. Придя в себя, Александра распрощалась с надеждой протопить избу. В первую очередь сообразила, что следует, для начала, как можно надежнее укутать дочку, ведь неизвестно, как там дальше дело сложится. До утра еще уйма времени, ночью, вряд ли кому взбредет в голову заглянуть к ним, а с нее самой толку ноль без палочки. Но, легко сказать, укутать, для этого, нужно хотя бы подобраться к ребенку. С большой осторожностью, превозмогая боль и слабость, она придвинула табурет, стоявший неподалеку тут же у кровати, на котором лежало какая-то одежда Наденьки. Затем, аккуратно встав на колени, за несколько попыток, притянула к себе валенки, с помощью одного из костылей, и им же достала полушубок, предварительно помучившись, срывая его с вешалки. Неизвестно откуда взявшаяся сноровка, позволила ей водрузить все это спасительное тряпье на постель и самой, хоть и не без труда, оказаться рядом с укрытой ватным одеялом дочкой. Та, поначалу, слабо реагировала на манипуляции матери, лишь чуть слышно слегка постанывала. Но одеть спящего ребенка, и здоровому человеку, не очень-то легко и просто, а уж находясь в полуобморочном состоянии, совсем проблема. Задача, поставленная ей самой, – успеть, – заставляла торопиться. В спешке, все валилось из рук, и простые движения приходилось выполнять неоднократно, каждый раз беспокоя при этом ребенка. Наденька захныкала, начала оказывать сопротивление, беспомощным, а от того беспорядочным, но одновременно настойчивым действиям матери. Вскоре, она заплакала навзрыд, но, спустя некоторое время, утомившись, а возможно, и почувствовав тщетность такой формы протеста, как это часто бывает у детей, затихла. Она уснула под одеялом, в валенках и полушубке, укутанная в большущую пуховую шаль, с завязанными за спиной двойным узлом, углами, для надежности просунутыми под рукавами полушубка. А, в ослабевающем сознании, рядом лежащей матери, ничего не изменилось. Она, так и не узнала, – смогла ли, успела ли, – для понимания этого не осталось сил и времени. Более того, она уже не способна была понять, что же такое это «успеть», которое, постепенно затихая, настойчиво пульсирует в ней. Как будто, удерживая ее от чего-то, смутного и необратимого, что вот-вот, должно произойти. Наконец, и это прекратилось. Мозг угасал, прекращая реагировать на все, не только на то, что могло беспокоить извне, но и, на происходящее, в утратившем последние силы, умирающем теле.
Метель, закончившаяся к утру, оставила после себя многочисленные сугробы, разнообразной, иногда очень замысловатой формы, у изгородей и во дворах, сделав некоторые из них почти не проходимыми. Степан, ловко орудуя, предусмотрительно захваченной с собой широкой деревянной лопатой, расчищал дорожку к низенькому, а от того, полностью скрытому под снегом, крыльцу ветхого домика невестки. Что-то тревожило старика, сегодня спозаранку, и он, дабы поскорее развеять душевную смуту, с усердием налегал на работу. Снег, спрессованный недюжинным ветром, бушевавшим всю ночь, и крепчающим морозцем, ложился на лопату увесистыми монолитами, почти не раскрашиваясь. Лопата уже начала ударять в ступеньки крыльца, когда за спиной послышалось, – бог в помощь Палыч, с утра пораньше к внучке заскочить решил, – узнал он голос местного лекаря, и сердце екнуло, усилив тревогу.
– Здоров Борисыч, а ты чего такую рань, хренова-то, что ли совсем с Санькой, – опершись на черенок лопаты, спросил Степан. – Так мне что-то Маня ничего не сказала, а ну да, вроде что в район ехать придется, слышала от тебя, ну я так понял, как будто не очень-то и к спеху, ну уж во всяком случае, никак не сегодня.
– Да сегодня нужно, обязательно, и то, как бы уже не поздно было, гангрена у нее заново разыгралась. Совсем дела никудышные, – огорошил Борис Борисыч, и глубоко затянулся из остатка цигарки. – А дочке твоей, Александра сама запретила сказывать про это, вроде как тебя не хотела беспокоить раньше срока.
– Вы что, одурели совсем, как дети малые, беспокоить они не хотели, заговорщики чертовы, – выругался Степан, и в несколько размашистых движений, освободив крылечко и дверь от снега, стремительно вломился в сени. Входная дверь из сеней в дом, по всему проему, особенно сверху и слева, была обрамлена аккуратной рамкой изморози. Поверх двери, по слегка намерзшей за ночь изморози, едва парило. Это выходили последние остатки тепла. Проходя обледеневший порог, Степан, потерял равновесие, наступив на какую-то тряпицу, которая тут же, вместе с ногой, заскользила вдоль проема двери. Устояв, и внимательно присмотревшись, в тусклом свете рассмотрел, что наступил на шерстяную варежку, по-видимому, оброненную вчера Марусей. Она-то, эта рукавичка, попав между проемом и створкой двери, и стала главной причиной утечки тепла из дома. Подняв глаза, Степан увидел перед собой, закутанную во все, что можно, внучку, сидящую на корточках подле, лежащей, совершенно безучастно матери, и тормошащей ее что есть мочи. Заметив на пороге деда, девочка с тревогой и удивлением залопотала, широко разводя ручонки по сторонам, – дудя, мама пить, – и вновь, с еще большим усердием принялась будить мать. Борис Борисыч, внимательно осмотрев больную, проверив пульс и ощупав лоб Александры, почти обреченно сказал, – давай Палыч, быстренько в сани ее, может быть, еще справится, хотя…, драная, жизнь, мать ее метить, как можно таких молодых терять, – сплюнул он.
Дед, с внучкой молча, смотрели вслед удаляющимся саням, пока не послышался гудок паровоза, со стороны проходящей неподалеку железной дороги.
– Дудя, мама туту? – нарушила, на удивление долгое молчание, будто бы понимающая всю серьезность происходящего, Наденька, и широко раскрыла свои удивленные, голубые глазки.
– Туту мама, – подтвердил догадку девочки, все понимающий дед, – туту, – повторил он, сглатывая слезу, еще крепче прижимая внучку к собственному сердцу. – Туту, – не однократно повторяясь, не утихало в нем, пока он усаживал малышку рядом с собой в кошевку, плотно набитую душистым сеном, после того как сани, увозящие ее маму, скрылись в дали. – И мы с тобой тоже туту, коза дереза моя, поехали внученька к дедушке в тепленький домик, там и маму твою, бог даст, поджидать будем, авось все сладится, – как молитву, еле слышно, твердил он.
Ничего не сладилось. Через час полтора, когда Степан, устроив у себя дома внучку, и собрался было отправиться на ферму, выправлять производственные дела, к его усадьбе подъехал Борис Борисыч, и стало ясно, что Александры больше нет. Она скончалась по дороге, не приходя в сознание, видимо, по предположению фельдшера, от заражения крови, вследствие развития гангрены.
Хоронили Александру всей деревней. Так случилось, что с начала войны, это были первые похороны, и возможно поэтому, не единый человек, за исключением неходячих стариков, не усидел дома. Короткая по времени процессия, да и само погребение, сопровождалось непрерывным, то слегка затихающим, то вновь, многократно усиливающимся, бабьим ревом. Накопившееся горе, которое не миновало с началом войны практически не единого дома, вырывалось наружу. Оплакивая Александру всем миром односельчане, оплакивали и своих погибших, на этой проклятой войне. И те, в чей дом пришла беда, вместе с похоронкой, понимая всю неестественность и нелепость, гибели молодой женщины, здесь, в тылу, а не на фронте, искренне сочувствуя близким покойной.
Одновременно, им завидовали, как например, Марфа Астапчук, ежедневно заходившаяся в истошных рыданиях, вот уже скоро как месяц. Как жить после известия о гибели младшенького ее сыночка? Ведь родня Александры, со временем, пережив тяжелую утрату, будут знать, что у них есть место, куда можно пойти, поклониться и уронить горькую слезу на могилку, когда прижмет тоска, до такой степени, что будет совсем невмоготу. И им, наверняка, станет легче. Ведь, их родненький человек будет лежать в своей земле. А рядом, место упокоения ее предков, как это и положено по православным, да и по всем другим людским законам. Так рассуждала она, – а куда податься мне со своей печалью, зная, что сынок лежит где-то на чужбине, наспех и, наверняка, как попало зарытым, в землю далекую от родимого дома, не отпетый и не оплаканный родной матерью. Как же это, так, получается? – недоумевала несчастная мать погибшего солдата. – Забрать мальчика моего, Родину оборонять от врага лютого, ненавистного, это без труда. Это всегда, пожалуйста, раз, два, и готово. А возвращать-то, кто будет? – спрашивала обезумевшая мать неизвестно у кого, по-видимому, у самой себя. Не находя ответа, продолжала, – не уж-то, собрать воедино, одним махом, сотню и больше мужиков, а по большей части, безусых мальчуганов, из окрестных деревень проще. Одеть, накормить, научить воевать, и доставить всю эту орду на фронт, намного легче нежели, привезти одно бездыханное тело солдатика его матери? Да нет, конечно, – была убеждена Марфа, всякий раз, как только, вновь и вновь, начинала рассуждать о своем горе, – знать, не слишком-то это важно для больших командиров, да великих героев маршалов, наверное, их сыночки не гибнут от фашистских пуль. А вот она, кроме малыша своего, еще одного старшего сына, да и мужа отдала в их власть. Как ей теперь с ума окончательно не сдвинуться, не дойти, до полного умопомешательства? Между прочим, знающие люди, сказывают, – что, должна бы власть, ее старшенького из окопов вытащить, и живехонького матери вернуть, потому, как он есть единственный, оставшийся в живых сынок. Будто бы, так бывало при старой «ненавистной» царской власти. – Вот бы, было благо, если ее деловитый, трудолюбивый и на удивление рассудительный Ванечка, взял бы, да и вернулся. – Уж тогда бы…, – прерывала она свои несбыточные мечтания. – Господи, спаси и сохрани безвинных воинов, Ванечку, сыночка моего, да Макарушку, отца его, хозяина нашего, упокой светлую душу раба твоего, сыночка моего ненаглядного Кирюши, – трижды перекрестилась Марфа, после того как, подойдя в длинной очереди к могилке, бросила на крышку гроба три пригоршни земли. Через полчаса на кладбище стало малолюдно и совсем тихо. Слезы, по-видимому, закончились. Народ, ни громко переговариваясь, медленно ручейками растекался по селу, преимущественно направляясь к большому дому, свекра Александры, где отныне будет и дом ее дочери Нади. Так уже договорились, после непродолжительного выслушивания различных доводов сторон, на семейном совете, то есть мать Александры, бабушка Прасковья и дед Степан. Степан сразу же пресек различные разговоры, хотя бы издали, пусть даже полунамеком, касавшиеся сиротства внучки. – Цыц, девоньки, – резко оборвал он жалобные причитания Арины во время поминок, едва та, заключив в крепкие объятья Наденьку, растроганно затараторила. – Иди к тетушке родной, дитятко мое горемычное, сиротинушка наша…
– Чтобы я этого впредь не слышал больше никогда, иначе отстегаю как Сивку, тем, что под руку подвернется. Дети сиротами и при живых родителях часто бывают, если те родители непутевые, совсем неправильные, а моя внучка, какая она вам сиротинушка, при такой-то родне, да и батька у нее кровный имеется, дай бог, обязательно вернется, – окинув испытывающем, взглядом всех присутствующих. Чуть помолчав, добавил, – жив солдат, пока похоронки нет, запомнить стоит всем. А пока у нее, Наденьки, то есть, бабушка родная и дед есть, они-то вырастят как надо, не хуже других. Так ведь Прасковья Даниловна? – обратился он к сватье.
– Да, о чем уж тут говорить, не пропадет малышка наша, – ответила та, утирая с лица так и не прекратившийся ручеек слез, – выходим и обласкаем, насколько сможем, да ведь мы уже все это будто бы решили.
Жизнь в доме Степана Стрижа развернулась другой стороной. Так как, самым важным членом семьи стала внучка, то размеренный, и можно сказать, скучный ход событий, мгновенно обернулся стремительным и часто очень суетливым кавардаком. Днем, Надя оставалась, по очереди, то под присмотром Яши, что казалось, не всегда радовало их обоих. Или изредка забегала, на часок другой, старшая дочка Ганы, пятнадцатилетняя Ира, или же, появлялись, почему-то обязательно вместе, тетки Наталья с Людой. Но главной нянькой, и это никем не оспаривалось, как и прежде, оставалась Маруся, для которой, водиться с племянницей, казалось, было не только не в тягость, а наоборот становилось наилучшим развлечением. Насмотревшись за день на беготню, разные выкрутасы, а иногда и маленькие, безобидные проделки племянницы, по вечерам она обо всем этом, часто с избыточными подробностями, рассказывала, сияющему при этом деду. Да, именно деду, потому, что с этой поры, как-то незаметно, родня, а постепенно и все прочие, стали называть шестидесяти трехлетнего мужика именно так. А он и не протестовал. Зачем, ведь это, на сей момент, его главное назначение, и наивысшее звание.
– Я догадалась, чего внучка твоя нам рассказать хотела, вчера перед сном, а мы и не поняли, – хвастливо объявила Маня за вечерним столом, – хочешь, объясню.
– Хочу, не хочу, ты же все равно расскажешь, так что, конечно хочу. Рассказывай, мы с Надей с удовольствием послушаем твои побасенки, правда, коза дереза, – подмигнул он, сидящей напротив малышке, внимательно рассматривающей его, из проема между ладоней, подпирающих ее крохотное, слегка веснушчатое личико.
– Да ну тебя, – недовольно поморщилась дочь, – побасенки мальчишки шалопаи рассказывают…
– Ну, в кого ты такая обидчивая у меня удалась? Понять никак не могу, я же пошутил, все молчу и слушаю, – покорно сложив перед собой руки, отец изобразил на лице мину, намекающую на предельное внимание.
– В кого я такая чудесная дочка, тебе лучше знать, – отчеканила, как по писанному с легкой ехидцей, Маруся. – А вот это чудо, похоже, точно в тебя будет, – кивнула она в сторону, хитровато улыбающейся во весь редкозубый рот, Нади, внимательно наблюдающей за малопонятным разговором взрослых. – Вырастет, наверное, тоже над всеми подтрунивать начнет, с шуточками своими, народу проходу нигде давать не будет, это уж точно, как пить дать.