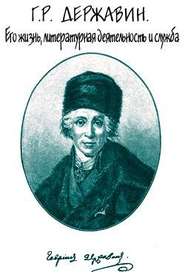 Полная версия
Полная версияГ. Р. Державин. Его жизнь, литературная деятельность и служба
Те же вельможи, воспетые Державиным, клали земные поклоны при входе к государыне в уборную, и гордый Петр Панин подписывался в письмах и донесениях Екатерине «всеподданнейший раб», хотя она же вскоре сама запретила называть просьбы челобитными и повелела подписываться не «раб», a «верноподданный»; Капнист написал по этому поводу оду «На истребление в России названия раб». Нравы были крепче указов. Шутовство при дворе Екатерины, конечно, казалось современникам нисколько не унизительным по сравнению с прежним временем, и Державин за то возносит Екатерину, что при ней «свадеб шутовских не правят, в ледовых банях их не жарят, не щелкают в усы вельмож, князья наседками не клохчут, любимцы въявь им не хохочут и сажей не марают рож». Картина эта относилась к царствованию Анны Иоанновны. Когда она в придворной церкви слушала обедню, шуты садились в лукошки в той комнате, через которую императрица проходила из церкви во внутренние покои, и кудахтали, как наседки, что производило общий хохот. Говорят, в Петергофском дворце долгое время можно было видеть лукошко, в котором сиживал князь Голицын.
Не в столь обидной форме, но все же шутовскую роль при Екатерине играл Лев Нарышкин. В нем ценила Екатерина ум и комический талант, но то и другое обращалось нарочно в одно посмешище. Она называла его то «прирожденным арлекином», то «слабой головой», но неизменно сохраняла к нему благосклонность.
Известно, что знаменитый вопрос 14-й Фонвизина: «отчего шпыни и шуты, и балагуры в прежнее время чинов не имели, а ныне имеют и весьма большие» – метил в Нарышкина с ему подобными. Тем же вопросом, по-видимому, вызвана была басня Державина «Лев и Волк». Волк жалуется, что он не получил ленты, тогда как «Пифик с лентою и с лентою осел» и т. д. Лев дал ответ: «Ведь ты не токмо не служил, но даже никогда умно и не шутил».
Автор «Фелицы» рассказывает, что, написав ее, показал друзьям своим Львову, Капнисту и Хемницеру, а затем спрятал, «опасаясь, чтобы некоторые вельможи не приняли чего на свой счет и не сделались его врагами». Случайно увидел ее однажды Козодавлев, выпросил домой, обещая никому, кроме тетки, поклонницы Державина, не показывать, и, как всегда в этих случаях бывает, рукопись стала ходить по рукам. Прочли ее Шувалов и другие. Она появилась вскоре напечатанной в первой же книжке «Собеседника», без подписи и под заглавием: «Ода к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице („богиня блаженства“, по объяснению поэта), писанная некоторым мурзой, издавна поселившимся в Москве и живущим по делам своим в С.-Петербурге. Переведена с арабского языка 1782 г.». Так думал оградить себя поэт от мести оскорбленных, если бы они случились. К словам «с арабского языка» сделано было редакцией примечание: «хотя имя сочинителя нам не известно, но известно нам то, что сия ода точно сочинена на российском языке».
Княгиня Дашкова поднесла книгу императрице. Последняя прислала за Дашковой на другое утро, и княгиня застала ее в слезах. По словам Державина, Екатерина спросила Дашкову, кто писал эту оду: «Не опасайтесь, – прибавила она, – я спрашиваю только, кто бы так коротко мог знать меня и умел так приятно описать, что я, видишь, как дура, плачу». Несколько дней спустя за обедом у князя Вяземского Державину подали пакет с надписью: «Из Оренбурга от киргиз-кайсацкой царевны Державину». В пакете оказалась табакерка золотая, осыпанная бриллиантами, и в ней 500 червонцев. «За что бы это?», – спросил князь с неудовольствием. «Не знаю, – отвечал Державин, – разве не за сочиненье ли, которое княгиня напечатала в „Собеседнике“ без моего согласия?» С этого времени, говорит он, между ними начались неудовольствия. В восторге от милости Екатерины Державин рассыпался письменно в благодарности княгине Дашковой, Безбородко, через которого шла награда, и Козодавлеву. Последнему он пишет, между прочим: «Я для Фелицы сделался Рафаэлем. Рафаэль, чтоб лучше изобразить Божество, представил небесное сияние между черных туч. Я добродетели царевны противоположил моим глупостям. Не зная, как обществу покажется такого рода сочинение, какого на русском языке еще не было» и т. д.
Вскоре последовало представление Державина императрице во дворце, в Кавалергардской зале, при многих других лицах. «Богиня на меня воззрела», – говорит поэт в «Видении Мурзы»… Государыня остановилась от него поодаль, несколько раз окинула его быстрым взором от ног до головы и наконец подала ему руку. Ее величественного вида при этом, говорит Державин, он никогда не мог забыть. Под впечатлением минуты он начал стихотворение, которое долго оставалось неоконченным, но потом вылилось в одно из лучших его произведений, а именно в оду «Видение Мурзы». Державину является мечта и говорит, что задачей поэта должна быть не лесть и похвала, но поучение.
Кто ты, богиня или жрица?Мечту стоящу я спросил.Она рекла мне: «я – Фелица!»Рекла и светлый облак скрылОт глаз моих ненасыщенныхБожественны ея черты.Впрочем, она же вначале обращается к нему, как будто угрожая, со словами: «Вострепещи, Мурза, несчастный»…
Автор говорит, что Екатерина хотя и разослала вельможам стихи «Фелицы» с отметками, что к кому относится, но делала вид при дворе, будто бы не догадывается, что похвалы Фелице относятся к ней, и удивлялась смелости, с какой ода написана.
Слава Державина как поэта достигла своего апогея с появлением оды «Бог» в XIII книжке «Собеседника»; в основе появления этой оды лежали общие причины.
Вопросы религиозно-нравственного и воспитательного характера в то время были сильно распространены и решались в духе века. Духовная поэзия была в большом ходу. Почти у каждого поэта восемнадцатого столетия, не исключая Вольтера, можно было найти одно или несколько стихотворений, посвященных восхвалению величия Божия.
Этому направлению путем невольной подражательности следовали и мы, начиная с Ломоносова и Сумарокова. С тех пор как Державин стал участвовать в журналах, на страницах их нередко являлись стихи подобного содержания. Правда, в то время, когда державинская ода получила у нас широкое распространение, духовные оды в Европе уже доживали свой век, но это было лишь следствием общего явления запоздалости у нас западного влияния.
Ода «Бог» была начата поэтом еще в 1780 году в Светлое Христово воскресение, по возвращении от заутрени, но служба и столичные развлечения долго не давали ему возможности снова приняться за нее. Выйдя в отставку после несогласий с начальством, Державин уединился для окончания оды. Сказав жене, что едет в имение, он остановился в Нарве и там нанял себе на несколько дней у старушки-немки маленькую комнату. Воображение его было сильно разгорячено, судя по рассказу его в «Записках». Не докончив последней строфы, он уснул перед зарей; вдруг ему показалось, что кругом по стенам бегает яркий свет; слезы ручьями полились у него из глаз; он встал и при свете лампады разом написал последнюю строфу. Нет оснований не верить этому рассказу, в котором явно видны черты, характерные для подобных историй, существовавших в средневековой Европе. Бенвенуто Челлини, лежа в темнице на каменном полу, уснул и видел Деву Марию. Проснувшись, он взял кусок воску и старался изобразить ее такой, какой она предстала перед ним. Ему казалось невозможным, чтобы она не была такою именно, хотя другие также видели ее, и видели опять-таки каждый по-своему.
Державин уверяет, что с детства у него было воспоминание, по которому он считал себя особенно призванным к выполнению этой задачи: мать ему рассказывала, что на другой год после его рождения явилась комета и что, глядя на нее, он произнес первое свое слово: Бог. Подобные легенды легко создает впоследствии воображение, но тем не менее непосредственность, наивность чувства остаются характерными чертами эпохи. Призвание Державина в данном случае, как показало время, не было исключительным.
Ода забыта; это была не «Мадонна» Рафаэля: не запечатленное на стенах Сикстинской капеллы «Сотворение Мира» Микеланджело, не «Освобожденный Иерусалим» Торквато Tacco, словом – не то вечное произведение, где дух и форма сливаются в полной и тесной гармонии, – но успех оды у современников превзошел ожидания самого автора; она производила общий восторг, выучивалась наизусть, перепечатывалась не раз отдельно, переводилась на разные языки и более всех других его произведений содействовала известности его имени даже в Европе. «Действительно, – говорит академик Грот, – беспристрастная критика не может не признать за этой одой неотъемлемых достоинств; кроме блестящих картин природы и возвышенных мыслей, она замечательна лирическим одушевлением и искренностью, которые резко отличают ее от большей части произведений этого рода на других языках». Далее по вопросу о том, насколько Державин заимствовал свое произведение у других, он же замечает:
«Оду „Бог“ называли подражанием, но, по нашему мнению, это несправедливо. Правда, в ней есть мысли, встречаемые у Юнга, Галлера, Клопштока; но такого рода бессознательные заимствования или невольные воспоминания есть у всех поэтов и составляют неизбежное последствие их чтений; сущность пьесы заключается в настроении поэта, в общем содержании, в главных мыслях его, а не в некоторых второстепенных чертах, рассеянных в художественном создании».
Взгляд этот явился, конечно, результатом сравнения оды «Бог» с немецкими и итальянскими образцами.
«Нельзя даже сказать, знал ли он их, – говорит Я.К. Грот. – Две, три отдельные мысли могли случайно сойтись, но нет никакого сходства ни в ходе идей, ни в свойстве представлений. Нет тех отвлеченных, математических, а отчасти мистических представлений о кругах и числах, которыми с любовью занимаются немецкие и итальянские поэты».
С другой стороны, давно было замечено сходство некоторых мыслей оды со стихами Юнга. Уже в 1812 году «Вестник Европы» сравнивал ее с «Ночами» последнего.
Первый перевод оды на французский язык принадлежит юноше Жуковскому. Затем стали появляться переводы и на других языках: немецком, итальянском, английском, испанском, польском, чешском, латинском и даже на японском.
Последний явился случайным следствием плена Головкина (впоследствии адмирала). Однажды, рассказывает он в своих записках, ученые туземцы просили его сказать им русские стихи. Он прочел оду «Бог», и во время чтения они отличали рифмы и находили приятность в звуках. Им захотелось иметь перевод, и, по уверению Головкина, ему удалось перевести и передать смысл содержания так, что они все поняли, кроме стиха: «Без лиц в трех лицах Божества», на объяснении которого они и не настаивали, когда он им сказал, что для понимания этих слов надо быть истинным христианином (?). Далее губернатор просил написать оду кистью на атласе и отправил императору. «Японцы уверяли нас, – говорил Головнин, – что она будет выставлена на стене в его чертогах, наподобие картины». В устном пересказе этого события современники смешали японский язык с китайским, намерение принято было за исполнение, и распространялось уверение, что ода написана золотыми буквами на стене во дворце богдыхана в Пекине наподобие картины.
По словам Головкина, японцам особенно понравилась мысль, выраженная в одной строфе словами: «и цепь существ связал всех мной», причем «они показали, что постоянное шествие природы от самых высоких к самым низким его творениям и им не безызвестно».
Нельзя согласиться с тем, что ода Державина исключала метафизику. Вспомним знаменитое начало:
О ты, пространством бесконечный,Живый в движеньях вещества,Теченьем времени Превечный,Без лиц в трех лицах Божества.Державин сам поясняет, что, «кроме богословского православной нашей веры понятия, разумел он тут три лица метафизические, т. е. бесконечное пространство, беспрерывную жизнь в движении вещества и неокончаемое течение времени, которые Бог в себе совмещает».
Державинская ода вызвала множество подражаний, в том числе «Гимн Богу» Дмитриева, «Гимн Непостижимому» Мерзлякова, «Песнь Божеству» Карамзина и другие.
Знаменитый в своем роде одописец граф Хвостов не только сочинил оду «Бог», но ценил ее гораздо выше Державинской, что, как с ним всегда бывало, повело к комическому эпизоду. По дороге в Царское в карете он стал спрашивать секретаря своего, также «поэта», которая ода, по его мнению, лучше. Когда последний откровенно высказался в пользу Державина, разгневанный самолюбивый автор решил высадить его среди дороги и не хотел ни за что везти дальше.
Рассказ этот, слышанный академиком Я.К. Гротом от «живого» очевидца князя Цертелева, свидетельствует о том, как ревниво в былое время относились к литературе ее хотя бы и бездарные, но страстные любители.
Расцвет литературы и сознание в то же время несовершенства языка, недостатка правил привели к мысли о необходимости основания Российской Академии. При самом учреждении ее в 1783 году Державин, уже знаменитый поэт, был избран в члены и принял участие в организации, в «начертании» плана.
Нельзя отнять у Державина заслуги сближения поэзии с жизнью, помимо сравнительного совершенства формы и языка.
«Превосходный стих Державина, – по замечанию Шелгунова, – делал его таким популяризатором новых идей, которые он из кружка интеллигенции и вельможества проводил в начинавшую читать публику, что воспитательное его значение было, конечно, гораздо больше, чем в первой половине XIX века воспитательное значение Пушкина».
Я.К. Грот со своей стороны, определяя значение Державина для его времени, замечает, что он вполне удовлетворял тогдашним эстетическим требованиям. «Таким образом, он бесспорно отвечал потребностям своего времени, и вот в чем, может быть, заключалась одна из главных причин его успеха».
Глава IV
Служебная и литературная деятельность при Екатерине
В жизни Державина важнейшие моменты литературной деятельности и служебной карьеры находятся всегда в некоторой связи. Менее чем через месяц после выхода книжки «Собеседника» с одою «Бог» Державин был назначен правителем Олонецкого наместничества. Возвышению Державина содействовала «Фелица», но кроме того, что Екатерина не желала прямо выказать это, князь Вяземский задерживал доклад об увольнении нашего поэта с сенатской службы. Назначение состоялось, таким образом, только в 1784 году.
Державин давно мечтал о губернаторстве, особенно на своей родине, но это не удалось ему ни теперь, ни впоследствии. Олонецкое наместничество пока существовало только на бумаге. Екатерину с самого вступления на престол занимало дело преобразования губернского управления. При ее воцарении губерний было 16 – число, не соответствовавшее обширности государства. Она издала «учреждение о губерниях», по плану которого на каждую полагалось от 300 до 400 тысяч душ, вследствие чего количество губерний увеличилось до сорока. Крым составил особую область. В каждой губернии должен был находиться государев наместник, или генерал-губернатор, и подчиненный ему правитель наместничества, или губернатор, на которого и возлагалась вся ответственность по управлению. Этот план организации нашел своего рода «поэтическое» изображение в стихах у Державина:
Престол ея на Скандинавских,Камчатских и златых горах,От стран Таймурских до КубанскихПоставь на сорок двух столпах.В то же время сделана была попытка внести свет в лабиринт старых воеводских и прочих учреждений («Тебе единой лишь пристойно, царевна, свет из тьмы творить»), в особенности отделением судебной власти от административной. Недостатком новой организации являлась, между прочим, неточность пределов власти новых чинов. Генерал-губернаторы, облеченные полным доверием государыни, могли руководствоваться одним произволом и быть сами себе законом. Они пользовались почти царскими почестями, им были подчинены войска; при выездах они сопровождались отрядом легкой конницы, адъютантами и молодыми дворянами, из которых под их руководством «должны были образоваться полезные слуги государства».
«На пышных карточных престолах сидят мишурные цари», – говорит Державин в оде «На счастье», разумея наместников, которые хотя и зависели от мановения императрицы, но чрезвычайно дурачились, великолепно восседая на тронах, когда допускали к себе при открытии губерний народных депутатов и выборных судей…
Назначение Державина состоялось 22 мая 1784 года, и указом того же дня Петрозаводск был сделан губернским городом. Там уже находились и присутственные места, переведенные из Олонца, находились, по-видимому, в плачевном виде, потому что Державин по приезде туда меблировал их даже «на свой счет». Петрозаводск населяли купцы, мещане и разночинцы, всех жителей считалось в нем около трех тысяч. Олонецкая губерния по своему тогдашнему населению (206 тысяч жителей) составляла только две трети определенной для губернии меры, но обширное пространство в 136 тысяч квадратных верст давало ей право на отдельное существование.
Прибыв в город, Державин занял небольшой одноэтажный дом в конце Английской улицы, названной так потому, что на ней жили выписанные из Англии для известного пушечно-литейного завода мастера. «Открытие губернии» продолжалось целую неделю и сопровождалось речами генерал-губернатора Тутолмина и пиршествами у него же, пушечной пальбой и угощением народа на площади.
Сначала наместник и губернатор жили между собой дружно и проводили друг у друга вечера, но это согласие было непродолжительно. Скоро Тутолмин уже называет Державина в письме в Петербург «изрядным стихотворцем, но плохим губернатором». Последнее едва ли было справедливо. Державин несомненно мог быть прекрасным исполнителем «начертаний», обладая прежде всего недюжинным умом и энергией. Причина несогласий заключалась в неуживчивости его характера, наклонности переходить пределы своей власти, в стремлении выставить на первый план себя и свои заслуги. Державин со своей стороны не без оснований обвинял Тутолмина в самовластии, в желании придать своим предложениям силу указов, обезличить суд и палаты. До каких мелочей и личных счетов доходили неудовольствия между двумя сановниками, свидетельствует письмо Державина ко Львову. Тутолмин стал показывать Державину свое превосходство и требовать субординации. Державин пишет, что при осмотре присутственных мест встретил и принял начальника, как следует в правлении, и, несмотря на прежние несогласия и придирки, не выказал никакого неудовольствия и проводил затем в совестный суд.[7]
«Тут он бранью, непристойною судей (?), безвинно сделал мне много огорченья, но я и после того вышел за ним в сени, хотел провожать его по судам; но он надел с неучтивостью и раздражением шапку, пошел в карету и не пригласил меня; а как у меня кареты не было, то я и возвратился в Правление, за непристойное почтя бегать за ним пешком, а паче быть свидетелем его ругательств судьям, на счет мой относящихся. Не взирая на сие, ввечеру мы с Катериной Яковлевной поехали к нему…»
Очевидно раздраженный многим предыдущим, Тутолмин не пощадил Державина и в своем доме. Насколько кто был прав, трудно судить. Насколько же можно судить со слов самого Державина, незаметно, чтобы он выказал особую независимость и достоинство в чисто личных отношениях с Тутолминым. На другое утро после ревизии Тутолмин уехал в Петербург, а вслед за ним с нарочным, экзекутором губернского правления Н.Ф. Эминым, преданным губернатору, последний отправил «донесение» императрице, вложенное в письмо на имя Безбородко, с особой просьбой о заступничестве. Что было в «донесении», в точности неизвестно. Ходили слухи, что Тутолмин был призван особо по этому поводу во дворец и просил на коленях милости в кабинете императрицы. С другой стороны, рассказывали, что Екатерина отозвалась о неосновательности донесения и заметила, что не нашла в бумаге этой ничего, кроме поэзии. Приписывали Тутолмину даже ходатайство о пожаловании Державину ордена. Донесение Державина явилось результатом ревизии, которую он произвел тотчас по отъезде Тутолмина в присутственных местах, находившихся в исключительном ведении наместника. Мера была отчаянная. Державин нашел в делах «великое неустройство, и всякого рода отступления от законов». Документы ревизии Державин отправил Тутолмину при рапорте, в котором не скрыл от него, что вместе с тем обо всем донес императрице. Все кончилось к общему пока удовольствию. Екатерина нашла удобным поверить объяснениям Тутолмина и в то же время оставить на месте Державина в качестве недремлющего ока.
Оставаясь на службе после ссоры с всесильным наместником, Державин мог только выиграть в своем влиянии и положении. Борьба, однако, была неравная. Пререкания возрастали. Враги Державина легко пользовались его слабостями. Распространился слух, что Державин побил одного советника правления. Едва ли можно быть уверенным в том, что этого не было. Казанский губернатор, по словам Державина, не успел в хлопотах об ордене, потому что «трактовал почтмейстера пощечинами»; почему не мог рассердиться и олонецкий?
В историю олонецкого губернаторства Державина входит эпизод, достойный кисти Гоголя. В губернаторском доме жил ручной медвежонок. Однажды он, следом за одним из приходивших туда чиновников, Молчиным, зашел в суд. Может быть, последний нарочно устроил шутку. Присутствия в тот день не было. Войдя в комнату, Молчин шутя предложил находившимся там заседателям идти навстречу новому члену Михаилу Ивановичу, а затем вышел и впустил медвежонка. Враждебная Державину партия воспользовалась этим. В появлении губернаторского зверя усмотрено было неуважение к судебному месту, сторож выгнал его палкой, и приверженцы Державина в свою очередь увидели в этом неуважение к самому губернатору. Дело раздули до того, что оно восходило к Сенату, который наконец оставил жалобу Тутолмина на неправильные действия Державина по поводу этого дела без последствий. Князь Вяземский, впрочем, говорил в общем собрании Сената: «Вот, милостивцы, как действует наш умница-стихотворец; он делает медведей председателями».
В «Наказе» вменено было в обязанность губернаторам объезжать губернию и составлять описание ее. В Олонецкой губернии путешествие этого рода связано было со многими лишениями и препятствиями. Тем не менее по поручению Тутолмина Державин совершил объезд водою, побывал в городе Пудоже, недавно «открытом» самим наместником, и в свою очередь «открыл» город Кемь. Само собой, что это учреждение городов было исключительно делом бумажного производства, если не считать водосвятия, пирогов и речей. Ни присутственных мест, ни помещений для них, ни людей негде было взять. Впрочем, донесения и описания Державина во многом заслуживали внимания, обнаруживая усердие, наблюдательность и здравый смысл. Конечно, Державин не упускал случая критиковать действия наместника, и, хотя в основании такой критики лежало личное неудовольствие, замечания его были часто основательны. Так, он опровергает мнение Тутолмина о «предосудительных свойствах обитателей страны, наклонности к обиде, обманам и вероломству».
Державин очень метко замечает, что если бы они были таковы, «то не работали бы вечно у своих заимодавцев за долг, имея на своей стороне законы, не упражнялись бы в промыслах, требующих нередко устойки и верности уговору, не были бы послушны и терпеливы в случае притеснений и грабительств, чинимых им от старост и прочих начальств и судов, в глухой сей и отдаленной стороне бесстрашно прежде на всякие наглости поступавших. Нравы не сварливые и довольно мирные явственны мне стали из того, что при случае повеления экономии директора отнимать пахотные земли, они хотя с ропотом и негодованием, но были довольно смирны при таком обстоятельстве, при каковом в других губерниях без убийств и большого зла дело не обошлось бы» и т. д.
Тутолмин докладывал, что вообще во всех уездах несравненно более зажиточных, нежели бедных поселян. Державин, возражая, говорит, что в зажиточности и причина, что так много бедных.
«Они, нажив достаточек подрядом или каким другим образом, раздают оный в безбожный процент, кабалят долгами почти в вечную работу себе бедных заемщиков, а через то усиливаются и богатеют более, нежели где внутри России, ибо, при недостатке хлеба и прочих к пропитанию нужных вещей, прибегнуть не к кому, как к богачу, в ближнем селении живущему. Сие злоупотребление нужно кажется пресечь».
Так рисует поэт-гражданин исконное бедствие русского народа во всей его наготе. Нельзя не подивиться, как мог он, насмотревшись на эту картину, относиться потом почти презрительно к стремлениям идеалистов того времени в лице Радищева, а затем к освободительным идеям Александра I и его сподвижников.
По возвращении в Петрозаводск раздоры вспыхнули с новой силой. Наконец Державин, под предлогом обозрения еще двух уездов, выехал снова и отправился в Петербург, где благодаря ходатайству друзей, покровительству вельмож и вниманию Екатерины к автору «Фелицы» вскоре добился указа о переводе его губернатором в Тамбов.
В числе ходатаев за Державина кроме прежних его покровителей встречаем Ермолова, временного фаворита императрицы, не успевшего, однако, подорвать престиж Потемкина. В своих «Записках» Державин говорит, что он обещал купить Ермолову в Тамбовской губернии рысистую лошадь и впоследствии обещание это исполнил, но переслать лошадь до падения Ермолова не успел. Точно так же «опоздало» и извещение Гаврилы Романовича о том, что по желанию фаворита приискана ему для покупки деревня близ Тамбова.



