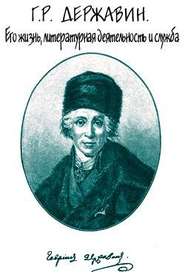 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Г. Р. Державин. Его жизнь, литературная деятельность и служба
Державин с этого времени в разных ситуациях осуждает князя и указывает на его неправильные действия. Благодаря близости к князю ему это было нетрудно. За князем водились крупные грехи. Екатерина сама знала это, но смотрела сквозь пальцы, видя в нем незаменимого слугу, а главное, у него всегда были наготове деньги «для всех возможных случаев и это еще при таком ненасытном моте, как я», писала она Гримму. По уверению Державина, князь управлял государственным казначейством самовластно, в обход законов, раздавал жалованье и пенсии по своему произволу, без высочайших указов, и утаивал доходы с тем, чтобы выслуживаться пред государыней, как бы вдруг открывши новый источник. Другие современники подтверждают это обвинение. Порошин передает разговор с Никитой Паниным, который много удивлялся, как фортуна поставила князя столь высоко; при этом упоминалось о разных случаях, которые могут оправдать такое удивление. Как бы ни было, нельзя не признать, что Державин, по личным мотивам, обманул доверие своего покровителя. В неудовольствиях, конечно, виноваты были обе стороны. Вяземского обвиняют в том еще, что он гнал со службы литераторов. «Когда им заниматься делами, когда у них рифмы на уме», – говорил он. Возможно и то, что он возненавидел поэтов благодаря Державину, который намекал на него в сатирических стихах по поводу барельефа нагой Истины в Сенате. Поэт уверяет, что князь нашел вид ее соблазнительным для Сената и приказал несколько ее «прикрыть». К Вяземскому относят знаменитую «Челобитную Минерве» Фонвизина, где автор жалуется на вельмож-невежд, преследующих поэтов, и, указывая на решение не принимать их на службу, просит «таковое наш век ругающее определение отменить» и так далее.
Державин в это время уже стал известен как поэт и как автор «Фелицы». Награды и милости Екатерины его ободрили, и он обратился к Вяземскому с письменной просьбой об отставке. Князь велел ему подать просьбу через Герольдию в Сенате, по форме. Долгое время князь не выпускал доклада, а между тем молва о ссоре дошла до государыни. Наконец доклад Сената был ей представлен; утвердив его 15 февраля 1784 года, она поручила Безбородко сказать «певцу Фелицы», что будет иметь его в виду. При увольнении ему пожалован был, по закону, чин действительного статского советника. Таким образом достиг Державин «степеней известных».
Впервые обратили внимание на Державина в литературе с появлением двух его «Песен Петру Великому». Одна из них, говорят, вошла в большое употребление у масонов, так как они особенно чтили Петра за его простоту и смирение в труде. Стихи отвечали этому настроению:
Лучи величества скрывая,Простым он воином служил;Вождей искусству научая,Он сам полки на брань водил.Владыка будучи полсвета,Герой в полях и на морях,Не презирал давать отчетаСвоим рабам в своих делах.Державин не решался еще подписывать имя, но тем не менее эти опыты вводили его в круг таких сотрудников журнала, как Княжнин, Капнист и Хемницер. Влияние их на малообразованного поэта скоро дало свои плоды, а пока неизвестность была кстати. Державин сам рассказывает, как однажды на обеде у Хераскова известный литератор, масон и придворный Иван Перфильевич Елагин стал критиковать в его присутствии оду какого-то Державина. Напрасно толкала оратора хозяйка, он говорил, ни о чем не догадываясь. Державин смутился и краснел. После обеда Елагин, узнав о своей неосторожности, готов был как-нибудь загладить вину, но Державина уже не нашли. Прошло несколько дней – Державин не показывается. Наконец он является снова с веселым лицом. «Два дня сидел дома с закрытыми ставнями, – объяснил он, – все горевал о моей оде; в первую ночь даже глаз не смыкал, а сегодня решился ехать к Елагину, заявить себя сочинителем осмеянной оды и показать ему, что и дурной лирик может быть человеком порядочным и заслужить его внимание, – так и сделал. Елагин был растроган, осыпал меня ласками, упросил остаться обедать, и оттуда я прямо к Вам».
Несомненно, в это время Державин стал яснее сознавать свое призвание и ответственность таланта. Он ищет пути и благодаря влиянию друзей начинает отходить от рабского подражания Ломоносову в напыщенной оде, как, например, в «эпистоле» к Шувалову. «Знаменитые невежды», по выражению Фонвизина, не признавали еще поэзию серьезным занятием, но под покровительством Екатерины литература приобретала значение. Правда, она называла свои литературные занятия бумагомараньем, однако не могла видеть пера чистого, чтобы «не обмакнуть онаго в чернила», как писала она Гримму. Она хотела держаться правила: не воспрещать честным людям свободно изъясняться, и хотя не выдержала роли до конца, но во всяком случае начало известности Державина совпадает с тем временем, когда Вольтер называл ее монархиней, que pense en grand homme и que permet qu’on pense (мыслящей как великий человек и разрешающей мыслить).
В это время возник ряд журналов и образовался круг писателей и любителей литературы. Уже раньше в доме князя Вяземского Державин познакомился с Козодавлевым и Храповицким, людьми весьма образованными литературно; теперь к числу упомянутых сотрудников «Вестника» надо прибавить имя Львова, и тогда влияние современников на Державина определится вполне.
Львов Николай Александрович также не получил основательного воспитания, но, будучи необыкновенно даровит и любознателен, много читал, путешествовал и усвоил себе светское образование. Литературное его развитие совершилось главным образом под влиянием французских и итальянских писателей. Он любил легкую, шуточную поэзию, сам писал стихи в этом роде и между друзьями своими слыл русским Шапелем – известно, что в то время каждый русский писатель непременно должен был уподобляться какому-нибудь иностранному образцу. В поэзии Львов ставил выше всего простоту и естественность, причем знал уже цену народному языку и сказочным преданиям. Разнообразием своих талантов и обширной деятельностью при его положении в высшем обществе ему нетрудно было приобрести репутацию тонкого знатока искусств и светского критика. Такую репутацию составил он себе при дворе и в литературе.
К одной эстетической школе со Львовым принадлежал и друг его Хемницер. Первые литературные опыты его были слабы, но с переходом к басне он становится как бы новым человеком, усваивает простоту и естественность в соединении с народным духом как необходимым элементом нового рода поэзии. Это совершилось, как видно из рукописи его, не без влияния Львова и Капниста. Державин впоследствии всегда оставался горячим поклонником его басен.
В то самое время, когда Хемницер готовил их к печати, Державин присоединился к названному кружку лиц и невольно подчинился влиянию их эстетических взглядов, тем более что сам уже не был собою доволен. Потребность стать ближе к правде и природе он сознал, ознакомившись с теорией Батте, главным требованием которой было «подражание изящной природе».
«С 1779 года, – говорит Державин в „Записках“, – избрал я совершенно особый путь, руководствуясь наставлениями Батте и советами друзей моих, H.A. Львова, В.В. Капниста и Хемницера, причем наиболее подражал Горацию».
В самом деле, «эпистола» к Шувалову напоминала послание Ломоносова к тому же вельможе, и вдруг через месяц после нее в «Вестнике» явилась пьеса, в которой никто не мог бы узнать того же автора, и многие спрашивали: «Кто писал это? Кто этот новый талант, так много обещающий?» Это была ода «На смерть князя Мещерского», поразившая читателей небывалою звучностью стиха, силою и сжатостью поэтического выражения, наконец, величием образов, обнажающих печальную истину о непрочности жизни и благ ее. Здесь в первый раз талант Державина обнаружился с полным блеском. Основная мысль оды – грозное владычество смерти – встречается часто у Горация и нередко также разрабатываема была поэтами европейскими XVII и XVIII веков.
Державин бывал на лукулловых пирах князя, и весть о смерти последнего поразила его. Здесь уже не отвлечение только, но и картина, не лишенная красок и жизни. Ничтожество всего живущего пред смертью олицетворяется в ее видении:
Глядит на всех – и на царей,Кому в державу тесны миры,Глядит на пышных богачей,Что в злате и сребре кумиры и т. д.В заключение – утешительный аккорд: умереть надо сегодня или завтра, все равно, «жизнь есть небес мгновенный дар». Идеал благополучия – душевный покой и мирная жизнь. Источник мирной жизни поэта – ключ стихотворства. В поэзии отражается красота природы.
Разнообразие таланта Державина проявляется вслед за тем в стихах на рождение Александра Павловича в день, «когда солнце оборачивается на весну».
Державин сам назвал эту оду «аллегорическим сочинением». Пьеса своей игривой легкостью, грацией и самой формой резко отличается от торжественных од и потому отнесена им самим к разряду анакреонтических стихотворений. Эти последние показывают его живое сочувствие к древнему миру.
В самом деле, его «застольная песня» «Кружка» в этом поэтическом жанре годом раньше уже пользовалась известностью, была положена на музыку придворным гуслистом Трутовским и сделалась любимою песнью на дружеских пирах. В ней много живого веселья и остроумия, не утратившего и теперь значения известного рода житейской философии.
Бывало дольше длился век,Когда диэт не наблюдали.Был здрав и счастлив человек,Как только пили, да гуляли.Давно гулять и нам пора,Здоровым бытьИ пить. Ура, ура, ура!Все упомянутые здесь стихи впоследствии приводили в восторг несколько поколений и заучивались наизусть. И действительно, живость красок, разнообразие и пластичность картин, прелесть языка, неслыханные до того плавность и музыкальность стиха не могли не производить сильного впечатления.
В поэзию Державина начинают уже проникать гуманные идеи, порожденные началом царствования Екатерины и западным влиянием. Отдавая справедливость поэту, надо заметить, что не только одни блестящие победы воспевались им. Например, в оде на рождение Александра он говорит: «Будь страстей своих владетель, Будь на престоле человек». Эти строки не раз отозвались в сердце юноши, будущего преемника Екатерины.
В некоторых из перечисленных од появляются не менее важные интонации, мысли и картины. В них поэт напоминает человеку о строгих уроках жизни, о превосходстве и торжестве духовного мира над телесным, об обманчивом блеске почестей и наслаждений. Противоположность смерти и жизни, горя и радости выражается то в ярких образах, то в шутливой, но тем не менее сатирической форме. Насколько могла тогда поэзия влиять непосредственно на современников или участвовать в воспитании нового поколения, это вопрос другой, заслуживающий более серьезной разработки. Блестящие живые картины отвечали богатому воображению Державина и заслужили ему определение поэта-живописца. Мысль о поучении как об одном из элементов поэзии развивалась под воздействием современного французского и общеевропейского влияний, укреплялась примером Екатерины и находила живой отклик в поклонении древним, особенно Горацию. Благодаря этому элементу, мы видим в Державине поэта-философа. Благодаря тому же почти все стихотворения Державина страдают длиннотой, резонерством; риторика без образов преобладает, но эта поэзия удовлетворяла вкусу и потребностям своего времени. Стихотворения Державина в «С.-Петербургском вестнике» все еще печатались без подписи, но издатель, печатая их, сообщил автору, что «публика творения его одобряет», и Державин не без основания говорит в оде «На смерть князя Мещерского» о себе:
Зовет, я слышу, славы шум.Глава III
«Фелица»
В поэзии Державина, как в фокусе волшебного фонаря, оживает блестящая феерия знаменитой эпохи. Мы знаем заранее, чего в ней искать. Век Екатерины – отражение века Людовика XIV во Франции. Наряду с заимствованием и подражанием этот век сохраняет своеобразные черты национального характера. Мы видим честолюбивые замыслы, громкие победы, расцвет литературы, «философию на троне», роскошный двор, напыщенных раболепных вельмож вокруг величавой царственной «жены», изысканную любезность и восточный деспотизм, «Наказ», идеи Локка о воспитании, сатиру на нравы и восточную распущенность… видим, словом, отражение знаменитого века контрастов, отражение эпохи, не повторяющейся дважды в истории народа.
На вопрос: кто ты? – Державин имел бы право ответить: «Что в имени тебе моем: я – певец Фелицы». Век Екатерины, по непреложным законам Провидения, должен был иметь свою «придворную поэзию», и если не вдохновенным, то все же выразительным, талантливым представителем этой поэзии становится Державин.
Он вступил на истинный свой творческий путь, когда дерзнул первый «в забавном русском слоге о добродетелях Фелицы возгласить, в сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить».
В поэзии Державина истина и лесть сплетаются чрезвычайно искусно. «Владыки света – люди те же, – говорит он: – в них страсти, хоть на них венцы», – однако и страсти эти приобретают под пером его благородный или изящный характер, и сатира не вредит личным отношениям автора. «Как солнце, как луну поставлю, – обращается он к Екатерине, – …тобой бессмертен буду сам», поясняя в примечании, что и древние поэты своих героев помещали в число созвездий и светил небесных, защищаясь таким образом от упрека в экзальтации.
В ярких красках рисует «Фелица» двор Екатерины и жизнь вельмож ее, исполненную фантастической роскоши, барской прихоти и страсти к наслаждениям. Современники узнавали здесь себя, видели знакомые лица и нравы. Во дворце Екатерины в Царском Селе была прекрасная колоннада-галерея, на которую вела широкая каменная лестница, украшенная бюстами Геркулеса и Флоры. Здесь государыня часто ходила, особенно в воскресенье, когда в саду бывало много гуляющих. В уборной она слушала дела, доклады и видела у ног своих господарей, кавказских владетелей, гонимых государей, приезжавших просить помощи или убежища, знаменитых ученых и поэтов. Здесь и Державин приближался, то как поэт, то как докладчик, и в числе украшавших галерею мраморных полукумиров, где был и Ломоносов, наш поэт уже тогда мечтал иметь со временем право занять место, только, по его словам, как певец Екатерины… «Ты – славою, твоим я эхом буду жить».
Не столько бюсты украшали дворец, сколько знаменитые «орлы» Екатерины, ее вельможи и фавориты. Они напрягали все усилия, чтобы доставлять Екатерине любимые развлечения, а лира Державина содействовала им, то описывая праздники в ярких красках, то воспевая присутствующих.
Екатерина умела располагать к себе, привязывать людей не только любезностью и умом, но и щедростью. Своим любимцам она не отказывала ни в чем, смотрела не раз сквозь пальцы на явные хищения и не была довольна, если услужливые люди доводили об этом до ее сведения. Расточительность вельмож нередко превосходила чуть ли не ее собственную. Недаром Потемкина называет Державин вторым Сарданапалом. Описание наполовину в прозе, наполовину в стихах потемкинского праздника у нашего поэта – исторический документ, яркая картина эпохи. Мы видим здесь Семирамиду Севера в обстановке, вполне отвечающей ее характеру, величию и ее исторической роли.
Праздник вызван переменой в расположении императрицы к ее фавориту. Потемкин встревожен. Он видит подтверждение доходивших до него слухов о перевесе влияния Зубова. Болезненная тоска, тайные предчувствия снедают душу честолюбца. Его замыслы и победы уже не удовлетворяют повелительницу, и он задумывает испытать последнее средство вернуть ее нежность: доказать, что в преданности к ней никто не может с ним сравняться. Он решает дать ей в своем Таврическом дворце праздник, который неслыханным великолепием должен затмить все прежние празднества этого рода.
Не только Державин был поражен, но сама Екатерина, не узнавая превращенных зал, спрашивала: «неужели мы там, где были прежде?» Сто тысяч огней внутри дома: карнизы, окна, простенки – все усыпано чистыми кристаллами горящего белого воска. Фонари свешиваются с высоты, отражая свет в хрустале и камнях… Стены, окна усыпаны горящими звездами, цепями из драгоценных сверкающих каменьев; эффект света – зарево, радуга, тень. Искусство везде подражает природе. Целые рощи апельсинов, лимонов; виноград на тычинах,[5] ананасы, лилии, тюльпаны… Пруды, золотые рыбки, соловьи, песнь которых смешивается с музыкой. В зимнем саду – храм. Князь опускается здесь в присутствии Екатерины и двора на колени пред алтарем с изображением Фелицы и благодарит монархиню за ее благодеяния. Она милостиво подымает его и целует в лоб.
После ужина императрица удаляется с бала. Уже поданы были колесницы. Внезапно послышалось нежное пенье с тихими звуками органа с висящих хоров, закрытых разноцветными стеклянными фонарями. Все молится и внимает хору, воспевающему Екатерину. Потемкин повергается опять к ногам монархини. Сама императрица была тронута до слез. Многие потом усматривали в этом и в волнении Потемкина предзнаменование его близкой смерти. Он видел Екатерину в самом деле последний раз в своем доме.
Державин не раз старался изобразить идеал вельможи, которого первый долг «змеей пред троном не сгибаться, стоять – и правду говорить». Княгиня Дашкова, будучи директором Академии наук и издавая «Собеседник», просила Державина написать что-нибудь в честь Потемкина, в угождение императрице. Исполняя эту просьбу, поэт назвал вельможу Решемыслом, по имени выведенного Екатериной в «Сказке о царевиче Февее» героя, под которым она сама разумела Потемкина. Лично не зная его совсем, Державин хвалил в его лице достоинства вельможи вообще и в одной из позднейших рукописей к заглавию оды («Решемысл») прибавил слова: «или изображение, каковым быть вельможам должно». Идеал этот не отступал от известного шаблона, установившегося издавна. Сумароков в письме о достоинстве говорил: «Честь наша не в титлах состоит; тот сиятельный, который сердцем и разумом сияет, тот превосходительный, который других людей достоинством превосходит, и тот болярин, который болеет за отечество». Любопытно, что Державин, несмотря на непочтение к Сумарокову, не нашел ни нового, ни более искреннего слова в изображении вельможи и рисует идеал в тех же почти выражениях: «Я князь – коль мой сияет дух; Владелец – коль страстьми владею; Болярин – коль за всех болею, Царю, закону, церкви друг». Насколько идеал был близок к действительности, видно уже из «Записок» самого Державина.
Державин говорит, что ода «Фелица» была написана им во вкусе императрицы, так как она любила забавные шутки. Любопытно в этих словах выражение самосознания поэта. Путем критического анализа, путем сравнительного изучения истории, быта и литературы мы придем к тому же выражению характеристики поэта и отношения его к современности. Вкус, образы, идеи – все дышит, если можно так сказать, Екатериной в каждой строке оды. Удивляться ли тому? Фонвизин стоял некоторым образом в оппозиции к Екатерине, и тем не менее идеи «Наказа» легли в основание современной «Фелице» комедии «Недоросль». Державин все, кроме поэтического выражения мыслей, кроме картинных описаний действительности, заимствует у самой Екатерины. Если исключить шуточный тон, любезный ей, в основание содержания Державин берет ее же сказку о царевиче Хлоре и пользуется таким образом модной аллегорией восточных сказок.
Подобно тому, как в «Недоросле» устами Стародума говорят французские философы и русские стародумы, в «Фелице» многие строфы представляют собой рифмованное переложение статей «Наказа» и других уложений. «Фелицы слава, – говорит он, – слава Бога», который не только в общей форме проявляет великодушие и благость, но
Который даровал свободуВ чужия области скакать,Позволил своему народуСребра и золота искать,Который воду разрешаетИ лес рубить не запрещает,Велити ткать, и прясть, и шить и т. д.Все строки здесь суть «начертания» Екатерины. Она подтвердила данную Петром III дворянству свободу путешествовать по чужим краям; издала указ о праве. землевладельцев разрабатывать в собственную пользу золото и серебро на своих участках, дозволила свободное плаванье по морям и рекам для торговли, распространила право собственности владельцев на леса, в дачах их растущие, разрешила свободное развитие мануфактуры и торговли… По образному выражению поэта, этими указами она как бы велит гражданам извлекать, где можно, пользу, «развязывая ум и руки, велит любить торги, науки…» После «Наказа» она продолжает творить законы, сочинять дворянскую грамоту, устав благочиния и в них «блаженство смертным проливает». Державин в «Записках» говорит, что императрица, подобно Трояну, была очень снисходительна к людям, отзывавшимся злоречиво о ее слабостях. В «Наказе» правда говорится, что слова могут быть сказаны в разных смыслах, и поэтому нельзя по ним, заключить об оскорблении Величества и наказывать как за действие. Таким образом, она «о себе не запрещала и быль, и небыль говорить». В начале царствования Екатерины «слово и дело» перестало быть грозой всякого честного и кроткого гражданина. Стало возможным даже «в обедах за здравие царей не пить», не боясь казни, тогда как при Анне Иоанновне достаточно было подобного доноса, чтобы попасть в тайную канцелярию. Перестало считаться преступлением подскоблить описку в строке с именем императрицы «или портрет неосторожно ее на землю уронить». За перенос титула прежде писцы наказывались плетьми. Если же кто ронял монету с изображением государыни, достаточно было произнести «слово и дело»,[6] и несчастный подвергался «розыску» в Тайной.
Наряду с государственной доблестью Екатерины поэт не забывает хвалить ее достоинства как человека и женщины: простоту ее образа жизни, трудолюбие, кротость, любезность, правосудие и, наконец, любовь к литературе. Все качества ее ярко выступают при сравнении; последнее особенно оригинально выражено в строфе, где Державин, подсмеиваясь над современной модой монархов заниматься ручным трудом и намекая на упражнения Людовика XVI в слесарной работе и короля испанского будто бы в делании макарон, говорит:
В те дни как Мудрость среди троновОдна не месит макаронов,Не ходит в кузницу ковать,А разве временем лишь скучнымИзволит муз к себе пускатьИ перышком своим искусным,Не ссоряся никак ни с кем,Для общей и своей забавыКомедьи пишет, чистит нравыИ припевает хем, хем, хем…В словах, подчеркнутых нами, ясно выражается характер отношения к литературе самой Екатерины, Державина и современников, и выражение это ценно для нас своей непосредственностью, наивным самосознанием. В одном только не могла Екатерина служить Державину образцом; она, по его же выражению, «коня Парнасска не седлает», то есть не пишет стихов. «De ma vie je n'ai su faire ni vers, ni musique» (в жизни моей не умела сочинить ни стихов, ни музыки), – писала она Вольтеру. Либретто для опер ее писал Храповицкий; в шуточной поэме «Леониана», героем которой был Лев Нарышкин, ей принадлежал план смешных похождений, а стихи сочинялись Де Линем, когда он сопровождал ее в путешествии по Волге.
«Фелица» была не первой попыткой воспеть Екатерину; точно так же и другая сторона этой оды – сатирическая в описании двора и вельмож – имела предысторию. В стихотворении «Модное остроумие» Державин уже в 1776 году пытался изобразить современное ему легкое отношение общества к вопросам чести и добра. В окончательной форме стихи эти напечатаны только в 1783 году в «Собеседнике» и в первый раз сближают Державина с сатирой Фонвизина, Екатерины и журналов того времени. «Модное остроумие» заключается в том, чтобы не «мыслить ни о чем и презирать сомненье, на все давать тотчас свободное решенье», мало знать, много говорить, льстить, затем:
Любить по прибыли, по случаю дружиться,Душою подличать, а внешностью гордиться…Сатирические намеки в оде «Фелица» находят объяснение как в записках самого поэта, так и в фактах, освещенных историей. Если поэт ставит в заслугу Екатерине, что она «коня Парнасска не седлает», то, разумеется, он указывает этим на нелепость и наглость опытов бездарных кропателей од; «к духам в собранье не въезжаешь», говорит он, подразумевая масонов, которых осмеивала сама Екатерина. Масонство, конечно, было явление серьезное и заслуживало большего почтения, но адепты его часто доходили до нелепости и становились смешны. Многие вельможи занимались охотно магнетизмом и алхимией, и по недостатку образования и серьезных научных сведений занятия эти обращались часто в забаву. С другой стороны, явления двора, внешняя жизнь, черты нравов давали материал для описаний с натуры, поэтических образов и картин.
Когда Державин хвалит Екатерину, говоря: «подобно в карты не играешь, как я, от утра до утра», он рисует немаловажную живую черту века. В то время при дворе карты составляли ежедневное занятие и часто влекли за собой важные последствия. Не говоря уже о том, что ставкой служили стада живых людей, за ними забывались важнейшие политические дела и соображения. При дворе Елизаветы приближенные к ней дамы играли в фараон с утра до вечера и ночью. Екатерина II, будучи великой княжной, также должна была принимать участие в этих забавах.



