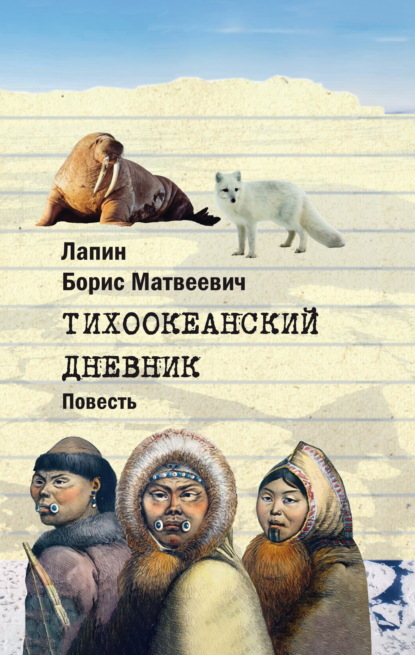
Полная версия:
Тихоокеанский дневник
Судовой фельдшер и младший механик стояли на корме и долго махали ему вслед фуражками. Затем, спускаясь в каюту, механик заметил:
– Хотел бы я знать, как скоро он здесь подохнет. Замечательная постановка дела! Посылают молокососишку в такое место. Тут ему и крышка. На Чукотке, брат, требуется выдержка и умение ладить с туземцами. Да еще живи в пологе, ешь тюлений жир! Верная, в общем-то, смерть.
– Да! Того… гигиена! – глубокомысленно-непонятно отозвался фельдшер.
Через год пароход снова пришел в Наукан. Механик бился об заклад, что мальчишка, высаженный в селении, давно умер от цинги. Но едва пароход стал на якорь, нау-канский учитель подгреб к бортам парохода в неустойчивой эскимосской лодке. Она была сделана из выдубленной, как пергамент, моржовой шкуры. Сквозь дно ее просвечивала зеленая вода. Учитель был краснощек и здоров, оброс бородой и громко говорил с эскимосами на их языке. Пароход стоял возле Наукана три дня. Когда он уходил, учитель бодро вколачивал в землю бревна, отпущенные капитаном для постройки жилого дома. До этого учитель жил в душном эскимосском пологе.
Я сейчас же отправился разыскивать его. Должно быть, способнейший и решительный парень. Обязательно надо его увидеть.
Домик, построенный учителем из четырех бревен и ящиков от галет, стоял на откосе. У него был такой вид, будто он готов унестись в море вместе с ветром. Я раскрыл дверь. Внутри никого не было. «Учителя здесь нет. Учитель ушел пешком в Уэллен. К большим русским начальникам», – сказал мне встреченный на улице старик эскимос. У входа в домик висел плакат с какой-то надписью русскими буквами на неизвестном языке. Над дверью торчал обрывок красной материи. Я вернулся внутрь. Дом состоял из одной комнаты, приспособленной под класс. На столике валялись тетради и книги, присланные с прошлогодним пароходом из центра.
Учебник географии на русском языке, политграмота Коваленко и хрестоматия «Живое слово». В тетрадях упражнения маленьких эскимосов, выведших несуразными каракулями непонятные для себя фразы: «Соцлзм ест советская власть плуз электровкация».
В углу я заметил крохотную татуированную девочку, складывавшую из моржовых зубов какую-то незамысловатую игру. Увидев меня, она бросила игру, закрывая лицо рукавом хитрым и застенчивым жестом, общим для детей всего мира. Это была одна из учениц науканского учителя.
Я подошел ближе и заговорил с ней по-русски. Она отвечала на каком-то исковерканном наречии, очень напоминавшем маймачинско-русский диалект, принятый в Сибири, на китайской границе. Науканский учитель достиг заметных успехов. Надо принять во внимание, что, когда он высадился, он не знал ни английского, ни эскимосского языка, и ему пришлось потратить почти год, чтобы научиться объясняться со своими учениками.
– Я очень хочет учиться, вещем, моя поедм Владевоосдук. Скачие кабетдан забирай меня земля русский белый человек. Я дзинчинка мало-мало восемь годы. Кавах-ми-ях-кам-у-ви-ак Владевоосдук шибко вери гуд.
Эскимосский язык, чукотский, русский и английский – вот начало зарождения нового лингва франка, который идет на смену англо-туземным жаргонам, существующим в этой части Тихого океана.
Это было все, что напоминало о советском влиянии в селении Наукан. Зато в соседних юртах я увидел убедительные доказательства многолетней торговли с американцами.
В юрте Эйакона, сына Налювиака, племянника Ипака, на стене висело распятие. Здесь было нечто вроде туземной часовни. Когда-то тут жил миссионер. На большом листе бумаги был нарисован умилительным барашком белокурый Иисус Христос и красовались поучительные детские стишки, похожие на маргаритки и кружевные занавески в домах Новой Англии:
Бя, бя, овечка, есть ли шерсть у тебя?Да, да, сударь, полных три мешка!Один мешок – хозяину, один – его жене,А один мешок – мальчику, который приходит ко мне.Американцы присутствовали на Дежневе, и память о них будет жить долго. В давние годы эскимосы не знали табаку, не пили спирта, никогда не видали чаю и сахару. Первые шхуны американских торговцев в течение нескольких лет раздавали эти товары бесплатно. И затем, когда спирт и табак начали входить в привычку, шхуны снова начали посещать пролив и требовать в обмен на товар пушнину. Мне рассказывал об этом сегодня старик Ипак. Крепкий, пропахший рыбой эскимос. Он говорит по-английски.
Выйдя из дома учителя, я долго сидел на большом зеленом камне у входа. Внизу бились волны, и полз едкий хмурый туман. Даже здесь, на границе с Америкой, окраина Восточной Сибири представляет собой мрачную полярную пустыню. Страшно подумать, как живут люди в Средне-Колымске. Есть ли там вообще люди, похожие на современных людей? Что ждет меня там? И все-таки я знаю – там такие же люди, как везде.
Где-то я читал, чуть ли не у Тана-Богораза[2], описание жизни на Колыме: выродившиеся казаки, пьяные озверевшие чиновники, полоумный фельдшер, который в долгие полярные ночи наливал в газ разбавленный спирт и зажигал по углам избы жировые плошки. Он и его жена раздевались догола, на четвереньках лакали спирт и лаяли по-собачьи.
«Мои собеседники – камень и вода», – подумалось мне. И в ответ моим мыслям с востока заскрипел упорный морской ветер, загремели валуны на откосах, захлопали шкуры над круглыми шапками юрт, завыли собаки. Шатаясь и махая руками, как огромные птицы, возвращались последние эскимосы с берега. Ветер выгнал из них хмель. В такой ветер любят выплывать моржи на прибрежные рифы.
Я увидел дозорного эскимоса на скале. Он одет в отороченную волком кагаглу. У него большой чуб, свисающий над бритым затылком. Подвизгивая, он пел веселую охотничью песню. Я записал ее. Эскимос Ипак перевел ее содержание:
Хау, хау, песец!Белый песец – не красный!Попал в капкан,Ыхха! жрал оленину!Дурак, совсем дурак!Это была приманка!Он стоял на мысу и пристально смотрел в бинокль, ища моржей на вечной зыби океана.
Первую ночь на этом берегу я провел в поселке Нау-кан. Шинявик разбудил меня на рассвете, закричав над моим ухом, как морж.
Пробуждение полно испарины. Ноет голова. В занятой мной комнате учителя сор, холод и беспорядок. На стенах, обитых желтым американским картоном, висит липкий бессонный пар. Он уносится в раскрытое горло железной печки, в которой тлеют таинственные полупотухшие угли. Я вылез из спального мешка, линяющего на белье желтой оленьей шерстью, и подошел к окну.
Так вот каким оказалось первое эскимосское утро!
На хлипкой болотистой лужайке, лежавшей перед моими глазами, рвались ободранные эскимосские собаки из упряжки Шинявика. Он взялся отвезти меня в Уэллен, к жилищам «русских начальников».
Я оделся и вышел на улицу. Вещи мои уже были сложены и привязаны к саням. Я грузно опустился на них. Сани повлеклись вперед. Шинявик бежал сбоку, прикрикивая на собак.
Тропинка вилась по мокрому скату горы, подымаясь на вершину упирающегося в пролив мыса. Отсюда открывался горизонт на много километров вокруг. Впереди протекал пролив, отделяющий Америку от Азии. Слева лежал полюс. Молчаливая неизвестность. Ледовитый океан. Справа – зеленые и бурные омуты Тихого океана. Это было место, на котором глобус, изображающий земной шар, переставал быть условностью и становился очевидностью, ощутимой как вещь. Последний мыс старого мира, как зуб, щерился на туманный восток. Перед ним полоскалась мутная, как в корыте с грязным бельем, вода пролива. Сзади подымались, стелились равнинами, горбились холмами двадцать тысяч километров суши по великой материковой диагонали от Дежнева до Финистерры. Мыс оказался обыкновенной бурой скалой, усеянной птичьими гнездами и выщербленными дырами. Но для меня он был форпостом Азии, заброшенным далеко на восток. Каменный вал несясь с запада, застыл над зеленой водой, гранитным лбом уперся и стоит, стачиваемый волнами и льдами. Я испытал странное чувство, как будто передо мной ожила географическая карта. И земля раскрыта внизу, как учебник. Мне показалось даже, что на востоке, между берегами двух материков, я ясно различаю прямую черную черту, отделяющую западное полушарие от восточного.
Кажется, это не было обманом зрения. Через пролив протекало Берингово течение, вода которого отличается по цвету от окружающих вод.
Ощущение необычности езды в санях летом, по мокрой болотистой тундре, скоро исчезло. Я следил за тем, чтобы не опрокинуть нарт, несшихся вперед под гиканье и подхлестывание Шинявика.
Через три с половиной часа мы достигли крутого, покрытого складками оставшихся с весны снегов холма, у которого стоит поселок Уэллен.
Селение чукчей выкривилось внизу под горой, протянувшись по узкой косе – между океаном и лагуной. Оно состояло из трех десятков туземных шатров, круглых, как перевернутые чугунные котлы, и четырех косых деревянных домишек, будто разметанных по косе ветром.
Над берегом лагуны – коричневое, легкое, как папиросная коробка, – стояло здание Чукотского РИКа (Районный исполнительный комитет (райисполком)), построенное в прошлом году. Саженях в пятидесяти от него стояли длинное бревенчатое здание школы и баня с радиомачтой, торчащей над поселком, как гигантский тотем.
Шинявик рассказал мне, что чукчи считают ее богом русских людей. В этой мачте какая-то страшная и символическая значительность. Это становится особенно ясным во время штормов, когда она гудит под напором ветра, гнется и поет.
Злосчастная судьба этой первой радиостанции на Чукотском полуострове уныла и скучна, как сама тундра.
Станция была поставлена весной 1926 года, но в тот год в Уэллен не успели доставить радиста. Он был прислан из Владивостока только в 1927 году и оказался на редкость неопытным. Станция так и не начала работать. В сущности, не он был в этом виноват. Только что окончив краткосрочные курсы при Наркомпочтеле, он получил наряд с биржи на место заведующего чукотской радиостанцией. Он прожил год в Уэллене, от навигации до навигации, и вернулся обратно с пароходом «Индигирка».
Таким образом, в нынешнем году у Чукотского полуострова нет связи с миром. Взаимообмен между двумя РИКами соседних районов – Чукотского и Анадырского – длится в течение не менее четырех месяцев – два месяца туда и два месяца обратно.
В РИКе меня встретил заместитель председателя тов. М. и старший милиционер района Пяткин. Остальные русские уплыли в лодках смотреть Инчаунские лежбища, куда, по сообщениям чукчей, только что пришли моржи.
Пяткин – высокий, рябой детина в меховой кухлянке и красной милицейской шапке. За четыре года службы здесь он научился говорить по-чукотски.
Милиционер сейчас живет в Уэллене, отдыхая после очередного объезда вверенного ему района. Район его так велик, что объезд продолжался ровно год. Конечно, экспедиция носила не столько деловой, сколько показательный характер.
С этим Пяткиным прошлой осенью, когда он подъезжал к мысу Ванкарема на северном побережье Чукотки, случилось странное происшествие, похожее на завязку авантюрного романа.
Он ночевал в маленьком стойбище возле мыса. Его разбудил на рассвете Сиутагин, хозяин яранги, в которой он провел ночь:
– Вставай, однако, Пятка, за мысом стоит большая лодка! Такая, все равно как кит.
Пяткин выскочил из юрты. Возле скалы, подступавшей к самому мысу, качалась какая-то американская шхуна. По его рассказам, это была скорее всего большая увеселительная яхта. У нее имелась белая труба и стройные мачты, опутанные кружевом бегучего такелажа, а на трубе значилась английская надпись: «с/с Мэри-Энна Сиатталь Уаш».
Экипаж яхты составляли ирландцы – повара и мулаты – матросы. Пассажирами были молодые американцы – веселые богатые юноши и девушки, отправившиеся в путешествие по океану. Яхта принадлежала мисс Элеонор Рокфеллер, дочери Эдвина Рокфеллера-младшего.
Все эти подробности выяснились значительно позже. Их сообщил эскимос Джо, ездивший в начале апреля за патронами на Малый Диомид.
В тот день яхта качалась на волнах возле мыса. Снасти ее были покрыты копотью дальних плаваний, борта изъедены ракушками южных морей, а кочегары больны тропической гонореей.
Пяткин усмотрел в появлении яхты в его районе нарушение законов международного права и, взяв винчестер, сел в вельбот Сиутагина и отправился на яхту, чтобы заявить капитану, что тот должен немедленно развести пары и покинуть чукотские берега. На яхте ни один человек не понимал по-русски. Пяткин встретил здесь просторные каюты, кают-компанию, сверкающую красным деревом, купальный бассейн, гнусавый говорок лос-анжелосского конферансье из рупора «громкоговоруна», утренние туалеты дам.
Пяткина пригласили пить чай, и он не смог отказаться. Он ел апельсины и ананасы из ледяных погребов Рокфеллера, высасывал сочную мякоть южных фруктов, всю нежную кислоту и терпкую сладость которых может оценить только тот, кто три года не видел зеленого лука, моркови и огородной репы.
Почти на полчаса Пяткин был взят в плен пулеметным щелканьем «кодаков» и восторженными возгласами желторотых миллионеров.
Они толпились вокруг него и вытаскивали из кают старые английские книги о плавании к берегам Полярной Сибири, где были изображены голые туземцы и мохнатые русские казаки. Они старались открыть в лице Пяткина сходство с этими лицами, и громко кричали: «О, русский урьядник! Питтореск! Рэшан урьядник!»
В конце концов Пяткин, выпив чаю и поняв, что от этих людей ничего нельзя добиться путного, снова сел в лодку и возвратился на берег. Через несколько часов и яхта подняла якорь и ушла в пустынное море.
Самое интересное, однако, то, что рассказывают об этой истории чукчи. Здесь можно наглядно уяснить себе, как создается устное предание, на основании которого будущий исследователь, быть может, когда-нибудь попытается восстановить прошлое страны.
Я слышал вчера две версии этого рассказа – от Уанкака, сына Посетегина, и от моего здешнего приятеля Кыммыиргина.
Уанкака говорил:
– Приходит к мысу, однако, большой корабль, на нем высокий усатый человек, все равно как норвежец. Он зовет: «Приходи кто-нибудь с чукотской земли». Приходит Пятка, говорит: «Я главный начальник этой земли». Высокий усатый как схватил его за шиворот, говорит: «Я пришел копать золото, веди меня, однако, а то умрешь». А Пятка отвечает: «Сейчас поведу тебя, только пусти шею», а сам как перекинется со льда, как нерпа, и упал в воду, а сам, как все белые люди умеют плавать, стал вот так бить руками по воде и быстро-быстро поплыл, выплыл на скалу, взял винчестер и пробил шкуру корабля. Капитан испугался, повернул назад – скорей плыть обратно, в американскую землю. А Пятка ничего не заболел, только, когда вылез на берег, велел заколоть собаку и выпил много свежей крови, оттого стал совсем здоров.
По мнению всех людей, хорошо знающих край, чукчи никогда не врут. Во всем, что они вполне понимают, на них можно положиться. В этом рассказе, вероятно, имеет место попытка осмыслить происходившее, потому что ответ Пяткина, который и сам толком не знал, зачем приходила яхта, не могли их удовлетворить.
Очень характерно в этом рассказе восхищение перед подвигом Пяткина, который поплыл «все равно как нерпа». Чукчи, всю свою жизнь проводящие на воде (я говорю об оседлых, береговых чукчах), совершенно не умеют плавать. Это объясняется тем, что в самое теплое время года вода в этой стороне бывает слишком холодна для купания. У чукчей и эскимосов укоренилось представление, что человеку несвойственно плавать, и когда кто-нибудь из них оказывается в воде – перевернется ли лодка или он соскользнет со льдины, – ему даже не протягивают руку помощи. Считается, что «дух воды потянул к себе человека». Чукча Теыринкеу, находящийся сейчас в Петропавловске (послан делегатом на Всекамчатский съезд Советов), в царское время был осужден и отсидел полтора года в тюрьме по обвинению в «неоказании помощи русскому стражнику, упавшему в воду». Интересно, что в половине XVIII века Стеллер, участник экспедиции Беринга, писал о таком же отношении к воде у современных ему камчатских туземцев. Они не только не оказывали помощи утопающим, но стреляли в них из луков или добивали веслами. Если утопающему удавалось спастись, то он навсегда изгонялся из селения, должен был поселиться далеко от деревни, с ним никто не разговаривал, не помогал ему – он считался живым «мертвецом».
Версия Кыммыиргина в рассказе о похождениях милиционера значительно проще, чем рассказ сына Посетегина:
– Был большой шторм, и капитан одной американской шхуны заблудился, компас сломался, пять недель ходил в море. Потом увидел какой-то берег (а это наша земля), думает: наверное, новая земля – никакой человек здесь не бывал, много есть пушнины, можно дешево менять. Только стал на якорь, смотрит – едет русский человек. Много ругался капитан, совсем был сердит, здесь, говорит, нам делать нечего…
Русские Уэллена встретили меня как друга. Я – новый человек и, главное, должен уехать с прибытием шхун Кнудсена. Следовательно, нет опасности, что со мной вместе придется провести целый год в неразлучной и надоедливой близости полярной зимовки. Я каждый день слышу рассказы Пяткина и товарища М. о зимних ссорах, склоках и стычках. Все они похожи один на другой. Стоит записать, например, историю примусной войны, которая и до сих пор ведется в поселке Ново-Марьинском на реке Анадырь. Началась она из-за пустяка, а между тем тянется уже три года и разделила поселок на две враждующие партии. Ей положили начало Козин, Косых, Козлов и Казанцев. Козин – анадырский милиционер, остальные трое – «промышленники». Это следует из имевшихся о них в Анадырском РИКе сведений.
Слово «промышленник», в условиях жизни Дальнего Севера-Востока, может обозначать самые разнообразные профессии, не только охотника-зверолова или рыбака. Иногда оно служит для прикрытия темных дел. Ее примеряют на себя спиртоносы и контрабандные скупщики пушнины. Иногда и обыкновенный золотоискатель на вопрос: «Кто вы?» – отвечает: «Я охотник-промышленник. Зверолов». Настоящий ловец золота не очень-то любит говорить о своем деле. Он всегда боится, что кто-то у него перехватит тайну местонахождений россыпей или покусится на добытое. Если ему сказать, что бояться нечего, потому что государство не только не преследует, но, наоборот, поощряет старателей и облегчает производство на землях, «открытых для работ по добыче золота на правах первого открывателя» (такой параграф имеется в советском законодательстве, не путать «от земель в некоторых заведомо золотоносных районах, где работы ведутся в общегосударственном масштабе»), он недоверчиво усмехается: «Слыхали, слыхали, а небось как дойдет до золота, так найдут предлог оттяпать прииск у старателя. Нет. Мы промышленники!»
И этот же «промышленник», напускающий на себя такую таинственность, за бутылкой водки начинает хвастаться своими открытиями и не только расскажет вам про свои заповедные места в тундре, да еще приврет с три короба, возьмется вести вас на затерянные прииски, к выходам чистой нефти, к углю, к железу, графиту. Поэтому все важные открытия в тундре обязательно переходят из рук старателей к кулакам-предпринимателям, специально подлавливающим «золотых бобров» в селениях на берегу океана. А туда, с открытием навигации, непременно притащится старатель, чтобы посмотреть новых людей с материка и прокатиться хоть раз на пароходе. В течение четырех дней стоянки «Улангая» возле Анадыря «промышленники» беспрерывно толкались в кают-компании, в неимоверном количестве истребляя водку, пиво, коньяк и ром.
Вся эта четверка – Козин, Косых, Козлов и Казанцев – была в приятельских отношениях между собой. Они жили в одном доме и анадырскими весельчаками были прозваны за созвучие в фамилиях «Четыре козла».
С осени прошлого года, когда ушел последний пароход, их дружба была такой, что, казалось, никаким силам ее не расшатать. Но уже в декабре отношения начали немного портиться. Споры возникали обыкновенно из-за дежурства по хозяйству, и каждый ревниво следил за тем, чтобы его сосед не работал меньше, чем следует. Но все-таки эти ссоры не переходили известных пределов, и они не были непримиримыми врагами, как другие обитатели Анадыря, столкновения которых происходили на служебной, официальной почве. Так продолжалось до рокового дня.
Однажды трое «промышленников» лежали в постелях, мотая головами, высунутыми из спальных мешков, как спеленатые младенцы. Козин оделся и вышел из дому, не затворив за собой двери. «Затворяй!» – крикнул ему вдогонку Косых. Но Козин пропустил мимо ушей просьбу. «У меня на то специальные холуи есть», – промолвил Козин и выбежал, на ходу застегивая шинель.
Его слова были выслушаны в молчании. Стоял декабрь месяц. Дверь оставалась открытой, и через сени в комнату заползал белый морозный пар, наполняя помещение густыми, не продохнуть, облаками. Никто не решался вылезти из спального мешка, чтобы окружающие не подумали, что «холуй», которого помянул Козин, – это именно он. Не выдержав, Казанцев, кряхтя, выскочил из куля, вытащил из ящика примус и разжег его. Потом он накрыл горящий примус цинковым листом и поставил эту доморощенную печку под кровать. Примус подогревал кровать снизу, а в раскрытую дверь задувал холодный ветер, промораживая и леденя стены. Глядя на Казанцева, вылезли из кулей и остальные двое. Каждый также вытащил из ящика примус и разжег его.
Когда Козин вернулся домой, дверь была все еще открыта. В комнате плавали клубы закопченного дыма от разожженных примусов, а стены были покрыты тонким слоем измороси. Козин невероятно удивился. А здесь что такое? Его постель была скомкана, а в его новую милицейскую фуражку, которую он не носил из-за холодов, было вылито целое помойное ведро. С этого началась война, вылившаяся впоследствии в сотни мелких столкновений, на целый год затормозивших культработу среди русских и туземцев, заняв все взрослое население Анадыря. Туземцы, впрочем, привыкли к тому, что русские всегда заняты своими непонятными русскими делами.
При царском режиме на чукчей мало обращало внимание правительство. Их просто предоставили самим себе, после того как попытка превратить их в «ясачных инородцев» потерпела неудачу. По определению Свода Законов они даже считались «несовершенноподданными» и беспрепятственно могли голодать, вымирать, опиваться водкой. Никого это не касалось.
Теперь наконец на них обратили внимание, и пошла речь об устройстве школ, больниц для чукчей, ветпунктов для чукотских животных. Именно по этой линии, разумеется, в первую очередь ведется работа, и это больше всего необходимо для Чукотки (здешние русские всегда называют страну «Чукотка»).
Меньше всего чукчам нужны уэлленская канцелярия, делопроизводитель, милиционер. Селения оседлых чукчей расположены на огромных расстояниях друг от друга. Оленные чукчи – кочевники, переходят с места на место, и добраться до них не всегда возможно. Связь друг с другом у чукчей очень слаба. Высшей социальной единицей у них является семья. Никакого подобия управления у них нет и с давних пор не было. Если кто-нибудь совершает преступление, собираются старики и просят того убраться из поселка. Все рассказы о «чукотских князьях» – выдумка. Чукотский ным-ным (поселок) в очень редких случаях состоит из двадцати или тридцати семейств. По большей же части это – одна-две яранги, совершенно отрезанные от остального мира. Чукчи рассказывали мне о полярных робинзонадах, когда ребенок, родители которого погибли от мора, вырастает один, в заброшенной яранге, и не знает о существовании других людей, кроме него.
И вот РИК живет сам по себе, а чукчи сами по себе.
Влияние РИКа простирается только на несколько ближайших береговых лагерей. Раз в год члены РИКа и старший милиционер отправляются в объезд района, каждый в свою сторону. Объезд этот приносит, однако, мало пользы.
Почти во всех туземных поселках полуострова организованы лагерные комитеты, и, на бумаге, в каждом селении имеются председатель и секретарь. Но только на бумаге. Иногда председатели даже не знают, что они являются начальством. В отчете о прошлогодней поездке по району я отыскал такие строки: «Приехав в ным-ным, я собрал в ярангу Рищипа все местное население на общее собрание и объявил, что им нужно выбрать своего представителя в лагерком. На что получил ответ, что никакого лагеркома им не нужно, потому что они всегда жили без представителя, а моржей больше не станет, если выбрать представителя. На мое замечание, что представителя выбрать надо, чтобы тот защищал их интересы перед торговыми организациями, снабжающими туземцев, они сказали, что раз я такой умный, пусть я и выбираю представителя. Я сказал, что так нельзя. Они тогда сели и стали курить трубку, и все молчали. Наконец инициативу пришлось мне взять на себя, и я стал называть несколько уважаемых лиц их стойбища, но на все кандидатуры получал только утвердительный ответ: “ыый”, что означает: “да”. В собрании принимали участие только старики, потому что молодые ушли сторожить приход моржей на лежбище, а женщины присутствовали только две, обе жены Рищипа, остальные не имели возможности прийти, так как тогда в пологе дети останутся одни и могут опрокинуть плошки с жиром, служащие для освещения, и тогда все в яранге сгорит. Подпись – секретарь РИКа».



