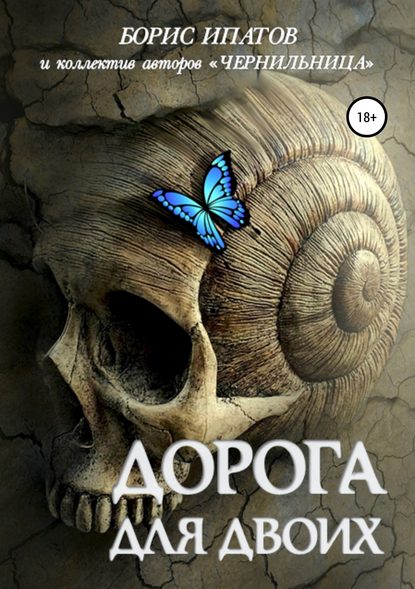 Полная версия
Полная версияДорога для двоих
Андре встрепенулся. Может, размять косточки да прогуляться? А заодно и дом осмотреть: вдруг да сыщутся в нём ещё постояльцы, о которых хозяйка забыла упомянуть?..
Старейший говорит и неотрывно смотрит на Индру, что, впрочем, абсолютно не мешает ему продолжать двигать фигуры по полю. Всё это он проделывает с ошеломительной скоростью; Индра с трудом успевает совершать ответные ходы, хотя играет только за одну сторону из четырёх.
…Обнаруженная им комната являла собою нечто среднее между кабинетом, мастерской столяра и самым что ни на есть наглядным воплощением слова «кавардак». Шкаф, старенький обшарпанный диван в дальнем углу, верстак, притулившийся сразу у окна, – всё, на что только мог упасть взгляд, было покрыто месячным (если не годовым) слоем пыли вперемешку с древесной стружкой и опилками. Внутри пахло затхлостью, гнилью и деревом. Но над всеми этими запахами безоговорочно властвовал один – самый вырвиглазный. Запах жжёного сахара.
На диване беспорядочной кучей были свалены книги, какие-то мелкие поделки, а также всевозможные лобзики, буравчики, стамески и прочий столярный инструментарий. Несколько деревянных статуэток покрупнее, – очевидно, опрокинутых кем-то со шкафа, – ничком распластались на ковре. Хорошо ещё, примус не перевёрнут: он остался стоять на краю верстака.
Создавалось впечатление, что по комнате пронёсся ураган. Или, быть может, кто-то очень большой, скрупулёзный и яростный что-то здесь искал? «Интересно, нашёл ли?» – почему-то вдруг подумалось Андре…
Индра видит брешь в обороне красного раджи и спешит ею воспользоваться, однако в запале теряет свою жёлтую колесницу. Непростительная ошибка. Теперь у неё в авангарде только конь и три пешки. Что будет, если она проиграет? Старейший умолкнет для неё навеки?
…Первым делом он исследовал примус: на нём было меньше всего пыли. Зато при ближайшем рассмотрении на его латунных боках обнаружились застывшие подтёки чего-то подозрительно липкого. Андре поскрёб их ногтем, попробовал на язык. Карамель. Что ж, теперь ясно, откуда этот запах. И какому «гению» могло прийти в голову плавить карамель на примусе?
Вернув прибор на место, Андре снова оглядел комнату и сразу же заприметил ещё кое-что занимательное. Вдоль ближайшей стены, сразу за верстаком многообещающе топорщилось нечто, прикрытое огромным, насквозь пропылённым куском холстины.
Андре, надо заметить, с детства питал слабость ко всему потаённому и скрытому. Стоило ему только узнать, что от него что-то припрятали, и он уже не мог ни есть, ни спать, пока не обнаруживал это. Вот и теперь руки его сами потянулись сорвать грубый, холщовый покров с таившегося под ним секрета.
Одно стремительное движение. Удушающее облако пыли взвилось в воздух.
В следующий миг Андре уже пятился обратно к двери, бледный как сама смерть. По дороге он, однако же, запнулся о лежавшую на ковре статуэтку совы и со сдавленным вскриком повалился спиной прямиком на дверцу шкафа…
С лёгкой руки Старейшего красный конь снимает с поля чёрного раджу. Отлично, одним противником меньше. Осталось только дождаться, пока зелёные и красные разберутся между собой, чтобы затем встретиться с уцелевшим лицом к лицу.
Правда, до этого нужно ещё постараться не растерять свои последние фигуры.
…Из-под верстака на него взирали пять пар жёлтых глаз. Пять пастей щерились одинаковым клыкастым оскалом. Андре казалось, что он слышит их тихий клокочущий рык. Рык зверей, готовящихся напасть, покусать, изодрать…
Но нет. Разумеется, они не могли рычать, ведь они не были живыми. И желтизна их глаз – не более чем краска на поверхности дерева, и неукротимая свирепость на их мордах вырезана рукою человека.
Теперь, когда наваждение окончательно развеялось, Андре видел перед собой лишь пять деревянных изваяний – то ли волков, то ли псов, – невероятно реалистичных, но всё же не настоящих…
И вот зелёные, теснимые с двух сторон, благополучно выбывают из игры. Настаёт время для решающего поединка: жёлтые Индры против красных Старейшего. У неё – раджа, конь и пешка. У него – только раджа и колесница. Шансы примерно равны.
…Хозяйка влетела, как валькирия, с грозным оружием наперевес – туркой для кофе.
– Кто тут шумит!.. Ах, это вы, мсье Дюшан… – Увидев его, женщина немного расслабилась, но полностью гнев на милость не сменила. – Ну и что же вы такое вытворяете, позвольте спросить? Рыскаете без спросу по комнатам, как какой-нибудь завзятый тать, трогаете чужое имущество. Не заплати вы за месяц вперёд, я бы вам подобного не простила!
– Приношу свои глубочайшие извинения, мадам. Здесь было не заперто, и я решил… – принялся было оправдываться Андре, поднимаясь и отряхивая брюки, но хозяйка категорично отрезала:
– Больше не решайте! Ещё раз застану вас в неположенном месте, и следующую ночь будете ночевать в лесу. Ясно?
– Предельно, – нервно сглотнул Андре.
– А теперь возвращайтесь-ка лучше в свою комнату, пока я всё же не поколотила вас сгоряча! А то с меня станется, буду потом жалеть, а сделанного, как говорится, не разделаешь.
Для вящей убедительности мадам ещё раз потрясла в воздухе туркой. Андре решил не испытывать её терпение на прочность. Потирая ушибленную поясницу, он проскользнул мимо неё в коридор. У двери в свою комнату он снова наткнулся на её паклеголового отпрыска с леденцовой бабочкой в руках.
– Там мастерская Мо, – пояснил малец. – Туда никому нельзя заходить.
Андре вдруг осенила идея. Он порылся в кармане брюк и выудил оттуда арбузное печенье, оставшееся у него с дороги.
– Слушай, парень, а давай-ка заключим сделку: ты расскажешь мне побольше об этом вашем Мо, а я тебе дам вот это замечательное печеньице. Голову даю на отсечение, ты таких ещё не пробовал!
– Терпеть ненавижу сладкое! – отозвался мальчишка. Затем пребольно пнул Андре под колено и был таков…
Юлить больше нет смысла. Пора бить наверняка. Всё или ничего.
Индра ходит конём. Красный раджа загнан в угол, ему некуда бежать. В последней отчаянной попытке его спасти красная колесница срубает вражеского коня, и ловушка захлопывается. Жертва принята, и она не напрасна. «Бойтесь данайцев, даже дары приносящих»3. Следующим ходом пешка Индры берёт красную колесницу. Красный раджа оголён. Безоговорочная победа.
Старейший мгновенно затихает. Моргнув, он снова возвращает своим глазам бирюзовый цвет. Затем поднимает с пола колокольчик и звонит в него, возвещая об окончании приёма.
Индра переводит взгляд, полный недоумения, с мальчика на приближающихся к ней монахов. И это всё? Но где же ответы? Ведь Старейший так ничего и не сказал по делу. Где тот, кого она ищет? Куда ей теперь направиться? Что делать?
Однако Старейший не говорит больше ни слова. Лишь шепчет что-то на ухо склонившемуся перед ним монаху. Тот кивает. Второй монах подаёт Индре руку, помогая ей подняться на ноги, и ведёт её к выходу. И это всё.
Может быть, что-то упущено? Может, Старейший сказал что-то важное, скрыл какое-то послание между строк, а она его прослушала, отвлёкшись на игру? Так или иначе, встреча завершена. И она ничего не дала.
Арьяман встречает её у дверей кельи. Сначала – с широкой улыбкой и ворохом вопросов. Но когда он видит её лицо, улыбка сменяется озабоченностью, а вопросы остаются незаданными. Он говорит какие-то слова поддержки, но она их почти не слышит. Потом, видимо, поняв, что ей нужно побыть наедине со своими мыслями, он оставляет её в покое.
Перед тем как Индра покидает храм, к ней подходит монах – тот самый, с которым шептался Старейший. Он протягивает ей круглый свёрточек.
– Старейший преподносит тебе этот скромный дар, сестра. В час нужды ты поймёшь, что с ним делать.
Под обёрткой из высушенных листьев лотоса оказывается небольшая сахарная галета. Индра не знает, как ей воспринимать это подношение, поэтому просто благодарно кланяется, и монах удаляется восвояси.
Что это? Очередная загадка? Или, наоборот, подсказка? Утешительный приз?
А может, всё гораздо проще, и у Старейшего, как и у всех богов древности, всего лишь навсего крайне своеобразное чувство юмора?
Пытаясь выбросить все эти пустые мысли из головы, Индра прячет свёрток в сумку на поясе.
* * *
Спуск она помнит плохо. Помнит только, что Арьяман больше не предпринимал попыток с ней заговорить, лишь молчаливо шёл рядом, держа под руку свою мать. Индра благодарна ему за это. Слишком многое надо обдумать. Слишком многое – переварить.
На исходе дня они, наконец, достигают долины у подножья Великой Лестницы. Здесь их преданно дожидаются виманы4, на которых они прибыли из города и на которых теперь вернутся обратно.
Пока вимана готовится ко взлёту, Индра задумчиво вертит в руках странный прощальный подарок Старейшего. «В час нужды ты поймёшь, что с ним делать». В час нужды? Если отбросить глупейшую теорию о том, что мальчик не захотел помогать ей исключительно по некоей своей прихоти, – должен же быть во всём этом какой-то смысл?
С низким рокочущим гулом, поднимая вихри снега, устройство отрывается от земли и быстро набирает высоту.
Старейший Майяраштры послал её сюда, сказав, что на Земле она найдёт все ответы. Она подумала, что эти ответы должен дать ей другой Старейший, и вот как всё повернулось. Но ведь боги не кидают кости, правда же? Если слова не прозвучали, значит, они и не должны были прозвучать…
Внизу, под кормой проносятся бескрайние белоснежные просторы – однообразная ледяная пустыня, похоронившая под собою все следы былой цивилизации.
…А если слова не должны были прозвучать, значит…
Удар!
Кабину встряхивает – так сильно, что, не будь пассажиры зафиксированы в своих креслах ремнями, они бы неизбежно размозжили головы о потолок. Несколько минут Индра видит лишь бесформенные, пляшущие перед глазами вспышки. Когда же к ней возвращается зрение и способность ориентироваться в пространстве, она понимает, что в корпусе прямо напротив неё зияет огромная полыхающая дыра.
Вимана кренится влево. Её начинает закручивать, как центрифугу. Как юлу. Как балерину, совершающую фуэте5.
Раз виток, два виток, три…
Индра успевает насчитать тридцать два, прежде чем сознание её проваливается во тьму.
ТРИДЦАТЬ ДВА (автор – Инга Сулима)

Бабочка омурасаки собралась перелететь с цветка на цветок. Осторожно развернула лазоревые, с белыми крапинками крылышки, поднялась в воздух – самую малость, но тут как нарочно налетел стремительный ветер, подхватил невесомое создание, подкинул высоко-высоко в небо и уж больше не выпустил, в считанные минуты вынес с холмов на равнину, в которой раскинулся город; покрутил пленницу над черепичными крышами туземных кварталов, погонял зигзагами над регулярной геометрией Сеттльмента, а потом швырнул в сторону моря, да и обессилел, стих.
Борис Акунин, «Алмазная колесница»
Раз.
Репетиция продолжалась уже девятый час. Кордебалет и оркестр были отпущены три часа назад. Остались солисты и репетитор. Па-де-де, наконец, пройдено. «Принц», вытирая пот, поплёлся за кулисы. Оглянулся, шевельнул губами: «Ни пуха». Ушёл.
Два.
Остались я и фуэте.
– Готова? – дубиной по хребту.
– Готова…
Вступление. Диагональ. Арабеск. И… Раз, два, три, четыре. Десять. Двадцать. Двадцать се… Чёрт! Чёрт, чёрт, чёрт!!! Я никогда не докручу до нужных тридцати двух.
– Свободна. Завтра в семь утра.
Сижу. Сквозь брезент затяжки сцены чувствую неровные доски. Пуанты. Зашить бы.
Три.
Взгляд. Взгляд? Чей? Все ушли давно.
– Андреева, помочь? – Откуда только силы взялись? – Я в третьей кулисе.
Весёлый взгляд, футляр в руках.
– Проводить?
– Да.
– Пойдём. У меня машина. Куда тебе?
– К тебе.
Четыре.
Помню высокий потолок с гипсовыми ангелочками вокруг люстры. Гром оркестра сначала оглушил. После властно взял за душу и унёс в незнакомые страсти. На сцене в яростном вихре сплелись красное и белое. Вечным винтом ввинтилось в мозг – «фуэте».
Пять.
Вращение балерины превратилось в торнадо, которое снесло прежние чувства и оставило только желание: «Я тоже хочу вот так, как бабочка!» Ночью случилась горячка.
– Доченька, что с тобой? Куда ты рвёшься? Куда?
На следующий день кто-то из взрослых привёл меня в балетную школу.
Шесть.
Поняла, наконец, что такое «стоять у станка». Через неделю незнакомые слова стали бесспорными командами. На долгие часы гром оркестра превратился в глуховатые звуки старого пианино. Аккомпаниатор старался. Иногда веселил нас в перерывах попсовыми мелодиями. А потом купили магнитофон.
Семь.
Следующие годы остались в памяти болью в мышцах и эйфорией от «первостей». Первый шпагат. Первое глубокое плие. Первый прыжок. Первый шаг в пуантах. Первое фуэте. Первый выход на сцену. Первый настоящий партнёр, поднявший меня на плечо. Первый апломб и первый облом. Куда же без этого?
Восемь.
Первые каникулы в Варшаве. Всё казалось таким близким и лёгким. Выпускной спектакль стал первой сольной партией. Мой «принц» улетел в Бразилию. Танцевать в варьете. На новый год прислал подарок. Бабочку из чёрного обсидиана.
Девять.
– Кордебалет свободен!
Как сложно быть свободной, оказывается. Я не хочу, не имею права быть «свободной». Пуанты в сумку. Надеваю шубу, шапку, шарф. Что-то царапнуло шею. Поехала не домой – в аэропорт. Сан-Паулу – весёлый город. Мне было хорошо. Всё было хорошо. Целый год. А потом опять наступила зима.
Десять.
И раздался звонок из Милана.
– Андреева, чао! У меня есть партия для тебя.
Люсия. Андеграунд. Италия. Миланский балет, тёплый, как северный ветер. Классический даже в подвале. Наслаждение танцем было всепоглощающим. Всех поглощающим. В сердце не нашлось места для света. Не нашлось.
Одиннадцать.
– Ты не можешь так поступить! Я делала эту постановку только для тебя!
– Могу. Уже поступила. В Мариинский. Контракт на три сезона. Да, классика. Да, заезженная хореография. Но я хочу поездить по наезженной. Ты гений, Люсия. Твоя страсть растворяет меня, светлячок.
Двенадцать.
– Свободна. Завтра в семь утра.
Три ведущих партии. Почему же так противно на душе? Занят каждый день. Аплодисменты каждый день. Цветочек каждый день. Мерзость какая. Шагаю по лужам.
– Андреева, привет. Не против кофе? – Яркая куртка. Бритая голова. И бабочка из обсидиана в кольце. Мой первый «принц».
– Каким ветром?
– Гастроли тут. Ну, так куда?
– Ты где остановился?
– Нигде пока.
– Тогда ко мне.
Тринадцать.
Антреприза приняла в свой суетливый мир без заявлений и обещаний. Сегодня Рим, завтра Токио. Дожала до двадцати четырёх фуэте – и успех. Наутро не вспомню, где крутила. Наутро не вспомнят, кто крутил. Но пока – успех. Музыка, города, партнёры слились в пёстрое конфетти.
Четырнадцать.
Праздник закончился. Внезапно и грубо.
– Двадцать две недели восстановления. Иначе инвалидность.
Зачем, ну зачем я побежала за этим такси? Лучше бы опоздала, ей-богу!
Пятнадцать.
Как прекрасен мир! Эта очевидность накрыла меня волной. Валяясь на диване, ощутила спокойствие, которого была лишена так долго. Подумаешь, щиколотка. Зарастёт, никуда не денется. Роскошь неподвижности. Не затянуло бы.
Шестнадцать.
Ночной звонок выдернул из нирваны.
– Андреева? Милан на связи. Ответите?
Межгород? Звонкий голос вернул в прошлое. Вернул настоящее.
– Чао! Я жду тебя. Ты мне нужна. Ты ведь свободна сейчас?
На сборы ушло два часа. Я успела.
Семнадцать.
Сорок танцовщиц работают как одна.
– Выше ноги! Старые коровы! Где вы учились? И раз, и два! Выше!
Собачья работа – репетитор. Но она поставила меня на ноги. Забыла про «не гнётся». Про «болит». Вошла в танец на восемь недель раньше. Улетела.
Восемнадцать.
Меня не ждали. Вычеркнули из афиш. Из планов. Диван стал электрическим стулом. Как стыдно. Стыдно убегать от настоящего к обязательному. От захватывающего к надёжному. От неё к ним.
Девятнадцать.
– Балериночка! Танцуешь грамотно! Эт чё у тебя? Панты́? Гы-гы-гы! Э! Ты куда?
Куда? Отсюда подальше. Крутой, модный, раскрученный. Но кабак. Угораздило же. Скоро в Мариинке премьера. Хоть посмотрю.
Двадцать.
Ангелочки. Люстра. Звуки и запахи обрушились, как водопад.
– Да что с тобой? Ты слышишь меня?
– Что? Да. Свободна. Да. Да! Да-а!!!
– Прима слиняла в Лондон на этот раз. Переобувайся и вводись.
Двадцать один.
Репетиция продолжалась уже девятый час. Кордебалет и оркестр были отпущены три часа назад. «Миленькая, соберись. Я знаю, ты можешь. Да пустяк – тридцать два фуэте. Не думай ни о чём». Не думаю. Нога скользит.
– Есть сахар у кого-нибудь? – Макаю разбитые пуанты в сахарный песок.
Есть тридцать два!
Двадцать два.
Дикое вращение восторгом билось в висках. Тридцать два, тридцать три… Сорок! Утонула в букетах. Свалила на руки подскочившему из кулис пожарнику. Надо же. Второй год полные залы.
– Подумай! Тебя бисировали четыре раза! Контракт! Неустойка!
Я решила. Хватит.
Двадцать три.
Вена встретила меня дождём и тёплыми руками моего гобоя. У него было имя, конечно. Но со времён «третьей кулисы» он остался просто «гобоем».
– Куда тебе?
– К тебе.
– Я занят. У меня концерт и самолёт в Аделаиду. Со мной?
Двадцать четыре.
Как жарко. Слепящее солнце затемнило кожу и высветлило волосы. «Негативчик мой». Смеюсь. С каждым днём всё печальнее. Огромный гулкий театр поглотил любовь и праздник.
– Я еду в Сидней. Со мной?
– Нет. В Милан.
Двадцать пять.
Полотнище путается в ногах, руках, наматывается беспорядочным жгутом на шею. Восторженный взгляд с первого ряда помогает вынырнуть из паники. Становится весело. Ах, Люсия. Реаниматор. Вечный двигатель. Подруга.
Двадцать шесть.
– Завтра едем в Москву.
– Куда?
– В Москву. Ставлю в Большом. Танцуешь Кармен. И это не обсуждается!
Кармен. В двадцать шесть. Лихорадка, истерика, апатия не помогли. Танцую Кармен. Пачка. Пуанты. Живой оркестр. И мой гобой.
Двадцать семь.
Дуэль. Горячая Италия не смирилась. Но проиграла. Люсия стала моим Хозе. А я любила гобоя. Сцена и жизнь стали вдруг единым танцем. Жизнь победила.
Двадцать восемь.
Победа наполнила эйфорией. Солирую. Мир сжался в небольшой чемодан и дорожные чеки. Гобой рядом. Не спешу. Не медлю. Не принимаю решений. Лента с чемоданами в аэропорту вдруг захлестнула петлёй.
– Куда ты?
– Я не поеду с тобой.
Двадцать девять.
Родная школа.
– Примете?
– Не верю! Ты действительно хочешь учить молодняк?
– Да, мне интересно.
– Чушки чугунные! Чтоб вы пропали! Лучше модерн танцевать, чем смотреть на эти спины.
– Отпустите?
– Конечно. Рано тебе еще в классы.
Тридцать.
– Мне не нужны арабески! Крути свои фуэте в Большом театре. Мне нужна изломанность. Ломай себя! Ломай! Руки, ноги, спина – всё кривое сделай! Давай!
Пуанты прочь. Босые ноги шлепают по зеркальной сцене. Тело хочет закончить движение. Но нет. Рука – хлыст. Нога – полено. Танцую модерн.
Тридцать один.
Вечером дрожу под одеялом. Утром сбегаю в аэропорт.
– Андреева! Привет! – Весёлый взгляд. Кейс в руке. Два секретаря (или секьюрити?). – Откуда ты?
Тридцать два.
– Свободна. Завтра в семь утра.
Молодая солистка убежала, подпрыгивая, за кулисы. Открутив с первого подхода тридцать два фуэте.
Я поднялась на сцену. Меня настиг запах. Слабый. Знакомый. Забытый. Жжёный сахар. Она макнула пуанты в сахар. Как я когда-то.
Интерлюдия III: ПЕСНЬ ГОНЧИХ (автор – Борис Ипатов)
Крики.
Всё вокруг кричит.
Где-то совсем рядом орут люди. Их крики брызжут ужасом, смятением, болью. Ревёт пламя – хрипло, безумно, как зверь, высвободившийся из клетки и ошалевший от этой внезапной свободы.
Тело Индры тоже кричит. Надрывно вопит каждой своей мышцей, каждой костью. Когда она пытается приподняться, посмотреть, что происходит вокруг, тело начинает кричать ещё громче прежнего, уже почти срываясь на визг. Или это она сама?..
Неуклюже вывернув голову, Индра видит торчащий из её правого бока осколок металла. Одежда в этом месте насквозь пропиталась кровью. Как и снег под ней.
– Не двигайся. Рана у тебя серьёзная.
Голос звучит глухо, будто под водой, но Индра узнаёт его. Это Арьяман. Он подносит к её губам флягу с водой. У него рассечена щека, голова перевязана окровавленной тряпицей, однако в остальном он выглядит невредимым, хоть и весьма потрёпанным.
– Красавец я, да? – перехватывает он её взгляд и насилу усмехается. – Говорят, иным девам по нраву мужи со шрамами. Надо отдать должное мастерству пилота. Кажется, благодаря ему у меня теперь отбоя не будет от поклонниц.
Поразительно, как он ещё может сохранять чувство юмора в такой момент.
– Адити… – выдавливает из себя Индра, превозмогая боль.
Усмешка сползает с уст юноши. Он скорбно качает головой.
– Если Вселенной будет угодно, мы встретимся с нею снова. А пока тебе лучше подумать о себе. Пей.
Кто-то окликает его, и Арьяман спешит на зов. Собрав себя в кулак, Индра всё-таки ухищряется немного поднять голову. Искорёженный диск виманы лежит неподалёку, в паре десятков шагов. За ним тянется, теряясь вдали, широкая прорытая в снегу колея. Должно быть, после падения вимана проехала плашмя ещё с километр, прежде чем остановиться. Пожар внутри почти утих, и теперь из развороченного чрева небесной ладьи валят клубы дыма: ветер подхватывает их и относит к востоку, где уже занимается первое, робкое рассветное зарево.
Все, кому посчастливилось пережить крушение – их около дюжины, – сидят и лежат сейчас рядом на снегу. Пятеро пострадали меньше остальных. Они собрались чуть поодаль и что-то встревоженно обсуждают. Среди них – Арьяман и пилот.
– Нужно спешить, – доносится до Индры голос одного из них – видимо, пилота. – Времени у нас мало. Здесь, в пустоши дым виден на много йоджан окрест. Те, кто с нами это сделал, разыщут нас по нему за считанные часы.
– Постойте! – прерывает его другой голос. – Вы хотите сказать, что нас сбили намеренно?
– Именно так.
– Но кому это могло понадобиться?
Индра знает ответ, и он её отнюдь не радует.
Непробуждённые. Бич всех миров Внутреннего Кольца. Их осталось мало, и всё же они не дают о себе забывать – ни на Земле, ни где бы то ни было ещё.
– Пускай все, кто может ходить самостоятельно, помогают тяжелораненым, – отдаёт указания пилот. – Двинемся в сторону города. Будем заметать за собой следы. Если повезёт, нас увидят с какой-нибудь из пролетающих мимо виман. Так или иначе, через полчаса здесь и духу нашего быть не должно.
Дальше действуют быстро и методично. Мужчины сооружают из крупных кусков обшивки импровизированные сани, выстилают их плащами, снятыми с погибших, погружают на них неходячих. И пятнадцати минут не проходит, как все они длинной стройной колонной покидают место крушения.
Арьяман тащит сани с Индрой. Он изо всех сил старается не совершать резких движений, чтобы лишний раз не тревожить её рану, но сани то и дело подскакивают на очередном сугробе, и тогда боль в боку становится такой сильной, что у Индры темнеет в глазах.
…Весь остаток дня ничего не происходило. Андре ждал возвращения таинственного господина Мо, но ни к обеду, ни к вечеру тот так и не объявился. Хозяйка приготовила ужин, стол накрыли на троих.
Над чёрными листьями деревьев в саду взошёл тонкий, почти истаявший серп луны. И ничего не происходило. Но ожидание оказалось оправданным.
Ближе к полуночи в стекло спальни стукнул камешек. Высунувшись в окно, Андре заметил сиреневый отблеск за кустами. Через миг оттуда появилась маленькая точёная ручка и поманила его за собой.
Второго приглашения ему не требовалось. Он очутился на крыльце ещё прежде, чем сердце успело достучать до десяти (хотя оно, надо заметить, колотилось в тот миг как заведённое).

