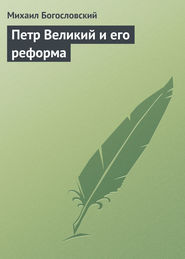 Полная версия
Полная версияПетр Великий и его реформа
9 февраля царь переехал из Лондона в Дептфорд, маленький городок на правом берегу Темзы, занял здесь дом у самой верфи и прожил два с половиной месяца, проходя высший курс кораблестроения. Все свободное от работы время он в Англии, как делал это и в Голландии, употреблял на обзор различных достопримечательностей: был в Королевском ученом обществе, неоднократно посещал артиллерийские заводы, лаборатории и арсенал в Вуличе, монетный двор в Тоуэре, был на астрономической обсерватории в Гринвиче, ездил в Оксфордский университет, в свободное время катался по Темзе на яхте. Король, зная вкусы гостя, приказал устроить для него большие морские маневры на Спитхедском рейде возле Портсмута, и здесь Петр имел случай познакомиться с действиями английского военного флота. Корабли, гавани, доки, верфи, фабрики, заводы, мастерские, всякое ремесло, все то, в чем сказывалось торжество искусной человеческой руки над грубой материей, привлекало к себе внимание царя. Гораздо менее интересовался он произведениями чистого искусства: художественное удовольствие, доставляемое ими, было для него мало понятно. Когда ему в Англии в одном из дворцов показывали картины, он не обратил на них никакого внимания, но с большим любопытством остановился перед находившимся в комнате короля прибором для наблюдения за направлением ветра. Позже, однако, у него развился вкус к архитектуре и к живописи, и он охотно выписывал в Россию для украшения изящно построенных дворцов выдающиеся произведения иностранного искусства.
Политическая сторона английской жизни, сложное устройство английских государственных учреждений, деятельность парламента и судов, программы и отношения политических партий – не могла, конечно, привлечь внимания Петра и не была ему в то время доступна. Но английская церковь его очень заинтересовала, и он завязал сношения с ее высшими представителями. Он присутствовал на англиканском богослужении и посетил примаса английской церкви, архиепископа Кентерберийского в его резиденции в Ламбетском дворце, но особенно тесно сошелся Петр с наиболее выдающимся членом английской иерархии, епископом солсберийским Бернетом, которого он удивил знанием св. Писания. «Я часто бываю с ним, – писал о нем Бернет. – В прошлый понедельник я провел у него четыре часа. Мы рассуждали о многих вещах; он обладает такой степенью знания, какой я не ожидал видеть в нем. Он тщательно изучал св. Писание. Из всего, что я говорил ему, он всего внимательнее слушал мои объяснения о пределах власти христианских императоров в делах религии и о верховной власти наших королей. Я убедил его, что вопрос о происхождении св. Духа есть тонкость, которая не должна бы была вносить раскола в церковь. Он допускает, что иконам не следует молиться и стоит лишь за сохранение образа Христа, но этот образ должен служить лишь как воспоминание, а не как предмет поклонения. Я старался указать ему великие цели христианства в деле усовершенствования сердца человеческого и человеческой жизни, и он уверил меня, что намерен применить эти правила к самому себе. Он начинает так сильно привязываться ко мне, что я едва могу от него оторваться… Царь или погибнет, или станет великим человеком». Впоследствии в своих воспоминаниях Бернет дает другой, гораздо более резкий и невыгодный отзыв о Петре: «Царь – человек весьма горячего нрава, – пишет он, – склонный к вспышкам, страстный и крутой. Он еще более возбуждает свою горячность употреблением водки, которую сам приготовляет с необычайным знанием дела… Особую наклонность он имеет к механическим работам; природа, кажется, скорее создала его для деятельности корабельного плотника, чем для управления великим государством».
21 апреля Петр выехал из Англии к посольству, ожидавшему его в Голландии. Получив отказ (в официальной поддержке со стороны голландского правительства в войне против турок) в ссуде морского снаряжения и припасов, о которой московское посольство просило, оно, живя в Амстердаме, занялось приобретением этого снаряжения на собственные средства, нанимало офицеров и матросов на русскую службу и закупало необходимые припасы. Под конец своего пребывания в Англии Петр узнал, что турки завязали через посредство английского короля тайные мирные переговоры с венским двором. Являлась, таким образом, опасность, что союз четырех держав против Турции, подкреплять который он отправился за границу, распадется, и ему придется вести войну с турками один на один. Это заставило его спешить в Вену, где он надеялся личным присутствием воспрепятствовать начавшимся переговорам. Он прибыл с посольством в Вену 16 июня, несколько раз виделся, сохраняя инкогнито, с императором Леопольдом, который устроил в честь московского гостя блестящие празднества. С канцлером гр. Кинским Петр лично вступил в переговоры о турецких делах, но попытка Петра затормозить начавшиеся с турками переговоры окончилась неудачей. Венский двор остался непреклонен, и Петр должен был уступить и дать согласие участвовать на будущем мирном конгрессе с турками. В Вене за переговорами царь прожил более месяца, также осматривая достопримечательности города, причем особый интерес проявил к католической церкви: посещал католическое богослужение, выслушивал приветственные речи католического духовенства и завтракал с иезуитами в их коллегии.
У Петра, когда он отправлял посольство в 1697 году, целями были: утверждение союза, существовавшего между четырьмя государствами, против турок, возбуждение вообще сочувствия в европейских государствах к этой борьбе против врагов Креста Христова, наконец, приобретение обширных материальных средств для этой борьбы в виде снаряжения и припасов для строившегося тогда Азовского флота, и в этом последнем строились расчеты на Голландию. Каковы были успехи посольства? По всем намеченным целям оно потерпело неудачу. В помощи снаряжением для флота было отказано, и его приходилось приобретать на собственные средства. Мысль о борьбе христианских государств против Турции не находила себе сочувствия, так как в Европе предвидели новую большую войну между христианскими государствами из-за испанского наследства; самый союз четырех держав против турок заметно терял свое значение, так как с турками завязались мирные переговоры, и все усилия Петра приостановить их и настоять на продолжении войны были тщетны. Итак, дипломатические цели посольства не были достигнуты.
Но у Петра при отправлении посольства была еще и другая цель: под его прикрытием побывать в Западной Европе, поучиться там кораблестроению и познакомиться с морским делом. Эти его желания были с успехом осуществлены. Он прошел практический курс кораблестроения в Голландии, изучив на собственной работе всю постройку корабля с начала до конца, и затем пополнил эту практическую выучку теоретическими сведениями в Англии. Он имел возможность познакомиться с флотами двух первоклассных морских держав: Голландии и Англии – и со всеми теми сооружениями: верфями, доками и разного рода фабриками и заводами, которые обслуживали флоты. Ему хотелось изучить далее галерный (гребной) флот, который был особенно пригоден в Азовском море, и для этого он намеревался из Вены ехать в Венецию. Но отправиться в Венецию не удалось. В Вене царь получил известие о бунте в некоторых стрелецких полках и тотчас же поспешил в Москву, принося извинения венецианскому правительству, сделавшему обширные приготовления для его приема. Кроме морского дела, Петр усовершенствовался также в артиллерийском искусстве, пройдя курс его под руководством опытного инструктора в Кенигсберге и завершив его знакомством с английской артиллерией в Вуличе.
Так дипломатия великого посольства потерпела неудачу, а личные цели Петра, ради которых он предпринял путешествие по Европе, были достигнуты. Но, может быть, еще более было важно то общее знакомство с Западной Европой, которое Петром вынесено было из поездки, те впечатления, которыми обогатился его духовный мир. Всего сильнее поразила Петра и, вероятно, самое яркое воспоминание оставила о себе материальная сторона европейской жизни, техника, которою не только в морском и военном деле, но и в широких и самых разнообразных проявлениях ее, он так интересовался. Европейский корабль, как и целый флот, фабрика, мастерская, машина, величественные здания, разного рода сложные сооружения, разнообразные произведения человеческого знания и прикладного искусства – таковы были предметы, привлекавшие с его стороны всего более внимания. Может быть, правильно будет сказать, что в первую заграничную поездку Петр в Европе интересовался более вещами, чем людьми. Но все же на своем пути он знакомился и с людьми, со множеством людей, и притом самого различного общественного положения – как с вершинами, так и с низами человеческого общества. Он свел личное знакомство с несколькими европейскими государями, членами правящих домов, лицами высшего правительственного круга. Среди встреченных им людей было несколько выдающихся замечательных личностей своего времени, как, например, Вильгельм III, герой юных дней Петра, о котором он так много слышал от московских иноземцев, курфюрстина Софья-Шарлотта, тогда еще молодой, но уже славный своею победою над турками, так восхитившею Петра, будущий великий полководец Евгений Савойский, с которым Петр встретился в Вене, епископ Вернет, который вел с ним продолжительные разговоры, бургомистр Витзен, ставший одним из ближайших к царю лиц во время его пребывания в Голландии, голландский ученый, естествоиспытатель и анатом, доктор Рюйш и др. Но круг знакомств Петра был чрезвычайно широк. Ежедневно ему приходилось соприкасаться и входить в сношения с большим числом разного положения людей. В Голландии он познакомился с видными представителями высоких промышленных и торговых кругов. Но, работая на верфях и посещая разного рода фабрики и мастерские, он сближался с простым рабочим людом. Самый способ путешествия тогда, самые средства передвижения, столь отличные от наших, невольно содействовали широкому знакомству с обществом посещаемых стран в его различных слоях. В наши дни вагон железной дороги быстро переносит человека на тысячи верст через страны, природу которых он рассматривает сквозь стекло вагона и с населением которых он не имеет случая соприкасаться. Посольство и с ним Петр двигались по Европе медленно на лошадях, делая остановки не только в больших центрах, но останавливаясь в ожидании сбора лошадей иногда на довольно продолжительное время в господских домах помещиков, в мещанских дворах больших и малых городов, часто в простых деревенских трактирах и корчмах. Сколько людей во время такого передвижения должно было пройти перед взором путешественника, насколько основательнее мог он ознакомиться с бытом и нравами общества тех стран, через которые он проезжал. Не все, конечно, здесь было ему понятным и доступным. Бросалось в глаза сначала только внешнее. Внутренняя сторона европейской жизни была ему менее заметна. Едва ли он мог подробно вникнуть в устройство западноевропейских учреждений; он не питал еще тогда к ним интереса и не был подготовлен к их пониманию. Но все же о многих учреждениях у него должно было сложиться неизбежно то или иное, хотя бы самое общее понятие. Не мог он, например, не иметь представления об Ост-Индской торговой компании, на верфях которой он работал, об амстердамской ратуше, с бургомистрами которой он дружил, о государственном устройстве Голландии, которая принимала его посольство, об университетах в городах Лейдене (в Голландии) и Оксфорде (в Англии), где он побывал, об английском парламенте, который он посетил, об отношении королевской власти к английской церкви, вопрос, о котором он беседовал с епископом Бернетом и к которому проявил большой интерес. Невольно и неизбежно в его сознание путем разговоров с иностранцами, каких бы предметов эти разговоры ни касались, проникали новые понятия, неизвестные ранее и различные от тех понятий, которые давала ему родная обстановка.
В Москву царь прибыл в конце августа 1698 года. Всю осень этого года шел жестокий розыск над виноватыми в бунте стрельцами. Московские стрельцы участвовали в обоих Азовских походах 1695 и 1696 годов. По взятии Азова многие из них были там оставлены оберегать крепость. Стрельцы привыкли к удобствам московской жизни, привыкли жить с семьями, заниматься хозяйством и торговлею; поэтому служба в отдаленном и глухом Азове их очень тяготила. Вдруг пришел приказ от царя из-за границы: четыре полка двинуть из Азова, но не в Москву, куда стрельцам хотелось, а на польскую границу в Великие Луки. До полутораста стрельцов не выдержали, с дороги весной 1698 года бежали в Москву. В Москве они услыхали странные вести. Здесь им говорили: «Государя за морем не стало», «Государь залетел в чужую сторону к немцам. О нем ни слуху, ни духу, неведомо жив, неведомо помер. А вам уже на Москве не бывать». Царевна Софья из Новодевичьего монастыря через преданных ей лиц обратилась к этим беглецам с письмом и подговаривала их прийти в Москву всеми четырьмя полками и бить ей челом, чтобы вновь приняла правление государством. Бояре, управлявшие Москвой и государством в отсутствие царя, потребовали, чтобы беглецы вернулись к своим полкам. Они не повиновались и были выбиты из Москвы вооруженной силой. Вернувшись в свои полки, они сообщили товарищам московские разговоры и принесли царевнины грамотки. Вспыхнуло возмущение. Стрельцы, собираясь толпами, кричали, что надо идти к Москве, бить бояр и немцев, на престол возвести царевича Алексея Петровича, а правительницей государства сделать царевну Софью; если государь из-за границы вернется, в Москву его не пускать и даже убить. Сменив полковников и поставив на их место командовать полками своих выборных людей, стрельцы двинулись на Москву. Из Москвы против них высланы были солдатские полки с пушками под командой боярина А. С. Шеина и генерала Гордона. В июне 1698 года эти полки встретились со стрельцами под Воскресенским монастырем и разбили их. Стрельцов перехватали. Шеин произвел «розыск», т. е. следствие о мятеже и об его виновниках. Часть виновных была казнена, остальные разосланы по тюрьмам и по монастырям под стражу.
Петр приехал в Москву в мрачном настроении и в сильном гневе: не заехал в Кремлевский дворец, не повидался с женою, вечер провел в Немецкой слободе, а оттуда уехал в Преображенское. Царице Евдокии был послан приказ постричься в монахини, и ее заключили в Суздальском монастыре. Следствием Шеина царь остался недоволен и наказание мятежных стрельцов нашел недостаточным. Разосланные по монастырям и тюрьмам стрельцы были снова свезены в Москву. Начались страшные допросы с пытками и затем казни стрельцов на Красной площади и подругам местам города. Всего осенью 1698 года было казнено более 1000 стрельцов. Стрелецкое войско было совсем распущено. Несколько стрельцов было повешено под Новодевичьим монастырем перед кельей царевны Софьи, где они и висели пять месяцев. Царевна Софья была теперь пострижена под именем Сусанны. Доступ к ней был затруднен даже ее сестрам.
В детстве и юности Петру пришлось пережить немало тревожных событий, виновниками которых были стрельцы. Десятилетним ребенком в мае 1682 года он стоял на Красном крыльце, когда стрельцы сбрасывали на копья любимых им людей и близких родственников. Осенью того же года он с братом и с царевною правительницею должны были укрываться от стрельцов за стенами Троицкого монастыря. В августе 1689 года в Преображенском его внезапно будят ночью: опять бунтуют стрельцы, грозят убийством, и он должен был спасаться к Троице. Казалось бы, все улеглось, можно спокойно жить и учиться за границей – и вдруг опять известие о стрелецком бунте. Все эти пережитые тревоги не прошли для Петра даром. Они наложили глубокий отпечаток и на его физическую природу, и на его характер. Он стал страдать нервными подергиваниями лица, которые в минуты гнева переходили в страшные конвульсии. Нрав Петра сделался резким и раздражительным, а эта резкость нрава отразилась на приемах управления.
Тотчас же по возвращении из-за границы царь стал вводить в русском обществе западноевропейские обычаи, и вводил их резко и круто. Приказано было придворным бросить длинное русское платье, надеть короткое европейское и брить бороды. Не дожидаясь, когда придворные исполнят указы о платье и бороде, Петр, принимая бояр в Преображенском, стал сам стричь у них бороды и обрезать долгополые русские кафтаны. Бороды разрешено было носить только духовенству и крестьянам. Посадские люди могли выхлопатывать себе разрешение носить бороду, но должны были уплачивать за это особую пошлину. Русские по внешнему виду должны были походить на европейцев. Одновременно с переменой костюма и внешнего вида изменено было и летосчисление. В Московском государстве считались годы от сотворения мира, и новый год праздновался 1 сентября. Петр, вернувшись из-за границы, приказал вести счет лет от Рождества Христова и новый год праздновать 1 января, как было принято везде в Европе.
Глава VI
Великая Северная война. – Прутский поход. – Война с Персией
Сведения в военных науках и корабельном мастерстве, приобретенные Петром за границею, оказались очень кстати, и вскоре по возвращении ему пришлось применить их к делу в войне со Швецией.
Швеция, до XVII века не игравшая в европейских делах видной роли, приобрела значение во время Тридцатилетней войны католиков с протестантами в Германии (1618–1648). Шведский король Густав-Адольф во главе отборного войска появился в Германии и поддержал протестантов. За это вмешательство Швеция получила земельные приращения в Германии: герцогства Бремен и Верден (между низовьями рек Эльбы и Везера), так называемую Переднюю Померанию с городами Штеттином и Штральзундом и город Висмар (среди Мекленбургских земель). Владение немецкой территорией и вмешательство в германские дела были причиной недовольства против Швеции среди немецких князей. Враждебные отношения складывались у Швеции также с ее соседями по Балтийскому побережью: с Данией, Польшей и Россией, и к началу XVIII века составился против нее союз этих трех государств. Дания была не в ладах с соседним маленьким герцогством Гольштейн-Готторпским, государь которого, родственник Карла XII Шведского; пользовался поддержкой последнего. Саксонского курфюрста Августа, избранного и на польский престол, деятельно побуждал вступить в союз беглый шведский подданный, лифляндский рыцарь Паткуль. В Швеции королевская власть, сильно ограниченная дворянством, вела с ним упорную борьбу. Средние и низшие классы поддерживали короля в этой борьбе против дворянства. Дворянство особенно усилилось со времени малолетней наследницы безвременно погибшего Густава-Адольфа, Христины, когда дворяне расхватали огромный запас казенных земель. В этих землях и заключалось, главным образом, богатство шведской казны, которой при широкой политике государства приходилось нести много расходов. Королевская власть, лишенная необходимых средств, была обессилена в борьбе с дворянством. Но, благодаря сочувствию низших классов, предшественнику Карла XII, Карлу XI, удалось получить от сейма неограниченную власть, и он воспользовался ею для ослабления враждебного дворянства. Этого ослабления он стал достигать проведением так называемой «редукции», т. е. проверки прав на дворянские имения и отобранием в казну тех имений, владельцы которых не могли доказать своего права на них. Это была чрезвычайно тяжелая мера: не всегда даже у самого законного владельца сохранялись документы на землю налицо. Особенно тягостно почувствовали редукцию в Лифляндии. Со времени шведского завоевания здесь были два класса землевладельцев: шведское дворянство, набравшее имений, и старинные рыцари ордена Меченосцев. Новый наносный слой землевладельцев легче перенес такую неприятную операцию, как редукция: то, что было приобретено, и отдавалось легче. Но нетрудно себе представить, что должны были испытывать рыцари ордена, уже пять столетий бесспорно владевшие своею землею. Шведское правительство действовало резко, и рыцарство было сильно раздражено. Паткуль и выступил на его защиту. Это был талантливый, решительный и смелый человек. Он вступился за дело крайне горячо, позволяя себе резкие выражения против короля, скоро попал под суд и принужден был бежать из Швеции. Некоторое время скитался он по Европе, наконец попал ко двору саксонского курфюрста и польского короля Августа, и как раз вовремя, так как здесь заняты были разговорами об отобрании у шведов Лифляндии. Паткуль со всею горячностью подливал масла в огонь, представляя Августу один за другим самые отважные планы. Его целью было отнять Лифляндию у шведов и присоединить ее к Польше, зависимость от которой, благодаря свободным учреждениям Польского государства, не могла быть тяжелой. Для помощи курфюрсту в этом деле должно было привлечь к союзу Данию, Бранденбург и Россию. Бранденбургского курфюрста Фридриха включить в союз не удалось, Дания согласилась охотно; Петр при свидании с Августом летом 1698 года в Раве, когда он спешил из Вены в Москву для расправы с взбунтовавшимися стрельцами, выразил полную готовность начать войну со Швецией и даже, как говорит Паткуль, сам предложил ее. Однако, осмотревшись по приезде в Москву, царь как будто несколько охладел в выраженном им желании. Дело в том, что турецкая война, начавшаяся Крымскими походами при царевне Софье и продолженная Азовскими походами 1695 и 1696 годов, еще не была окончена, и Петру казалось невозможным вести войну на два фронта. Чтобы поддержать царя в его намерении, Паткуль настоял на отправлении к нему особого уполномоченного и сам явился в Москву в свите генерала Карловича. Переговоры, душой которых был, конечно, Паткуль, велись в Москве под большим секретом, открыто же московские дипломаты продолжали оказывать всевозможные любезности шведским послам. 11 октября 1699 года царь примкнул к союзу, но с условием начать военные действия только тогда, когда будет заключен мир с Турцией. В Константинополь был отправлен знаменитый московский дипломат думный дьяк Емельян Украинцев. Переговоры тянулись долго, и турки долго не соглашались на требования Петра, благодаря тому, что Священный союз против них теперь распался, и император, стоявший во главе союза против турок, готовясь к войне за испанское наследство, обеспечил себя отдельным миром с Турцией. Только 3 июля 1700 года Украинцеву удалось достигнуть соглашения: Турция заключила мир с уступкою Азова. Царь сдержал слово, данное польскому королю: 8 августа он получил известие о заключении мира, а 9-го уже приказал своим войскам идти к шведской границе.
Начать войну именно в тот момент представлялось особенно выгодным. Против Швеции вооружились, кроме России, еще две державы. Может быть, без союзников Петр не стал бы воевать со Швецией или начал бы войну не так скоро. Причиной войны для России было давно уже существовавшее стремление пробиться к берегам Балтийского моря. Вопрос о Балтийском побережье с его удобными гаванями, откуда можно было вести непосредственные сношения с приморскими городами Западной Европы, был не нов. Мысль о приобретении побережья в течение почти двух столетий занимала умы московских государственных людей. Еще царь Иоанн Грозный, раздраженный отказом Ливонского ордена пропустить в Москву выписанных царем из-за границы художников и мастеров и больно почувствовавший недостаток гаваней для непосредственных сношений с Западом, начал войну с Ливонским орденом, разгромил орден и достиг уже желанного берега; но вмешательство Польши повело к потере всех приобретений. Царь Алексей Михайлович, столкнувшись в 50-х годах со Швецией, возобновил попытку пробиться к морю и осаждал Ригу. Но попытка и на этот раз окончилась неудачей. Начиная борьбу со Швецией из-за Балтийского берега, Петр шел таким образом по проторенному пути. Во внешних предлогах не было недостатка: шведы владели древними русскими землями, Москва не могла примириться с этим и отказаться от них навсегда. Заключавшиеся с Швециею при царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче мирные договоры рассматривались как временные уступки, вызванные несчастиями. Был еще и самый свежий повод – оскорбление, нанесенное Петру во время его проезда через Ригу весной 1697 года губернатором Риги, не пустившим его осматривать городские укрепления.
Союзники исполнили обещание. С наступлением 1700 года датские войска вторглись в Голштинию и изгнали герцога, бежавшего за помощью к шведскому двору. Август Польский двинулся в Лифляндию и начал осаду Риги. Петр по получении вестей из Константинополя отдал приказ армии идти к Нарве. Так началась знаменитая Северная война, продолжавшаяся 21 год и имевшая огромные последствия для России. Но тотчас же, при самом начале, союзники должны были испытать совершенно противоположное тому, на что они надеялись. Карл сумел разбить их отдельно одного за другим. Первым поплатился датский король. Совершенно неожиданно, переправившись через пролив, отделяющий Швецию от Дании, с 15-тысячным войском, Карл XII подступил к Копенгагену и принудил Данию заключить мир с обеспечением безопасности Голштинии и уплатой изгнанному герцогу 260 тысяч талеров. Этот мир был подписан в Травендале в тот день, когда Петр получил известие о турецком мире, так что первый из союзников уже отпал, когда начал действовать третий. Между тем Петр в конце сентября 1700 года подступил к Нарве и начал правильную ее осаду, а Август тем временем осаждал Ригу. В ноябре Карл переправился в Ливонию и 19 ноября под Нарвою разбил наголову русских, так что сам Петр признавался, что русские войска отступили «в конфузии». Покончив с русскими, Карл бросился на саксонцев и в июле следующего 1701 года нанес им не менее сильное поражение, чем русским под Нарвой. Так меньше, чем в год, разбиты были все три союзника. Теперь Карлу предстояло решить вопрос, кого добивать прежде, Августа или Петра. Он взялся за Августа, как более сильного, по его мнению, противника: на Петра и его армию он посматривал свысока и о русской армии отзывался презрительно. «Нет никакого удовольствия, – говорил он самоуверенным тоном, – биться с русскими, потому что они не сопротивляются, как другие, а бегут. Если б река Нарова была покрыта льдом, то нам едва ли бы удалось убить хоть одного человека». Эти три победы сразу поставили Карла в глазах современников на высоту великого полководца. О нем заговорили в Европе, ему посвящали стихи и выбивали в его честь медали с хвалебными надписями. На Петра появлялось немало карикатур; так, выбита была медаль: на одной стороне изображен царь Петр, греющийся при огне своих пушек, из которых бомбы летят в Нарву. Под изображением надпись из Евангелия об апостоле Петре: «Бе же Петр стоя и греяся». На другой стороне русские бегут от Нарвы с Петром впереди, царская шапка валится с его головы, шпага брошена, он утирает слезы платком; надпись гласит: «Исшед вон, плакася горько». Но события показали, что Карл и сочинители карикатурных изображений слишком поторопились смеяться над Петром и его армией, не зная русского царя хорошенько, не зная в особенности того, как несчастие напрягало в нем энергию.



