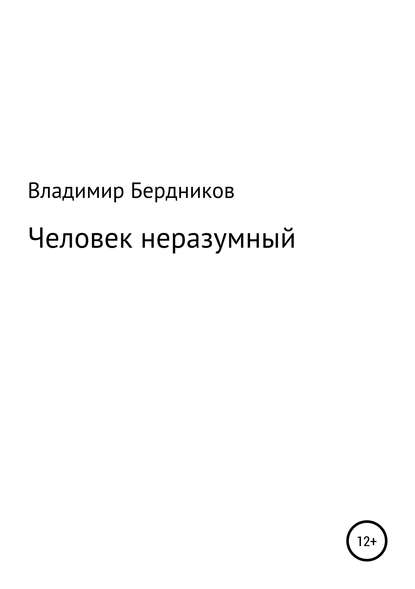 Полная версия
Полная версияЧеловек неразумный
Спор был завершён, победа Заломова казалась несомненной, но тут подал голос третий участник встречи. Лицо Лёхи напряглось и порозовело. Было видно, ему тяжело говорить, но он всё-таки выдавил из себя:
– Владислав, вы так яро защищаете атеистический дарвинизм, будто твёрдо знаете, что того Творца нет и никогда не было.
Неожиданное выступление Стукалова на стороне Демьяна обозлило Заломова, и незаметно для себя он перешёл с Лёхой на «ты».
– Алёша, а каково твоё мнение по этому вопросу?
Стукалов достал из своего объёмистого чёрного портфеля беломорину, не спеша закурил и с широкой детской улыбкой ответил:
– Да у меня, Владислав, собственно, и нет никакого мнения. Уже много веков люди задают себе этот вопрос, однако однозначного ответа до сих пор так и не получили. Так что существование Бога нельзя ни доказать, ни опровергнуть.
– Не следует ли из твоих слов, Лёша, – атаковал Заломов нового противника, что ты на пятьдесят процентов атеист, и что на проблему бытия Господа Бога тебе попросту наплевать.
Странно, что такой резкий выпад ничуть не взволновал Стукалова. Он подчёркнуто доброжелательно смотрел на Заломова и даже улыбался. Зато реакция Демьяна была впечатляющей. Он побледнел, и губы его задрожали от благородного негодования.
– Не богохульствуй, Слава! Как у тебя даже язык-то повернулся сказануть этакое?
– Господи! – не сдержался Заломов, – и это я слышу от человека, посвятившего себя изучению эволюции!
Тут в разговор снова включился Лёха.
– Видите ли, Владислав, Дёмкин шеф, доктор Кедрин, стоит на том, что теория эволюции – просто увлекательная игра, где люди пытаются, как на схоластическом диспуте, провести доказательство заведомо недоказуемых положений. Помните забавные споры средневековых богословов по проблемам типа, сколько чертей может уместиться на кончике швейной иглы? Примерно так же, по мнению Аркадия Павловича, всё обстоит и у современных эволюционистов. Некоторым спорщикам удаётся продержаться на своих позициях подольше, некоторые менее успешны; но, что характерно, в эволюцию играют лишь в стенах помещения, где проходит диспут. Когда же так называемый эволюционист покидает дискуссионный клуб, он становится кем угодно, но чаще всего простым обывателем, а порою и незарегистрированным православным. – И уже вполне окрепшим голосом Стукалов заключил: – А вы, Владислав, просто фанатик какой-то. Почему вы так волнуетесь? Вы защищаете гипотезу Дарвина с таким рвением, будто отстаиваете постулаты веры.
– Ох, ребята, – простонал Заломов, – вы меня, кажется, вконец доконали. Да как же можно из теории эволюции игру делать? Чёрт побери, Лёша, так ответь наконец: произошёл человек от каких-то бессловесных обезьян или нет?
– По гипотезе Дарвина, произошёл, – губы Стукалова растянулись в добрую, можно сказать, ласковую улыбку.
Странно, но сама эта Лёхина вежливость почти разъярила Заломова. Несколько секунд он молчал, стиснув зубы. Наконец, немного успокоившись, ледяным тоном спросил:
– А как же всё было на самом деле?
Но даже этот поставленный ребром вопрос ничуть не смутил Лёху. Его улыбающееся лицо по-прежнему источало участие и доброту.
– Видите ли, Владислав, что было на самом деле, не знает никто, и, что характерно, никого это особенно и не волнует. В нашей жизни есть проблемы куда серьёзнее, хотя, если быть до конца честным, признАюсь: я лично вовсе не уверен, что человек произошёл от обезьяны.
– И от кого же, по-твоему, он произошёл? – спросил Заломов.
– Его тело, я допускаю, действительно, могло произойти от обезьяны, – спокойно и с достоинством ответил Стукалов.
– Так в чём же дело?! – воскликнул Заломов. И трудно сказать, чего было больше в его восклицании – изумления или возмущения.
– А вот с разумом получается неувязка, – пояснил Стукалов. – Ведь у обезьян, насколько мне известно, вообще никакого разума нет. Логично предположить, что люди получили свой разум от Того, кто уже обладал им. Среди земных существ таковых пока не найдено. Значит… – перешёл Стукалов к выводу и внезапно замолчал.
– Ну так, договаривай, раз начал, – потребовал Заломов.
– Стоит ли договаривать? Разве мой вывод вам не ясен?
– Я вижу, Лёша, ты боишься назвать Его. «Ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его всуе», – процитировал Заломов вторую часть третьей заповеди.
– Я не боюсь, – ответил Стукалов спокойно и подчёркнуто вежливо, – я опасаюсь. А опасаться разумно. Гляжу я на вас, Владислав, и удивляюсь. Откуда у вас эта фанатичная нетерпимость к иной точке зрения? – Лёха замолчал, извлёк из портфеля новую папиросу и закурил. – И кстати, как вы объясните хорошо известную способность гениальных людей к творческому озарению? Откуда у них то, что принято называть искрой божьей.
Но Заломов и бровью не повёл. С этим вопросом он уже сталкивался, споря в курилке ленинградской публички.
– Действительно, порою революционная идея появляется в сознании успешного исследователя совершенно внезапно, как озарение, как гром среди ясного неба. В этот момент учёный испытывает сильнейшую радость и странную уверенность, что его новая «потрясающая» идея абсолютно верна. Подчас ему даже кажется, что она пришла к нему откуда-то извне, чуть ли не свыше. Однако краткому мигу озарения обычно предшествует длительное (многодневное, а то и многолетнее) погружение в проблему с мучительным поиском её решения. Так что озарение возникает далеко не на пустом месте. К тому же спокойный последующий анализ нередко обнаруживает, что «потрясающая» идея, доставившая автору столько радости, на деле, ошибочна. Даже у Эйнштейна было немало таких ошибок. Выходит, творческое озарение явно не тянет на божественность, и «божья искра» высекается всё тем же нашим бренным и тленным головным мозгом, накапливающим и перерабатывающим информацию.
Стукалов выслушал эти соображения Заломова с доброжелательным сочувствием. «Спасибо за интересную дискуссию», – сказал он и спокойно направился к двери.
АРКАДИЙ ПАВЛОВИЧ КЕДРИН
После последнего разговора с Анной прошло уже пять дней, а Заломов всё не мог изобрести повод снова встретиться с нею; впрочем, в полном соответствии с принципом антифатализма благоприятный случай сам нашёлся. Утром 22-го июня, проходя по коридору третьего этажа, Владислав услышал знакомый самоуверенный голос. Аркадий Павлович с кем-то громко и эмоционально обсуждал какую-то эволюционную проблему. Дверь в кабинет, где шла дискуссия, была распахнута настежь. Заломов ускорил шаг и вскоре увидел местного Демосфена, который сидел за большим полированным столом, отбросив назад свою красивую голову, окутанную драгметаллической дымкой. Очарованный столь дивным зрелищем, Заломов остановился и услышал: «Я лично глубоко убеждён, что негенная ДНК, несколько небрежно названная вами «никчёмной», безусловно, нужна организму, хотя бы как резерв его творческих возможностей, как его эволюционный потенциал». Женщина, которой предназначалась эта умная фраза, была… Анной. Она сидела в вольной позе напротив светского льва, забросив ногу на ногу, красиво курила и улыбалась. Больше в комнате никого не было. Увидев Заломова, Анна перестала улыбаться, и лицо её на мгновение приняло выражение, характерное для святых мучениц на старинных картинах. Впрочем, вскоре она вполне овладела своею мимикой, привела ноги в более скромное положение и весело махнула Заломову рукой. Наконец заметил его и Кедрин. Видно было, учёный напряжённо вспоминает, где же видал он этого паренька, и, вспомнив, весело загрохотал:
– А! Сотрудник Егора Петровича, ради сибирской науки покинувший стены своей северостоличной Alma mater. Заходите-заходите, не стесняйтесь в родном отечестве. Прошу вас, – хозяин кабинета широким жестом указал на свободный стул рядом с Анной и тут же начал новую тему: – Так вот, коллеги, на прошлой неделе был я в ленинградском Эрмитаже. В зале Рубенса всё снова поменяли местами: «Изгнание из рая» повесили прямо над входом, а «Союз Земли и Воды» – над выходом. Кстати, как-то прогуливаясь по Метрополитен-музею в Нью-Йорке, я не без удовольствия отметил, что их коллекция Рубенса просто жалка в сравнении с нашей. Не правда ли, странно, такая богатая, такая преуспевающая страна, а в культуре гордиться, фактически, нечем. Просто обхохочешься! Деньги есть, образованные люди есть, а высокой культуры – нет! Как видите, я и тут отыскал парадокс, как и положено для людей, отмеченных Перстом.
Кедрин весело засмеялся и окинул победным взглядом своих улыбающихся, но внутренне собранных слушателей.
– Может быть, причина кроется в сравнительной молодости Соединенных Штатов, – заметила Анна.
– Ну, знаете ли, основатели Североамериканских Соединённых Штатов были отнюдь не дикарями. За плечами колонистов стояли столетия европейской традиции. Так почему же их культура до сих пор всё ещё бегает в своих нелепых звёздно-полосатых шортиках под стол, даже не сгибая пухлых ножек в грязноватых коленках? – продолжал ёрничать Кедрин.
– Ну, а наша культура, вы полагаете, вся цветёт и пахнет? – слегка сгрубила Анна и тут же попыталась исправить свою ненамеренную бестактность улыбкой, которую можно было отнести к разряду слегка угодливых. И всё-таки слова Анны сбили Аркадия Павловича с мысли. Он замолчал, потянулся к лежащему на столе помпезному серебряному портсигару, нервно извлёк из него длинную сигарету с золотым ободком вокруг фильтра и закурил. Возникшей паузой воспользовалась Анна:
– Влад, представьте себе, – глаза девушки радостно засияли, – теперь я сотрудница вашего института! Аркадий Павлович взял меня в свою лабораторию.
– Вот так дела! – изумился Заломов. – И чем же вы собираетесь тут заняться?
– Аркадий Павлович предложил мне проверить… – но Анна не смогла закончить фразу.
– Вся инициатива, – с жаром перебил её Кедрин, – всецело принадлежит сей юной, но подающей большие надежды интеллектуалке. Я же лично никогда не поверю, что хромосомы живых тел сплошь усеяны генными трупиками. Более того, я глубоко убеждён, что эти якобы мёртвые гены на самом деле лишь спят и терпеливо ждут часа своего пробуждения, чтобы, восстав после долгого сна, стряхнуть с себя пыль мильонолетий и громко заявить о себе во весь свой вполне ещё зычный голос. В связи с этим рискну высказать нетривиальную догадку: а не состоит ли главное предназначение рода человеческого в том, чтобы научиться использовать в своих корыстных целях те огромные, но доселе скрытые возможности своего собственного наследственного материала. Я отнюдь не исключаю, что, пробуждая гены наших безумно далёких эволюционных предков, мы могли бы обзавестись каким-нибудь преинтересным органом, вроде теменного глаза рептилий. Представляю, как оценили бы третий глаз наши доблестные бойцы невидимого фронта.
Пока Аркадий Павлович наполнял свои мощные лёгкие очередной порцией кислорода, Заломов попробовал вернуться к прерванному разговору с Анной.
– И всё-таки, чем вы собираетесь тут заняться? – повторил он свой вопрос.
– Я хотела бы проследить, как скоро гены превращаются в ДНК-овый хлам, когда за ними перестаёт присматривать естественный отбор, – негромко ответила Анна, бросив опасливый взгляд на Кедрина.
– Объект? – быстро спросил Заломов.
– Пока этот вопрос мы ещё не утрясли. Наверное, проще всего взять дрозофилу.
– А признак?
– Скажем, глаза, – Анна едва заметно подмигнула Заломову. – Если мух поколение за поколением выращивать в полной темноте, то гены, ответственные за зрение, перестанут проверяться отбором, и огромные мушиные глазки начнут помаленьку терять былую зоркость и уменьшаться в размерах.
– Как у животных, заброшенных судьбой на какой-нибудь миллиончик лет в кромешную тьму подземных пещер? – подыграл Заломов.
– Да, – ответила она вполне серьёзно.
– Но на такой опыт всей вашей жизни не хватит, – заметил Заломов.
– Ну и пусть. Да и кому нужна эта моя жизнь?! – с вызовом воскликнула Анна, и страдальческое выражение на мгновенье исказило её красивое лицо.
От этих слов и от этой мимики у Заломова перехватило дыхание.
– Что с вами? – спросил он.
– Влад, пожалуйста, не обращайте внимание. Всё у меня славно и мило. Считайте, что с этим мы проехали.
Пока Заломов с Анной вели свой быстрый диалог, на лице Аркадия Павловича играла загадочная, можно даже сказать, отрешённая улыбка, ибо мысли его унеслись далеко за тему разговора.
– Анна Дмитревна, – снова загремел его драматический баритон, – смею вас заверить, вам нельзя хоронить себя в нашем захолустном Краснодырске. Вы созданы для жизни более яркой, более насыщенной событиями глобальной значимости. При вашей внешности и, простите за неуклюжий комплимент, при вашем мужском складе ума вы могли бы замахнуться на многое. Не сочтите за лесть, но вы могли бы сделаться новой Матой Хари и активно воздействовать на мировую политику… и, стало быть, вы могли бы менять по своему произволу ход самой истории!
Высказав столь нестандартную мысль, учёный пару секунд оторопело глядел на Анну и вдруг, вскинув руки, воскликнул: «Шутка!» и захохотал.
Заломов и Анна громко и дружно рассмеялись. Они откровенно смотрели в глаза друг другу и смеялись; смеялись долго, явно дольше, чем следовало, и смеяться им было очень приятно. Наконец, смахнув слёзы смеха, Анна заговорила:
– Аркадий Павлович, спасибо за шутку, но, похоже, я безнадёжно упустила возможность стать международной шпионкой. Страшный и ужасный вирус науки заразил и поразил меня, и теперь, боюсь, я уже не смогу жить без эволюции.
– Ну что вы говорите, Анна Дмитревна? – возобновил Кедрин пение своей серенады. – И науку, и политику, и всё остальное можно совместить без особого труда. Защитите докторскую (с моей помощью сделать это будет несложно) и приобретёте имидж прекрасной интеллектуалки. Вот и вся недолга.
– Спасибо за добрые слова, Аркадий Павлович, но какой имидж может быть у старушки? Ведь на получение упомянутой вами степени уйдёт ужасная бездна времени, боюсь, лет двадцать, не меньше.
– Ошибаетесь, Анна Дмитревна. Всего-то три-четыре быстролётных годика. Если будете работать со мною, то все препятствия – и формальные и неформальные – будут преодолены быстро, легко и без потери достоинства, – с лица Кедрина слетела его обычная ироничная улыбка, и очень серьёзным тоном он добавил: – Поверьте мне. Я знаю, о чём говорю… И вообще, – да простят меня ближние мои! – я много знаю… даже слишком много.
– Но как же так? – возразила Анна. – Ведь эксперимент по слежению за деградацией генов не может быть столь скоротечным.
– Вот потому-то, Анна Дмитревна, вам и следует отказаться от плодовых мушек. Ведь, не ровён час, и не заметите, как прикипите своею нежной девичьей душой к этим малюткам, заключённым в изящные, но на удивление прочные хитиновые хитончики.
– Ну, и что же вы могли бы мне предложить? – спросила Анна, сверкнув своей всепобеждающей улыбкой. И улыбнулась она, как оказалось, не зря, ибо Кедрин вдруг совсем разоткровенничался:
– Анна Дмитревна, для вас я готов пожертвовать одной из моих лучших многоходовок. Вы, конечно, знаете, что генетическим сырьём эволюции являются мутации. Так вот, если человек, как многие полагают, является самым последним, завершающим актом развития живой материи, то скорость мутирования у людей должна быть существенно ниже, чем у братьев наших меньших. Однако бесстрастные факты свидетельствуют скорее об обратном. Не означает ли это, что план Великого Демиурга на самом деле ещё далёк от завершения, и что вскоре на Земле появится существо ещё более совершенное, чем Homo sapiens. Так вот, с учётом тенденций в эволюции информационных молекул вы могли бы заняться анализом строения белков у сверхразумного существа будущего, у того таинственного спешащего нам на смену Homo supersapiens, – Кедрин глубокомысленно вздохнул и добавил: – Правда, придёт его пора не ране, чем «когда народы, распри позабыв, в единую семью объединятся».
Миндалевидные глаза Анны на мгновение стали совершенно круглыми от неподдельного изумления и радостного восторга.
– Аркадий Павлович, да вы просто гений! – воскликнула она. – Но как можно исследовать строение того, чего ещё нет и никогда не было?!
Кедрин слегка зарделся от женского восхищения.
– Анна Дмитревна, вижу я, вы уже догадались, что эксперимент в данном случае совершенно не годится. Именно поэтому вам и надлежит стать биологом-теоретиком.
– Простите, Аркадий Павлович, как это стать теоретиком? – в лице и в тоне Анны читалось недоумение, переходящее в лёгкое негодование. Впрочем, очень скоро глаза девушки сузились до щёлочек, и на смугло-розовом лице её снова заиграла кокетливая улыбка. – Аркадий Павлович, всё-таки мне хочется быть ближе к фактам, ближе к эксперименту. Я боюсь строить воздушные замки, а потом их изучать. Похоже, вы малость переоцениваете мой молодёжный романтизм. К тому же для занятия теорией нужны известные природные данные. Да и стоит ли мне специализироваться в теории? Ведь в биологии, в отличие, скажем, от современной физики, главная роль принадлежит не теории, а эксперименту.
– Никак нет, Анна Дмитревна. Вот здесь вы уж точно ошибаетесь. Не секрет, что биология уже достигла зрелого возраста. Пора, наконец, и ей прикрыть свою экспериментальную наготу сверкающими шелками добротной теории. А вообще-то, вы коснулись величайшей философской контроверзы – соотношения идеи и факта, теории и эксперимента, – воодушевлённо гремел Кедрин. – Конечно, я не могу не уважать экспериментаторов. Их деятельность, пожалуй, не только полезна, но и необходима для развития науки, и всё-таки главная, ведущая, роль, безусловно, принадлежит теоретикам – учёным-творцам, способным порождать, практически, из ничего совершенно новые идеи. Открыть на кончике пера новую планету, как это сделал когда-то отнюдь не убогий французик Урбен Жан-Жозеф Леверье, – вот в чём истинное предназначение воистину талантливого учёного, отмеченного Перстом.
– Аркадий Павлович, как красиво вы говорите! Вы, наверное, писали стихи в свои школьные годы? – спросила Анна, явно кокетничая.
– Как вы проницательны, Анна Дмитревна, – на лице Кедрина заиграла самодовольная улыбка. – Ну кто же из отмеченных Перстом не грешил в юности стихосложением? Должен сознаться, лет в четырнадцать-пятнадцать я даже сочинил трагедию с незатейливым названием «Марк Туллий Цицерон».
– И о чём же вы там писали? – не смогла сдержать любопытства Анна.
– Честно сказать, я почти всё позабыл, – Кедрин картинно задумался, но вскоре напряжённое выражение его лица сменилось на мягкое и даже слегка печальное. – Сейчас я попробую воспроизвести вам кусочек из речи Цицерона против Цезаря, – и, гордо задрав подбородок, Аркадий Павлович эффектно продекламировал:
Чем недоволен Цезарь? Объясните!
Быть может, беден он, иль болен, или глуп,
Или дурён лицом, иль малосилен? —
Нет, римляне! Богат он и умён,
И род его восходит к Афродите.
Прекрасен лик его, здоровьем пышет тело…
Но… Цезарь наш является рабом
Неукротимой и жестокой страсти.
Отравлен дух его преступною мечтой,
Манит его сиянье высшей власти.
Да, римляне! Он хощет стать царём!
«Потрясающе!» – воскликнула Анна вполне искренне. Все трое замолчали, и на лице Кедрина застыло гордое выражение. «Да, – мелькнуло у Заломова, – замена «хочет» на древнерусское «хощет» с этим долго звучащим «щ», пожалуй, добавляет веса словам Цицерона. Но откуда у юного Кедрина такие познания в древнерусском? – Ах, да, это словцо он мог извлечь из «Слова о полку Игореве». Древнерусская поэма о походе Игоря входила в школьную программу, и фрагмент с «хощу» даже рекомендовали учить наизусть».
ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ
– Но позвольте вернуться к науке, – прервала затянувшееся молчание Анна. – Аркадий Павлович, как же вам удалось превратиться из подающего надежды поэта в биолога-теоретика? Ведь, насколько мне известно, на биофаках теоретиков не готовят. Вы почувствовали в себе склонность к теории ещё в юности или постепенно становились теоретиком, как бы вырастая из экспериментатора?
Ответ Кедрина поразил его собеседников.
– Я стал теоретиком потому, что просто не смог бы работать биохимиком-экспериментатором.
– Как это понять? – почти вскричала Анна.
И Кедрин пояснил:
– Да очень просто. Узнаете – обхохочетесь. Открылось это на большом практикуме в Московском университете. Из моих дырявых рук регулярно выпадали пробирки, колбы, цилиндры и прочая хрупкая стеклянная утварь; а центрифужные стаканчики – да будь они трижды неладны! – я с поразительным постоянством забывал уравновесить. И наконец однажды я умудрился разбить бутыль с хлороформом. Только быстрая реакция находчивого приятеля, кстати, ставшего впоследствии крупным биохимиком, спасла от наркозного усыпления меня, да и всех, кто был в лаборатории: то бишь двух десятков студентов, пары лаборантов и одного старенького профессора. Этот случай окончательно показал мне, что моё предназначение, мой путь, моё д-а-а-о (как бы сказал мудрейший Лао-Цзы, буде он жив) – теория. Конечно, для теории нужны мозги с повышенным содержанием серого вещества, но уже в юности туманной я догадывался, что данная анатомическая субстанция серого цвета, но отнюдь не серого качества, у меня имеет место быть, да и сейчас, уже на склоне лет, она всё ещё служит мне верой-правдой, хотя иной раз и поскрипывает.
Анна весело рассмеялась, а Заломов недовольно заёрзал на стуле. Сам он был пока никем – ни теоретиком, ни экспериментатором – и всё-таки, трудясь над своим дипломом, успел пережить подлинные творческие муки. Полгода промучился, изобретая новый метод фракционирования белков. Затем с помощью своего метода получал новые данные. Забавно, что на этот центральный этап работы у него ушёл всего месяц. А потом целых три месяца ломал голову над теоретической моделью, объясняющей то, что получил.
В ходе дипломной работы у Заломова обнаружилась одна черта, которая нередко удивляла, а временами даже смущала сотрудников кафедры. Он поразительно тонко чувствовал ошибки и слабые места в интерпретации экспериментальных результатов, и чужих, и своих. Вероятно, причина крылась в особенности организации его памяти. Заломов как-то умудрялся укладывать свои знания в такую стройную и замкнутую систему, где ни один факт не противоречил другому. Наверное, поэтому он испытывал дискомфорт при встрече с идеями или опытными данными, входящими в противоречие с его системой знаний. Это чувство дискомфорта всегда шло впереди логического объяснения. Оно было чем-то вроде чувства фальши у музыканта. Заломов искренне не понимал, как удаётся некоторым биологам, не испытывая ни малейших болевых ощущений, совмещать в одной голове дарвинизм с верой в божественное происхождение человеческого разума.
Итак, отношение Кедрина к экспериментаторам задело Заломова за живое.
– Уж не думаете ли вы, Аркадий Павлович, что экспериментатору хороший мозг не больно-то нужен?
– О, бедные-бедные экспериментаторы! О, Буй-Тур же вы мой, Владиславе! – снова блеснул Кедрин знанием «Слова о полку Игореве». – Вижу я, к чему вы клоните, и всё-таки не побоюсь заметить, не побоюсь ответственно заявить, что экспериментатору хорошие мозги всего лишь желательны, но вовсе не обязательны.
– Так вы допускаете, что можно делать открытия, и не обладая упомянутой вами, хорошо выраженной серой мозговой субстанцией? – спросил Заломов с плохо скрываемой иронией.
– Молодой человек, сейчас вы находитесь в самом начале своего пути в науке. Вы мне симпатичны, и я как человек, ушагавший по жизни чуть дальше вашего, готов поделиться крупицами своего опыта. Вот вам одна из таких крупиц: открытия, дорогой Владислав, делают теоретики, а экспериментаторы довольствуются лишь находками. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы заметить смысловую разницу между словами «находка» и «открытие». Впрочем, я готов признать, что экспериментаторы должны иметь превосходный спинной мозг да и ещё, пожалуй, качественный мозжечок, чтобы движения этих людей в своих вечно грязных, дырявых и неглаженых халатах были бы точными, лёгкими и проворными. Тогда их данные будут аккуратными и надёжными. Конечно, экспериментаторы могли бы и сами сделать все сопоставления и выводы, но, как правило, они к этому не способны. А впрочем, сделают, не сделают, какая разница? что с них возьмёшь? Главное, чтобы их результаты были опубликованы в приличном журнале и попались бы на глаза приличному теоретику.
– Влад, а каково ваше мнение по этому вопросу? – обратилась Анна к Заломову, и глаза её снова стали печальными и будто слегка испуганными.
– А мне кажется, – заговорил Заломов быстро и с подъёмом, – что сколько бы Платон с Аристотелем ни рассуждали, сидя перед телевизором, они никогда бы не догадались, как этот ящик работает. Думаю, для объяснения столь очевидного чуда им пришлось бы привлечь богов или демонов. А как до недавнего времени можно было ответить на вопрос Экклезиаста: «Откуда кости в беременной утробе?». Ясно, что и здесь требовалась всё та же всеспасительная гипотеза о сверхъестественных силах. Но мы-то отдаём себе отчёт, сколько знаний нужно было добыть человечеству для создания телевизора или для понимания механизмов развития зародыша. И знания эти мы никогда бы не получили без эксперимента, то есть без нашего активного воздействия на объект исследования. Ведь ясно же, что для открытия законов природы одних рассуждений мало. Например, Аристотель – общепризнанный чемпион по рассуждениям – утверждал в своей «Физике», что тяжёлые тела падают на землю быстрее лёгких; и лишь Галилей, сбрасывая с Пизанской башни разные по весу предметы и катая шары по наклонной плоскости, показал, что создатель логики в данном пункте капитально ошибался.

